Долг
1
— Ну так вы что – украли эти деньги? – устало переспросил капитан Бородинов.
— Нет. Не украла, а нашла. Я же вам подробно описала. Извольте, могу еще раз повторить, если вы не поняли.
Бородинов безнадежно отвернулся к окну.
Над грязным, затоптанным двором отделения милиции висело клочкастое небо.
Посетительница бормотала неторопливо; голос ее, глухой и размеренный, струился по комнате от стены до стены, переплетался сам с собою, точно серая, липкая, тоскливая паутина.
-…Я живу на улице Ленина… Сегодня утром я пошла в сберкассу… Потом я возвращалась домой мимо рынка… У перехода я поскользнулась и упала… А когда я поднималась, то увидела, что в снегу лежит какая-то пачка… Я посмотрела, там оказались деньги… И я…
На вид ей было здорово за семьдесят. Лицо ее, перерезанное поперечными морщинами, все сселось и пожелтело от времени. Черное пальто – до того старое и выношенное, что каждая нитка виднелась по отдельности от соседних – висело плоско, будто под ним не имелось даже скелета. Старуха походила на заурядную нищенку, каких прежде гоняли из подземных переходов. Однако сидела она с такой величественной осанкой, точно нечто тайное, очень важное, незримо возвышало ее над всем окружающим миром с его пустыми хлопотами; это ощущение непонятой чужой тайны одновременно и раздражало и трогало капитана.
— Я уже слышал, слышал… — Бородинов тоскливо помахал рукой, отгоняя несуществующую муху.
На душе у него скреблись кошки.
Ему было тошно, как бывает всякому нормальному человеку, когда в жизнь вторгаются неприятности, которые невозможно побороть. Сегодня утром капитан узнал, что с февраля в городе отменяются винные талоны. Это означало, что его семья лишалась дополнительного дохода, равного стоимости трехсот граммов рыночной говядины или килограмма сыра. И давняя, иссушившая душу ненависть к правительству – которое он должен был охранять и защищать по долгу службы! – ко всем, сидящим выше и дальше, сегодня жгла Бородинова особенно остро, достигнув своего предела.
И тут еще. как назло, привязалась эта малохольная посетительница, от которой он никак не мог отвязаться.
Старуха замолчала, в очередной раз досказав все до толчки.
Бородинов нехотя повернулся к ней.
Она выпростала из рукава полупрозрачную руку и толкнула в его сторону пачку коричневых купюр, лежащую на краю стола.
— Ну, так не украли же вы эти деньги! – уныло вздохнул Бородинов, снова начиная про белого бычка. – Вы их честно нашли, и это не клад. Так оставьте же их себе – это я вам говорю как представитель власти!
— Себе?! – старуха гневно уставилась на капитана, будто он предложил ей совершить какое-то чудовищное преступление.
От ее взгляда он против воли вздрогнул.
— Мне чужого не надо. Порядочный гражданин обязан любую находку сдавать в органы. Я сорок семь лет учила детей всегда жить по совести и чести, и за всю жизнь сама ни разу не нарушила своих принципов!
— Но послу-шайте!
Капитан приложил ладонь к груди, почти физически ощущая, что от упрямой старухи его отделяет невидимая, но совершенно непрошибаемая стена, сквозь которую они вряд ли сумеют не только понять, но даже просто услышать друг друга.
— Вы на себя-то посмотрите! У вас какая пенсия? Или, может, вы капиталом владеете? Наследство получили? Скупили вовремя нефтяные акции? Лишние деньги завелись? А?!
Старуха молчала, глядя поверх него.
Бородинова грызла серая тоска. От тоски и от злости болели зубы – все разом, сверху и снизу, с обеих сторон и спереди. И он принципиально не мог понять человека, отказывающегося от денег, честно найденных на улице. Или старуха была просто не в своем уме?
— У вас, наверное, и денег-то нет, — проговорил он, не зная, что еще добавить.
— Есть.
Она запустила руку куда-то в недра пальто, и в костлявом кулаке ее показались три измятых червонца.
— Вот, облигации Государственного займа погасила. За пятьдесят первый год. А роскошь мне ни к чему. Мне кажется, человек должен разделять со своей Родиной все тяготы ее судьбы, сколь трудными бы они ни оказались.
Сумасшедшая, истинный бог сумасшедшая; и как только с нею говорить?
Бородинов потер виски.
Зачем ему все это понадобилось, почему он не оформил протокол, а ни с того ни с сего принялся уговаривать старуху забрать деньги себе? Он и сам точно не знал. Просто помимо жалость, охватившей его при виде этого несчастного существа, к нему исподволь явилось одно странное чувство. Точно собственная душа его могла ненадолго обрести покой, если бы удалось просто так сделать доброе дело…
— Вы, небось, еще и в «черный вторник» обанкротились?.. Ну, – пояснил он, видя, что старуха не понимает в упор. – В тот день, когда купюры обменивали, помните?
— А, тогда… Восемьсот рублей пропало, — с леденящим душу безразличием ответила она. – Дома лежали, для похорон на всякий случай. Не было сил в кассе стоять… Но ничего страшного – непохороненным до сих пор еще ни один человек не остался.
— Ну вот видите! Поймите же наконец!
Бородинов пропустил мимо ушей последнюю фразу; он говорил с расстановкой, силясь хранить терпеливый тон, хотя старуха сидела перед ним уже почти полчаса.
— Хороший человек таких денег в карманах не носит и просто так по дороге не теряет. Это кооператор какой-нибудь выронил. Или грузин с базара, или таксист-спекулянт. В общем. жулик какой-то. Потерял и даже не хватился. Так возьмите же их себе. Вам их бог послал!
Капитану показалось, что верный ключ наконец найден, и он ухватился за него.
— Бог! Послал! Увидел сверху все и решил навести справедливость. Отнял у богатого и дал бедному!
— Мне все равно, кто их потерял, мне чужого не надо. А бог… — губы старухи скривились в странноватой, мертвой усмешке. – Бога нет; его выдумала буржуазия для одурачивания народных масс. Найдя эти деньги, я обязана сдать их в милицию. Если ничье. пусть пополнят госбюджет. Поступать так – долг каждого порядочного человека.
— Долг?! — Бородинов взорвался, не в силах дальше сдерживаться. – И вы еще говорите о долге?! Какой долг перед кем долг?! Черт побери! «До-олг»!.. Перед обществом, что тли? Или перед государством? Да это же чепуха! «Буржуазия, одурачивала…» Да это таких, как вы, семьдесят лет и дурачили!
Он грохнул кулаком по папке с протоколами.
— Долг, черт возьми! Да поймите же вы! Не вы перед обществом, а общество перед вами в долгу! В не-оп-лат-ном! Перед всем вашим поколением. У вас же государство, о котором вы так печетесь, всю жизнь в долг забрало! А взамен – фигу с маслом… и тем по талонам! Из вас же с самой молодости все жилы тянули; вздохнуть свободно не давали; даже нормальную любовь отняли и подменили этим самым «долгом»! Лишили вас всего, что должно быть в жизни нормальной женщины, черт возьми! А ради чего – ради чего, ответьте мне, а?!
Бородинов тяжело вздохнул и перевел дух.
— Молчите?! Ладно, я тоже в школе учился, знаю наизусть: «Ради светлого будущего»! Но чьего, чьего будущего-то?! Вашего?! Как бы не так! Тех, кто всю эту плешь в ваши головы втирал!
Его несло; он уже не мог остановиться, распаленная ненавистью мысль слепо тыкалась в красных сумерках, перескакивая с предмета на предмет.
— «В госбюджет» — на черную «Волгу» еще одному боярину?! Пенсия ваша – тьфу, а он пусть ездит, зад себе отращивает?! А облигации эти самые?! Отняли полнокровные деньги, а теперь вернули – три бумажки с портретом, которых даже для туалета не хватит! У вас же все отняли – неужели вы этого не понимаете?!
Старуха сидела, как истукан – и Бородинов понял, что слова его отскакивают прочь, будто пистолетные пули от бетона.
— Мало что отняли! Так теперь вас же и оболгали на старости лет! Поняли, что больше из вас ничего не выжать – так в грязи изваляли, чтобы выбрасывать не жалко было! Вот вы говорите, всю жизнь детей учили. Где они, эти ваши дети? Где?!
В угаре он обвел руками кабинет, заглянул под стол.
— Да никому до вас дела нет. Всем на вас плевать. Упадете – об вас все ноги вытрут и перешагнут! Попомните мои слова!
Бородинов обмахнул ладонью вспотевший лоб.
— А завтра эта сволочь!..
Капитан яростно дернул затылком за спину, вверх, не думая о своих обязанностях блюстителя государственности.
— Эта скотина повысит цены! Раз и еще раз! Будет молоко червонец литр, хлеб червонец буханка, квартплата червонец метр! А? Что тогда скажете насчет долга? Думаете, компенсацию начислят? Держите карман шире, еще каким-нибудь налогом они вас обложат, квартиру за сто тысяч заставят выкупать!.. Сволочи, козлы, шайка педерастов, слуги народные, мать их драть вперегрёб… Так возьмите же эти деньги, черт вас побери! Там же десять тысяч! Вам года на три хватит. А то и на четыре.
Зубы болели так, что каждое слово выстреливало внутрь черепа.
Бородинов отчаянно потрогал щеки, сунулся в китель за анальгином. чтоб сжевать пару таблеток, вспомнил, как съел последние вчера, а в аптеке их давно нет, выругался про себя матом и наконец поднял глаза.
И увидел, что старухи уже нет перед ни; она медленно шагала к двери.
Спина ее, прямая и сухая, напоминала старую гладильную доску и выражала крайнюю степень презрения ко всем услышанным советам; и капитан вдруг подумал, что они действительно существуют в разных измерениях. И если он, Бородинов, отрекшись от прежних идеалов, видит теперь смысл лишь в борьбе за жизнь себя и своей семьи, и будет грызть зубами железо и перервет горло каждому, кто посягнет на его собственные крохи – то эта старуха. точно, рехнулась, проведя столько лет в гигантском дурдоме на двести миллионов коек. Она никогда не высвободится из плена костяных догм, не сделает ни единого шага против того, чему ее учили в пионерах… И, кстати. не пойдет к гастроному продавать ненужные винные талоны. предпочтет умереть с голода, но не унизит себя недостойным – с ее точки зрения – поступком, не согнет свою прямую иссохшую спину
И кто из них сильней?!
Он вскочил, больно ударившись коленом об угол стола, с ненавистью схватил деньги, выбежал в коридор.
Старуха шаркала к выходу, через силу переставляя ноги в ужасных опорках.
Он нагнал ее – бросился, как леопард, резко и грубо пихнул сверток ей в карман.
Потом метнулся обратно к себе и торопливо щелкнул замком.
Снаружи послышались вялые шаги. потом кто-то поцарапался в дверь. Бородинов стоял тихо, скрипя больными зубами и надеясь, что старуха смирится и уйдет.
Потом. выждав для верности еще пару минут, осторожно отпер и выглянул наружу.
Коридор был пуст, если не считать двух дежурных сержантов, лениво тащивших под мышки здоровенному пьяницу с разбитой мордой.
А у самого порога лежала пачка денег.
Бородинов длинно выругался, понял ее с пола и пошел к столу оформлять протокол.
2
— Мам, кто там? – крикнула дочка из ванной. — Я сейчас, пускай проходят!
— Сиди покойно, — ответила Светлана Дмитриевна. – Это ко мне пришли.
Соседка вошла в прихожую и замерла у двери, не решаясь наступить наг яркую вьетнамскую циновку своими ботами.
— Проходите, проходите, садитесь, не стесняйтесь… — виновато засуетилась Светлана Дмитриевна, хотя никакой вины перед соседкой не имела. – Давайте чайку попьем?
— Нет, — глухо отозвалась соседка. – Благодарю. Я уже пила. Я вам деньги принесла. Долг. С прошлого месяца.
— Да вы что…
Светлане Дмитриевна вдруг сделалось неловки принимать собственные деньги из подрагивающей старушечьей руки.
— Мне сейчас не надо. Не надо, у нас есть, есть у нас. Оставьте, оставьте себе пока…
— Нет, я обязана вернуть.
Соседка твердо покачала головой и выложила на тумбочку три десятирублевки.
— Не могу оставлять за собой долгов. Даже самых малых.
— Да, конечно, конечно, кто спорит… Но ведь до пенсии целых две недели. Как же вы? Откуда?..
Непонятно было, что можно сказать еще.
— Подождите, я сейчас… Я колбасу вчера отоварила – сейчас, подождите минуточку… Сейчас, я быстро…
Соседка не ответила.
Светлана Дмитриевна побежала на кухню, принялась лихорадочно искать колбасу, нож, батон, масло… и что-то еще, самое неизвестное что. Она тормошилась бестолково, сознавая напрасность хлопот, но продолжая их механически, для успокоения совести.
Когда она вернулась в прихожую с готовым свертком бутербродов – приготовленных как будто кому-то на дорогу, хотя никакой дороги не было – соседка уже исчезла. В воздухе еще пахло тленом от древнего пальто, таким чужим в их чистенькой квартире.
Светлана Дмитриевна молча прислонилась к дверному косяку, чувствуя одновременно и досаду и… облегчение.
Было ясно, что нет смысла догонять соседку, еще раз предлагать ей еду или деньги. хотя бы в долг; в уничтожающей, нечеловеческой своей гордости та ничего не возьмет. Хотя после смерти старика мужа осталась одна-одинешенька и странно, как еще существовала на свою пенсию. Бедность в одиночестве или одиночество в бедности – одно и то же, и нет ничего хуже и страшней…
Светлана Дмитриевна подумала, что послезавтра, когда домашние разбегутся по делам, надо все-таки навестить соседку, любыми силами завлечь к себе, усадить за стол, незаметно накормить и напоить – хотя бы, по крайней мере, перекинуться с нею несколькими человеческими словами.
Он думала о том. прекрасно зная, что все – пустое.
На соседкином лице давно уже поселилось отрешенное. потустороннее выражение, точно она заживо распростилась с этим миром, отгородилась от него. Это казалось страшным; такая перемена в еще живом человеке пугала – но что она, Светлана Дмитриевна, сама пережившая пору первой молодости и не имеющая избытка сил, могла поделать с чужими неразрешимыми проблемами?
3
— И не сидится же козлу в своем огороде, — сокрушенно бормотал дежуривший по номеру Рогов, склоняясь над серым листом первой полосы. – Теперь в Японию понесла нелегкая – а мне из-за него всю полосу псу под хвост… Й-епона мать!
Редакция только начинала расшевеливаться послы выходных, нехотя собираясь к утренней планерке. В отделе было еще почти не накурено. Но у Рогова тоскливо болела голова.
Вчера в воскресенье, до тошноты наслушавшись тещиных тревог поводу приватизации жилья, он заявил домашним, что его вызвали на ночное дежурство к телетайпу, а сам созвонился с приятелем и они вдвоем поехали к шлюхам в общежитие театрального института. Нынче он уже не помнил своих успехов по женской линии. Помнил только водку – реку водки, море водки, океан водки – за которой несколько раз в течение ночи посылали в отбойный таксопарк.
И теперь череп изнутри долбили отбойными молотками, во рту словно кошки нагадили, и не хотелось думать совершенно ни о чем. Тем более, что вчера, по самым скромным подсчетам, он просадил рублей семьдесят – треть зарплаты – и теперь было совершенно неясно, как скрыть это от жены.
И меньше всего тянуло сейчас заниматься первой полосой, этой газетной проституткой, меняющей одежды по мановению указующего перста. К тому же угнетала никчемность хлопот: ведь ни один нормальный человек вообще не читает первых полос, а любое упоминание о правительстве в наше время вызывало одни лишь матюги. И Рогову как профессионалу было искренне жаль собственного труда.
Он вздохнул, поднял голову, невидяще посмотрел не бедрастую блондинку в черных кожаных шортах и таком же бюстгальтере, прикнопленную к двери отдела с тыльной стороны. Потом снова уперся свинцовыми глазами в полосу и очень грязно выругался.
— Репортаж из крематория сними, — лениво посоветовал старый газетный волк Данилевич.
Который с раннего утра маялся в ожидании редакционной машины, чтобы ехать по заданию в аэропорт.
— Да пробовал уже, – тоскливо отмахнулся Рогов. – Все равно не лезет. Но в половую щель, ни в Красную Армию.
— Тогда… — Данилевич заглянул сверху через его плечо. – Тогда отрежь к черту хвост у «Криминальной хроники» и спусти ее до подвала.
— Можно попробовать, — ответил Рогов.
Он остро подумал, что стоит, пожалуй, завязывать с пьянством, пока голова совсем не разучилась соображать. Но тут же кто-то внутренний подсказал: «Неплохо бы сегодня, в последний раз перед началом новой жизни, перепустить пивка… кружечку, а лучше две!»
— Учись, сынок, покуда батько жив!
Рогов приложил к хронике два пальца, отмерил и не читая взял в рамку последний абзац. Глаз его непроизвольно упал на текст, и он поежился. Напечатанное там было очень горьким и безрадостным.
Вообще-то вся эта самая «Криминальная хроника», которой они из последних сил пытались привлечь читателя к первой полосе, была как отчаянный вопль страдания; за каждой ее строкой пряталось чье-то горе, чья-то боль, кровь, проломленный череп… И это ощущение чужой беды, плотно влитой в узкий столбец текста, тревожило и мучило Рогова даже сквозь скорлупу собственных проблем.
И он опять злобно подумал о несправедливости: никто не узнает вычеркнутого им, известие о визите шишки в Японию куда важнее мытарств отдельно взятой человеческой души…
А может, этот абзац все-таки оставить? – Роговский карандаш нерешительно завис над бумагой. – Убрать что-нибудь полегче? например, угон «Жигулей» от площади Конституции? квартирную кражу с бульвара Новаторов? или поножовщину на Товарищеском проспекте?..
-…Мужики, рубль за подсказку! – беззаботно подал голос Антонов.
Который с пятницы остался должен сто двадцать строк на культурную полосу и теперь, не родив ничего путного, правил авторский материал, удачно подвернувшийся в папке.
— Никак не врублюсь… Как правильно: «пре-зинтация», или «при-зентация»?
— Пре-зент-та-ци-я, — четко продиктовал незаменимый Данилевич.
— Отлично, — пробубнил Антонов, черкая рукопись. – Пре-зе… пре-зе…
— Слышь, Валера! – окликнул его Рогов.
Созвучие этих слогов мгновенно родило ассоциации, освобождая его от ненужных мыслей.
— Около меня в коммерческом лежат презервативы. Австрийские, с усами. Семера десяток,
Пачка импортных изделий стоила пять рублей. Но Рогов решил, что, сорвав с Антонова барыш, он не войдет в противоречие с нормами нового экономического мышления, насаждаемого в массах их собственной газетой – но зато, если и не подправит свои пошатнувшиеся финансы, то хоть заработает на пиво… За которым, кстати, можно было выбежать к ларьку прямо сейчас, после того, как полоса будет отнесена в типографию.
— Конечно надо! – радостно закричал Антонов. – Возьми-ка штук полста!
Рогов молниеносно пожалел, что назначил слишком низкую наценку; но и червонец с потолка тоже являлся деньгами.
За окном выглянуло солнце и блондинка на двери, кажется, подмигнула. тронутая живым лучом. Рогов сладко поежился, я тысячный раз попытавшись представить себе, какие волосы у ее в прикрытом месте – черные, или рыжие…
— А где рубль? – спокойно напомнил Данилевич.
— Какой рубль?.. – не понял Антонов. – А, это… Я же пошутил. И вообще я пустой. И тебе. Рог, с гонорара отдам, так что возьми пока в долг.
— А пошел-ка ты на хрен! – ни с того ни с сего окрысился Рогов. – Со своим долгом!
Чувствуя раздражение и ненависть к безденежному Антонову, продажной газете, развратной блондинке с золотистыми телесами – и больше всего, конечно, к тому неведомому загорелому супермену, который знает цвет всех ее волос и спит с нею в ее настоящей жизни – раздражение ко всему белому свету и, кажется, к себе самому. Он с грохотом отпихнул стул и поднялся, чтобы идти в типографию.
Вспомнил, что так и не разобрался с проклятой полосой – склонился к столу и остервенело перечеркнул крест-накрест отмеченный абзац:
«Все больше одиноких людей отчаивается в своих надеждах на будущее в условиях рыночной экономики. Вчера, отравившись газом, свела счеты с жизнью 78-летняя пенсионерка Н., проживавшая на ул. Ленина.»
1991 г.
© Виктор Улин 1991 г.
© Виктор Улин 2010 г. — фотография.
© Виктор Улин 2018 г. — дизайн обложки.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!



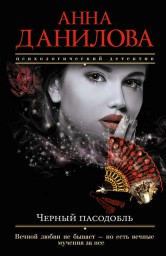
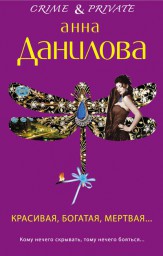
Подчеркну еще раз: писано в 91 году, тогда же и опубликовано.
И еще отмечу: мама покойная сказала, что себя тут видит.
Реплики героини — это ее реплики.