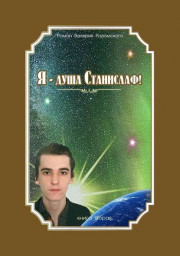две тетрадки
ДВА ПОЭТА
(рассказ)
Стечение обстоятельств или, как это ещё называют, судьба свела их вместе в модельном цехе большого металлургического комбината.
Столяр-модельщик Кардашов работал здесь уже много лет и совсем недавно устроился в цех на должность подсобника Гунькин. И тому, и другому было под сорок лет, но несмотря на внешнюю несхожесть: крепкий, основательный, как ровно отделанный чурбачок, Кардашов — и похожий на берёзовую стружку, расшамаистый, тощий Гунькин – роднила их едва заметная черта. Оба имели в глазах какую-то затуманенную отрешённость, как бы обращённый внутрь себя взгляд, а говоря проще и популярнее, оба были немного того… с шизинкой. Кардашов и Гунькин сочиняли стихи.
Поначалу они друг в друге никакой родственности не замечали и взаимного притяжения, как рыбак к рыбаку, не испытывали. Но однажды после обеда, сидя на лавочке в курилке, Гунькин подобрал с пола обрывок заводской газеты и от нечего делать пробежал по нему глазами. Что-то его заинтересовало, он пыхнул сигаретой и вслух продекламировал:
– Я счастлив, что солнце с востока встаёт, когда я иду на завод!.. – Гунькин язвительно хихикнул. – Это разве стихи?! Это сытое поросячье хрюканье, но не стихи, нет.
Сидевшие в курилке громко засмеялись, Гунькин поднял глаза и среди улыбающихся физиономий увидел одну мрачную, с таким тяжёлым, однозначным взглядом, какой, наверное, бывает у быка, смотрящего на тореадора.
– Что бы ты понимал! – Кардашов со злостью вырвал из рук Гунькина газету, смял её и кинул в урну. Смуглое лицо Кардашова ещё больше потемнело от прилившей крови. – Не нравится – не читай.
– Зря выкинул, – по-простому сказал Гунькин, – можно было бы проанализировать несколько моментов. Указал бы ошибки…
– Не нуждаюсь. Те, кто их опубликовал, наверное, побольше твоего в стихах соображают и никаких ошибок не нашли...
Гунькин и Кардашов совершенно не замечали, что сидящие вокруг них переглядываются с усмешкой, вставляют иронические реплики. Но постепенно модельщики разошлись по рабочим местам и два поэта остались один на один.
Кардашов немного успокоился, но все ещё недоброжелательно зыркал глазами из-под широких бровей. Гунькин же, будто влаголюбивое растение после дождя, заметно преобразился, посвежел лицом, расправил плечи.
– Ну-у, это ты брось. То, что стихи напечатали, вовсе не означает, что они хорошие. Мало ли всякой голубой муры печатается… И вообще, в твоем возрасте поэтами уже не становятся. Слишком поздно начал, – жалеюче, сказал Гунькин. – Если, конечно, ты так, для себя – то дело другое, рифмоплётствуй на здоровье.
Тут уже саркастически улыбнулся Кардашов.
– Не думай, пожалуйста, – значительно произнёс он, – что заводская многотиражка – мой звездный час. Печатали меня и в областных масштабах, и по радио передавали. На мои стихи, между прочим, песня написана. И поэтический стаж у меня порядочный, лет двадцать, по крайней мере… Как видишь, в твоих рецензиях не нуждаюсь.
— Да-а, – грустно протянул Гунькин. – Тоже, значит, несчастный человек.
— Кто – я? – Кардашов отрицающе замотал головой. – Нет, насчет себя я так не думаю.
В цехе кто-то расшумелся, разыскивая подсобника, и Гунькин с неохотой поднялся.
С этого времени их тянуло друг к другу, как два магнита, которые при слишком близком сближении, однако, начинают взаимно отталкиваться силовыми полями и один обязательно поворачивается к другому тыльной стороной.
–… Ну что ты ко мне пристал! – разозлился Гунькин и присел на бортик своей тележки, загруженной готовыми изделиями. – Заладил: поэма, поэма… Не поэма это никакая, а так, разрозненные стишки. Тебе теоретическую лекцию прочитать, что такое поэма? Если хочешь, назови своё творение стихотворным циклом.
– Пусть будет стихотворный цикл, – согласился Кардашов. Он сунул под мышку толстую тетрадь в чёрном клеёнчатом переплёте, пошагал в одну сторону, а в другую сторону по цеховому пролёту покатил дребезжащую тележку Гунькин.
Аккуратный Кардашов свои произведения периодически переписывал начисто в большие общие тетрадки, нумеровал их, проставлял соответствующие годы и на внутренней стороне обложки приклеивал картонный квадратик, а к нему – свою фотографию. Четыре таких тетрадки уже стояли на книжной полке в его квартире.
К поэзии, в смысле собственного творчества, он относился серьёзно – как и ко всему, к чему имел отношение. С некоторой долей тщеславия радовался, что наделила его природа таким даром. Не каждому дано. В определённые дни недели, точно в урочный час раскрывал он толстую тетрадь, затачивал карандаш и, замирая в ожидании, будто на лавке в парной в предчувствии волны горячего пара. Бывало иногда, что накатывало вдохновение и в неположенное время. Такая неорганизованность слегка раздражала Кардашова: все равно, что париться в верхней одежде, и поэтому он считал, что из стихийных порывов ничего толкового не получается.
Читая поэтическую периодику, Кардашов совершенно не испытывал зависти к тем, кто пишет лучше. Большей частью привлекали его внимание стихи, сходные по уровню с его собственными творениями. И чем чаще встречались подобные аналогии, тем сильнее радовался Кардашов, точно слышал в свой адрес похвальные отзывы. Но порою уж больно схожие фразы и образы вызывали приступы подозрительности: а не из его ли стихов, разосланных по литературным инстанциям, сляпал этот ловкач свою балладу «О рабочем парне»? С некоторых пор Кардашов взял за правило на рассылаемых экземплярах своих стихов приписывать предостерегающую строчку «Зарегистрировано в агентстве по охране авторских прав».
Гунькин остановил тележку у верстака Кардашова.
– Слушай, Василий, ты знаешь такого Уоллеса Стивена, американского поэта? – начал он, не дожидаясь, когда Кардашов к нему обернётся. – Так вот, Стивен говорил, что поэзия состоит не только из того, что лежит на поверхности. Даже – не столько из того, и вовсе не из того. Понимаешь? Ты вот берешь грандиозные темы и думаешь, получаются такие же грандиозные стихи. Получается — совсем наоборот.
Кардашов медленно повернулся с циркулем в руках, спокойно ответил:
– Забил ты себе голову всякой теорией. Поэту теория противопоказана. Он должен быть самобытен.
– Кто это сказал? – недоверчиво прищурился Гунькин.
– Один толковый мужик сказал. Знакомый поэт… Нужно быть свободным в творчестве, сказал он, и никого не слушай, пиши так, как душа требует.
– Ты просто легкости в творчестве ищешь, а не свободы. Стихи пишутся нервами, запомни. От творческой легкости у тебя и получаются вирши деда Опанаса.
– Вирши!? А, по-твоему, я не нервами пишу?! – Кардашов, разгорячившись, воткнул ножку циркуля в верстак. – Ты сам-то о чем пишешь? О каких-то воронах на кладбище, о мутных окнах, о плачущей свече… Кому это нужно, а?! Ты для себя пишешь, и пишешь так, как тебе легче. Духовное мещанство сплошь и рядом. Поэтому тебя и не печатают. А на мои стихи народный хор песню поёт...
В это время между спорщиками неожиданно возник мастер участка. Он, грозя кулаком, пообещал им прочитать такие стихи, которых даже в общественных туалетах на стенках не встретишь, если те еще раз начнут болтать о своей поэзии в рабочее время. Гунькин схватил тележку, торопливо покатил ее, сам не зная куда. Кардашов взял циркуль и с минуту смотрел на него, вспоминая, для чего он ему нужен.
К теории стихосложения с некоторых пор Гунькин испытывал особую слабость. Уверовав в полную субъективность многочисленных, часто противоречащих друг другу оценок и критериев творческого результата, он пытался самостоятельно выяснить главный для себя вопрос: что у него – собственный голос или чужое эхо.
Поэзия для Гунькина являлась занятием всепоглощающим и не терпящим никакого совместительства. Она располосовала его жизнь, как торчащий в стене гвоздь, о который на бегу зацепишься рукавом. Возможно, сам Гунькин своим художественным воображением находил более поэтическое сравнение, но, на взгляд трезво мыслящего человека, такая жизнь действительно была вроде изорванной в лоскуты рубашки: ни починить, ни заштопать – только выбросить.
Одними временами счастливый Гунькин вдруг начинал убежденно верить в безусловность своего таланта, призвания и признания. Другими временами, словно почувствовав на плечах уже невыносимую тяжесть хронически не сбывающихся надежд, терял веру вообще во все хорошее и светлое, бросал работу, выкидывал из кармана измятую ученическую тетрадку с последними стихами и пропадал неизвестно куда.
На выходной день цеховой профорг Надя организовала коллективный выезд за грибами. Нашли живописное место в сосновом лесу на берегу речки и, высыпав из автобуса, под песни из приемников и магнитофонов начали наслаждаться природой.
Кардашов с пластмассовой корзинкой в руках сразу же углубился в лес. За ним поплёлся Гунькин. Грибы собирать он не любил и шёл просто так, руки в карманы, пиная упавшие шишки. Кардашов, низко наклоняясь к земле, тщательно обыскивал кустарник, продвигался медленно, петляя вокруг деревьев. Дожидаясь его, Гунькин ложился на траву и смотрел на размеренно покачивающиеся верхушки сосен.
– Красотища какая, – сказал Кардашов, присаживаясь рядом и доставая сигарету. – Что-то ты сегодня грустный, – добавил он, покосившись на Гунькина. – Вдохновенье нашло или что?
– По семье соскучился, – тусклым голосом отозвался Гунькин.
– Только уехал — и уже соскучился?
– Не только… Давно я уехал. Девять лет назад. Жена с дочкой в Москве, а может, уже и не в Москве.
– Что ж тебя в Москву занесло?
– Учился там стихи сочинять. Пока учился – женился. Потом, смотрю, от этой учебы совсем разучился по-настоящему писать, выходят одни чужие перепевки. Бросил, уехал… Дочке уже десять лет.
– А тебе сколько?
– Тридцать семь.
– Роковой возраст.
В верхушка сосен зашумел пронёсшийся внезапно ветер.
– Да, – с необычно долгой паузой согласился Гунькин. – И на что жизнь потратил – спросить не у кого.
Кардашов сочувственно вздохнул:
– Не надо было так резко, без всякой гарантии. Вон, какую-нибудь болванку вытачиваешь, и то с чертежом сверяешься. А тут – жизнь. Ее запорол – другую не выдадут. – Он покачал головой.
– А ты, Василий, чужой славе завидуешь?
– Насчет поэтов, что ли? Ну, как сказать. Завидую, конечно, в разумных пределах. Знаменитым поэтам чем хорошо: пиши, что хочешь… что бы ни написал, все напечатают, ну, и привилегии, разумеется, всякие...
– А после смерти хотел бы быть знаменитым?
– После?.. Не-е, я как-то об этом не думаю. Я о таких вещах печальных стараюсь вообще не задумываться.
– Ну, пойдем тогда грибы собирать, – поднялся Гунькин.
Они еще часа два шарили по близлежащим оврагам и вернулись с полной корзинкой в руках довольного Кардашова. На полянке у автобуса уже витал запах пережаренных шашлыков, раздавались удалые песни под гитару.
– Перекуси. Проголодался, наверное, на свежем воздухе, – предложил Кардашов, раскладывая на газете перед Гунькиным вареную курицу, огурцы, картошку, полбуханки хлеба. – Моя вечно соберет, будто в кругосветное путешествие… Посидим тут в сторонке, под рябинкой. Не хочу в толпу лезть. Тяпнут по сто грамм – и только всякие дурацкие шуточки на уме. Ну, их.
Хрумкая огурцом, Кардашов поделился своими планами: – Приеду домой, напишу что-нибудь на тему природы. Не все же одно производство в стихах обкатывать. У поэта должен быть широкий кругозор и богатая палитра. Верно?
К ним подошла профорг Надя в привлекательно облегающем ее фигурку тренировочном костюме, укоризненно покачала головой.
– Что же вы, товарищи поэты, отделились от коллектива? Нельзя так, нельзя.
– Чего это нельзя, – пробурчал Кардашов, сердито оглядывая профорга. – Мы на природе, а не на собрании.
– Кардашов! Гунькин! Пойдемте!.. Что вы все такие пассивные, ничего с вами не организуешь… У нас литературное мероприятие, устный альманах поэзии. Все читают свои любимые стихи, и вы выступите, так сказать, с авторским словом, как натуральные поэты. Всем будет интересно и познавательно. Ну, пойдемте… – Надя, продолжая уговаривать, подвела Кардашова с Гунькиным к костерку, вокруг которого сидели-лежали модельщики, жаждущие «интересного и познавательного», объявила: – А сейчас наш поэт Василий Кардашов прочитает стихи собственного сочинения.
Кардашов переступил с ноги на ногу, потом перешел на другое место, напустил на лицо серьезное выражение и начал:
– Клокочет сталь в печах до неба, Рокочет стан. Пыль, грохот, жар...
Каждая строфа у него заканчивалась рифмовкой со словом «сталевар». Не известно, слушали его модельщики или нет, но, по крайней мере, смотрели внимательно, как Кардашов, словно пианист в творческом экстазе, телодвижениями изображает бурю чувств.
– Все, – выдохнул Кардашов и поклонился. – Благодарю за внимание.
– Сплошное нарушение техники безопасности, – высказался кто-то из слушателей. – Аж мурашки по коже.
– А теперь, товарищи, со своими стихами выступит Сергей Гунькин, – объявила Надя. – После этого обсудим.
Гунькин сидел на траве, скрестив ноги по-турецки. Когда настала его очередь, он, потупив глаза, пробурчал «ну ладно» и прямо так, сидя, принялся читать глухим, слегка подрагивающим голосом.
Стихотворение было печальное, о манящей притягательности никогда недостижимой линии горизонта и, несмотря на приглушенный голос исполнителя, ясно прослушивалась мелодичная интонация, напоминающая затихающий звон колокольчиков в хрустальной тишине морозного утра.
Стихотворение закончилось как-то незаметно. Одна из женщин со вздохом сказала:
– И как такие стихи придумывают… Кажется, такое и не сочинишь. Будто током через сердце… Волшебство какое-то...
Запланированное обсуждение сорвалось. Уставшая от пассивности молодежь самовольно затеяла игру в волейбол. Пока профорг Надя растрачивала на них свои организаторские способности, расползлись по сторонам: кто — купаться, а люди более солидного возраста — в тень под кустик. Гунькина пригласила к себе компания, обладающая шашлыками и гитарой. Кардашов вернулся к облюбованной рябине и прилег вздремнуть, накрыв лицо газетой.
Когда солнце опустилось ниже сосновых верхушек, собрались уезжать. Расселись в автобусе и тут обнаружили недокомплект одного поэта. Под руководством профорга мужчины отправились на поиски пропавшего таланта.
Гунькина обнаружили у лесного родничка. Он безмятежно спал со счастливой улыбкой на губах, съежившись клубочком, щекой на жёлтых хвойных иголках. Рядом лежала свёрнутая трубкой ученическая тетрадка.
С первым снегом Кардашову пришло радостное известие – в областном издательстве принята к публикации его рукопись, пролежавшая там шесть лет в ожидании очереди. Кардашов теперь смотрел на книжную полку, на которой покоилась его клеёнчатые тетради, и представлял рядом с тетрадями настоящую свою книгу. Почему-то она виделась ему не тоненькой брошюркой в мягкой обложке, а внушительным томом с витиеватыми, тиснёными золотом буквами.
Этой радостью хотелось поделиться с понимающим человеком. С таким человеком, у которого бы данное событие вызвало не снисходительную улыбку, а полноценное чувство зависти. Без чужой зависти, понятно, какая же радость. Кардашов тут искренне пожалел, что нет рядом Гунькина, уволившегося из цеха с месяц назад. Тот бы уж, конечно, «оценил событие».
Неизвестно, повлиял ли на это ожидаемый вскоре выход книги или еще что-то, но Кардашов после радостного известия бросил курить и усиленно занялся укреплением здоровья. По вечерам начал бегать трусцой. Трусясь как-то по темной парковой аллее, он услышал окликнувший его знакомый голос.
– Спортом занялся?.. Второй вечер уже мимо пробегаешь.
На спинке обледенелой скамейки сидел нахохлившимся воробьём Гунькин.
Обрадованный Кардашов повернул назад, подошел к бывшему приятелю, протянул руку. От Гунькина пахло смешанным запахом подвальной затхлости и цветочного одеколона.
– Ты где пропадаешь? – спросил Кардашов, натягивая поглубже вязаную шапочку.
– А-а, – Гунькин неопределенно махнул ладонью. – Везде… пропадаю.
– Дела-то как? Не пробился нигде?
– Нет, – мотнул Гунькин головой. – А у тебя?
– У меня все нормально. – Кардашов сделал несколько приседаний, чтобы не застудить разогретые мышцы. – Недавно в коллективном сборнике напечатался… Сейчас вот книгу готовлю...
Гунькин на это не выразил никаких эмоций и Кардашов добавил:
– Как только книга выйдет, обязательно подарю тебе одну со своей подписью.
– Угу, – отозвался Гунькин. – Я очень рад… Ну, давай, беги, а то простудишься.
– Ты заходи когда-нибудь, – пригласил Кардашов самому непонятно куда.
«Все равно завидует, – подумал он, потрусив дальше по аллее. – Завидует, только виду не показывает».
Гунькин проводил взглядом удаляющуюся фигуру. Медленным движением достал из внутреннего кармана тоненькую тетрадку, не глядя на неё, разорвал на четыре части и, разжав пальцы, уронил обрывки себе под ноги на грязную кашу из мокрого снега.
— " " --------------
...
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!