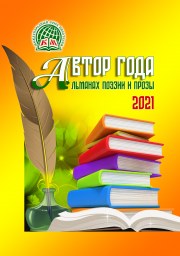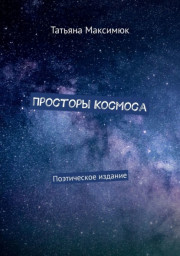Фантазии укушенного сладостью / новелла
Говорят: смех продлевает жизнь; я говорю: боль (не физическая!) её укорачивает, но высекает из нас чувственную мысль для прозрения всех...
В тридцать я продолжал мечтать. В пятьдесят ещё мечтал. В шестьдесят стал смотреть любви вслед. Подолгу и с огорчением, по-настоящему сильным, как когда-то влюблялся. (Так любил — считанные разы, признаюсь, но не каюсь)
Сейчас я в возрасте… укушенного сладостью до горечи на губах. И эту горечь не отмыть и не оттереть. Потому, что я не могу стать или заменить кому-то собою мир, но я могу ещё вызвать в женщине фантазию. Утешение слабое, тем не менее великовозрастное оно и успокаивает фантазиями. При этом женщина, укусившая сладостью до горечи прозрения, останется прежней и всё-всё — в ней таким же, но только не её потаённые откровения, если она позволит моему взгляду пойти за ней. Хотя бы чуточку пройтись вместе.
… Их было четверо, ярких и громких девушек, и почему-то они сидели в ряд за столом на четверых. Вряд ли, что смотрели на меня, зато я рассматривал их. Бирюзовое платье на одной из них обласкало чем-то далёким в годах и близким, как море, шуршавшее кудряшками волн о пирс невдалеке.
Постарев, я всё равно не отказывал себе в чувственном удовольствии, какое даёт и писательское воображение. А передо мной сидела молодость — воображая себе колени девушек, в то же самое время я подбирал определение, тому, что они есть для мужчины. Ведь влюбляет в женщину её лицо, что бы кто не говорил, но колени — это как встреча мимолётного взгляда и бодрствующего желания на мосту, и в центре. А вот дальше, если «мост» или «мостик» принаряжен, предположим, тёмной прозрачность, мужчине хочется увидеть и правую его сторону, и левую. И желательно зреть объёмно, а вишенка на торте — пройтись…, без разницы — откуда куда! Если, конечно, длина юбки на женщине позволит такому сбыться.
А ещё — почему я воображал колени, — ноги женщины стали для меня определяющими изначально. Правда, понял я это не сам, а когда в девятом классе в своей парте нашёл записку. Развернул — прочитал: «Рассуждаешь о девушках просто, даже правило есть одно: прежде, чем завести знакомство, ты посмотришь на ножки её». (Да, стройные ноги, если только не спортсменки, для меня — это единственная безупречность в женщине. Без таких ног меня нет в качестве мужчины-самца. И в этом, конечно, моё сугубо мужское несчастье)
Наверное, одноклассница, написавшая мне ту записку, глубокую в откровенности, была в меня влюблена, к тому же — талантливая и наблюдательная: подловила-таки своим, опять же — может, ревнивым взглядом мои чувства. Они сжигали меня на ветру желаний, когда Стелла Витальевна, сидя за классным столом, своими лиловыми коленками выжигала всё. Это «всё» — что закрывало мне глаза, что пыталось успокоить дыхание. Короче: взять себя в руки. Чтобы безнадёжно не выпасть из учебного процесса и, тем более, не привлечь к себе подозрительного внимания.
Всегда изнеженная воздушными пастельными цветами своих нарядов Стелла, учительница младших классов — что и возрасту её соответствовало: 23 года, — подменяла «препода» по русскому языку и литературе, ввиду его болезни. За сорок пять минут урока «обалденную училку» глаза пацанов… раздевали не по одному разу — явь и воображение не больно-то разнятся, а посмотреть было на что. (Не стану выписывать во весь рост портрет сладостного наслаждения и такого же мучения — у каждого свой лик желаний, того же счастья и несчастья в любви. Скажу лишь, что до темноты в глазах я плескался в радости её безбрежных глазах, перед этим безрассудно ныряя в бездонное декольте платья…)
Да и прятаться от Стеллы в своих же чувствах я не хотел. Или не умел. А намерений не было — влюбившийся взрослеющий пацан!
С трепетным вдохновением я ждал уроков по русскому языку и литературе и, даже не понимая зачем, сам себя ей выдавал по-всякому. И однажды, когда её два урока были последними, она попросила меня задержаться.
Оставшись одни, ни она, ни я не знали, с чего начать разговор, а о чём — это было написано на моём виноватом и нет лице. Стелла оставалась сидеть за столом, скосив колени на угол, я — перед ней, пытаясь унять дрожь по всему телу. И, понятно, как щенок ждал от неё только теплоты понимания и придуманную мной милость. Эта чуточку смелая, чуточку отважная робость от мальчишеского воображения близости со Стеллой, чего уже требовал от меня подростковый возраст, угодивший в её женские чары, но не имевший практики соития, удерживала таки во мне напряжение готовой к полёту стрелы: видна цель, да попасть в неё и боязно, и очень хочется, и, главное, цель уже предугадала полёт…
Наконец, взгляд синевы глаз напротив потеснили янтарные зрачки — Стелла была готова объясниться. И я услышал, что я «глупенький мальчишка», что заметный и уже обращающий на себя внимание привлекательной внешностью и «рыцарским» характером. «Ты этого пока что и сам не знаешь, но, признаюсь, что и ты мне приятен как...» — не сказала, продолжив: что влюблённость подростков-учеников в учительниц не может быть предосудительной потому хотя бы, что подобное случается часто и даже педагоги от этого не застрахованы. «… В школе — этого я не знаю, — продолжала она рассуждать на враз окрылившую меня тему, мизинчиком подбивая кверху ресницы, будто они мешали ей видеть, — а мои сокурсницы по институту знаю, что влюблялись в преподавателей, и даже выходили за них замуж...».
Разговор между нами состоялся, но мы ни о чём не договорились. Она не могла запретить мне себя любить, а я ещё тогда не знал, чего мне будет стоить эта любовь — в любви все возрасты покорны, но покорённым будет лишний!..
Так уж случилось: в ОШ № 55 своего родного города я попал по решению «гороно» (городского комитета по образованию) — до этого меня исключили из ОШ № 17 за поведение «недостойное звания советского ученика». После того, как исключили, никто и долго не знали, что теперь со мной делать — на работу нигде не брали: несовершеннолетний, а «крамолу» стихов и мордобой простили, пожалев мою маму — в результате послали всё равно учиться, но уже в качестве «второгодника, ушибленного не мозгами, а неправильным мировосприятием… ».
В 9-А классе ОШ № 55 я не был самым старшим по возрасту, тем не менее моя репутация «неуправляемого юноши» выделила меня из коллектива школы и оттенила повышенным вниманием. Со стороны педагогов — прежде всего, и Стелла, решившись на разговор со мной тет-а-тет, упреждала таким образом во мне то, о чём слышала: подчиняет и кулаками, в том числе, и может «запудрить мозги» по-взрослому. И если созревших к романтическим отношениям школьниц это даже интриговало, то молодого педагога Стеллу Витальевну мой имидж с губ предвзятости пугал. Немножечко, но — тем не менее: вдруг прицепится, как банный лист! Потому, что она не знала о подростковых драках взглядов и убеждений, о подчинении подлого как наказание за подлость, о том, как могут уже любить те, кого она учила всестороннему уму-разуму.
Скорее, Стелла не знала об этом, да и её года…. Только, прочитав осторожность в глазах, что подожгли мой душевный покой, они же, эти глаза, тогда притушили душу неловкостью не её положения, а моего. И я спрятал себя от неё в показном безразличии, давшееся мне, что называется — хотелось выть и кусаться!
Стало легче, когда моя возлюбленная учительница сама стала искать мои глаза. А мне это не показалось: не дождалась моего взгляда — вызывала к доске, и так обязывала себя внимать, намеренно дразня собой же. Я всё понимал: не разница в годах стояла между нами. Кто-то третий пленил её сердце. Если не третий, тогда у меня был шанс. Чего я хотел от возлюбленной «училки», — в семнадцать-то лет!? В то время я дышал ею, чувствую себя астматиком, когда не видел. Стелла стала таблеткой моего взросления как мужчины. Небо, и всё вокруг меня, находясь с ней, тускнело от волнения и напряжения, вместе с тем без неё я не замечал неба, никто и ничего мне были не в радость. Вот и всё!
Когда выздоровел «препод», которого заменяла Стелла, я был даже рад — зачем мне эти душевные стенания и бессонные ночи!?
Осень того года выдалась сухой и настала для нас, учащихся «9-А», с объявления классного руководителя Галины Михайловны, преподававшей нам украинский язык и литературу, того, что организация школьного вечера — очередь нашего класса. В непривычно рано наступавшей темноте заканчивались занятия во вторую смену и это обстоятельство выстрелило общим недовольством: когда успеем и т. п. Классный руководитель в тот момент пребывала в отвратительном настроении — повела себя жёстко и для многих не лицеприятно. С её редких зубов и сползла в класс обида. «Мне всё равно — когда и как вы это сделаете!» — сплюнула она к тому же горечь от недопонимания собственного положения «ответственной», бросив от дверей напоследок, что завтра хотела бы видеть сценарий и план мероприятия.
Но ни на следующий день, ни в оставшиеся до дня школьного вечера дни ничего, что запросила «классная», она не увидела. И распинать по этому поводу свой класс, то есть нас, «9-А», не стала — попала коса на камень. Даже придя на работу в день запланированного мероприятия и увидев сбоку от двери, на входе в школу, плакат из ватмана, но оригинально обклеенный по бокам багряными кленовыми листьями и выпирающими в центре буквами из коры, провозглашавшими «Осенний бал», а ниже — день, ещё ниже — время начала и окончания, к нам она, в класс, так и не зашла. Никто из класса тоже, кроме, возможно, подхалимов, к ней в течение дня не походил — озлобленная категоричность Галины Михайловны оскорбила практически всех.
Без малого в семь вечера, у школьного зала было не протолкнуться, но двери были заперты изнутри. Одетые не по-школьному восьмиклассники и старшеклассники разошлись до этого коридорами и ждали начала осеннего бала там, а преподаватели, не менее принаряженные, поглядывали на часы, не беспокоясь. Они полагали, что Галина Михайловна — в зале и, наверное, дорабатывает со своим классом какие-то визуальные детали по сценарию. Как вдруг классный руководитель устроителей школьного вечера появилась у них за спинами, неестественно загадочная и с залитым нервозностью лицом. Успела лишь швырнуть одной из коллег: «Не знаю!», двери зала открылись и — о боже! — полумгла изнутри насторожила всех, а нарастающий в звуке низкий регистр тембра знакомого, вроде, музыкального инструмента откровенно испугал одних, других, интригуя, поманил к себе тем, что понимался ими как «Заходите! Приглашаем!».
Первыми всё же вошли педагоги, щурясь будто от яркого света, хотя на самом деле света было столько, сколько нужно было для эффекта вечерних сумерек. Поэтому и лампы в люстрах были выкрашены в синий, красный и жёлтый цвета. Но что заставило кого-то из них даже присесть, чтобы определить, что же так щедро зашуршало у них под ногами, так это — осенние листья, которыми, действительно, щедро был усыпан пол.
Преподаватели и учащиеся дошли лишь до середины залы, уже с шумным восторгом загребая носками туфель сухую листву, как раздвинулись бархатные кулисы сцены, и не яркий, но дополнительный свет, пролился на них из углов. Закатный и трепетный он принёс в себе гостевой покой учителям, возбуждение, предвкушение, кураж, и всё это — сразу, ученикам, а со сцены всем улыбались незнакомые парни-музыканты, тепло исполняя песню «Школьные годы». В миг сцену окружили со всех сторон, шаги подходивших подпевали шорохами.
У девчонок, что оказались к сцене ближе других, загорелись глаза. Музыканты были их старше, но не намного, чтобы на щеках школьниц не проступил румянец сосредоточенного внимания. Да и вид музыкантов воображал за них самих: облегающие синие брюки на каждом, василькового цвета рубашки с белыми искрящимися жабо, и брошь — на каждом жабо, одинаковая формой, но камни разного цвета…; на широких поясах отблёскивали хромом электрогитары, клавишный инструмент звучал органом, а ударная установка, все пять барабанов, искрилась изумрудами разной величины и объёма. И посреди этих изумрудов восседал я — ударник вокально-инструментального ансамбля «Русачи» (за исключение меня все участники ансамбля работали художниками оформителями магазинов и торговых павильонов; мы давали концерты по всему городу в разное время и я часто, только по этой причине, прогуливал уроки).
Покуда звучала первая программная песня, мне пришлось пережить себя в образах… из глазах стоявших подле сцены. Но мои глаза убегали, прячась за ресницами, не от этого — мне было больно видеть Стеллу, забыть которую и отказаться от которой я не мог. А она, сияющая из сумерек, видела меня таким, каким себе и не представляла, оттого и сияла неподдельным приятным изумлением. И танцевала после, вальсируя с кем-то из старшеклассников целенаправленно: к сцене. Изящно и откровенно кивала мне головкой с ветвистой чёлкой, будто нахваливала меня: молодец, неожиданно, конечно, но я рада видеть тебя таким. Вот только она не слышала мою душу.
Ближе к концу бала, а он удался прям-таки на славу и на загляденье, вокалист сел за мою ударную установку, а я взял у него микрофон. Весь вечер я отговаривал себя не делать этого, да что-то во мне взыграло неуёмностью.
Закатный свет из углов залы погас и пахнущий осенью сумрак потеснил всех к стенам, на стулья. Ожидание стало зримым только вблизи лиц, но передавалось от одного к другому с умолкающей суетой. Появление меня, девятиклассника, на школьной сцене в завидной роли барабанщика ВИА «Русачи» да ещё и на слуху, от растущей популярности ансамбля у трёхсоттысячного города, несказанно удивило всех, но что и как споёт хулиган-второгодник интересовало больше преподавателей.
Ожидание успокоило суету и томило близостью завершения бала. Сцену подпалил ярко-красный свет мозаичных прожекторов снизу-сверху, приятным сюрпризом для всех стали и меняющиеся на мне цвета. Я будто бы сгорал то в пламени огня, то прорастал зелёным ростком и со стремительной неизбежностью прорывался к небу, то мой силуэт трепетал в синем тумане сизым голубем. «Бочка» (большой барабан) стал выдавать удары, созвучные с ритмом биения сердец в зале. Первые аккорды из-под клавиш простонали надрывной печалью и невысказанной тоской, затем струны гитар задрожали в переборах звенящим волнением, отпуская боль на откалывающихся басовых нотах. И я запел:
– Я в звёзды наряжал тебя ночами,
Портреты рисовал зарёй, рассветом,
Шептал, кричал: «Люблю!» ручьём и эхом,
Да звёзд мерцание — не губы, что молчали.
Прости меня, любимая, за то,
Что не могу подать своей руки —
Не убежать нам, вместе, от тоски,
А на твоей — чужой жены кольцо.
Струны солировали высокими нотами, рвущимися за облака чьих-то девичьих грёз, в необозримую даль мечтаний присмиревших пацанов, а низкие ноты продолжали откалываться… от никелевых басовых струн, грохоча ритмичным звуком барабанов, стихая в падение в полутона и отблёскивая зарницами на тарелках. И будто обручальное кольцо упало на одну из них, подпрыгнув, и жалящее отзвуком покатилось, не видимое, со сцены в зал и спряталось в листве — нет больше: «чужой жены!..» и не было. Укатилось и спряталось — о, если бы только навсегда! — от только что корящих и в то же время молящихся откровением слов:
–… Но ты мне не чужая! Это я,
Останусь для тебя таким — уйду
В свои года: где лебедь на пруду
Закружит в брачном танце, не любя...
И нет твоей вины, и нет моей.
Ты в берега его… волною мчишься,
А я всё тот же: «глупенький мальчишка» —
С цветами на углу мечты своей!..
Сквозь кружево танцующих, осторожно и бережно удерживающих друг друга взаимным желанием быть лебединой парой на виду у всех, пробивалась бирюзовым видением Стелла. Как средь кудрявых берёз и молодых дубков шла она, покрытая жарким шепчущимся у самых её ног вечером. Что он шептал ей, что шептали извиняющимся хрустом листья — не знаю, но она подходила, прикрывая лицо ладонями не к сцене, а отважилась, первой, проложить путь именно ко мне, потерявшемуся в объяснениях себя. Сама решилась и сама отправилась в этот благородный путь с молвой отовсюду, которая не ожидаемая никем в зале только-только ещё прищурила глаза коллегам. Остановилась напротив — подала мне руку, правую, чтобы я видел — там нет обручального кольца, и этим не соглашающимся со мной движением приглашая меня на белый танец. И таким нежданным-негаданным было продолжение песни, а заканчивалась она словами одного на двоих дыхания, друг друга ласкающих рук, глаз, излучающих друг другу свою нежность и просящих — ещё!.. И очевидность этого не явилась лишь кажущейся кому-то, а для нас она определила места не просто в школьном зале — на золотистом паркете осени, где танцевало одно на двоих счастье; немое, робкое, которое вот-вот истечёт по времени, но сполна выстраданное учеником и согласившейся на такое учительницы.
«Я в звёзды наряжал тебя ночами...», — звучало со сцены. «… Портреты рисовал зарёй, рассветом, шептал, кричал: «Люблю!» ручьём и эхом, да звёзд мерцание — не губы, что молчали — подпевал зал.
… Когда с ребятами я загружал инструменты и аппаратуру в салон автобуса, меня не покидало ощущение, что Стелла ещё не ушла домой и находится где-то поблизости. Во дворе школы её не было видно, да и кругом — темно. Оставив то, что могли сделать и без меня, я вернулся в школу.
Зигзаг коридоров подвёл меня к классу с трафаретом «9-А». Сердце разбивало мне грудь, а руки искали карманы, чтобы не открыть дверь. И я тушил желание снова видеть Стеллу, предполагая — если она и не ушла, то сейчас может быть в учительской. Этим, обманув сам себя, открыл дверь и заглянул в класс.… Она сидела за моей партой, на моём месте — не поднялась, а взлетела. Оторопь и смущение изменили ей лицо. Но для меня оно стало только краше оттого, что её синие глаза были рады мне. Они не могли меня обнять, но то, как она подала своё лёгкое тельце вперёд, обнимало и прижималось ко мне издали. Я очень хотел этого, потому и сразу поверил.
Подошёл я — слова уже ничего не могли изменить. Во мне дрожало всё, и на её глазах я рассыпался от нерешительности. Хотел, но не мог, как себя не призывал и не обязывал, протянуть к ней руку — и она сама сделал ещё один шаг навстречу неизбежности в наших судьбах.
… Всё невольно нашли мои руки — от шпилек в волосах до скользнувшего под пальцами квадратика-застёжки на спине, под платьем…, — но мне нужны были только её губы. А она, отдав их мне, сама не отпускала мои. И это, ошалелый поиск губ друг друга и нетерпеливое их слияние в обоюдно страждущих сладости поцелуях, изматывало нас обоих, тем, что я боялся себе представить, а она не могла допустить, если бы и сама разорвала на себе своё волшебное бирюзовое платье от принимающей меня на себя груди. Я стал её дыханием, а она моим. В эту божественную минуту никто и ничто не стояло между нами. Её руки врастали в мои плечи крыльями, а ресницы рисовали на моём лице черты услады.
Вдруг всё резко закончилось. Стелла отступила, уронив голову, и прикрыла тыльной стороной ладони свои губы. Она вернула их себе, чтобы сказать мне «Прощай!», и так, как дерзит только безответно влюблённая девчонка: резко подошла ко мне, обхватила мои щёки, притянула мои губы к своим и, обласкав их влажным дыханием,… укусила. Мы оба слышали, как треснула, разрываясь моя губа, но при этом я не почувствовал боли. Я вдохнул в себя сладость прикосновения ко мне любви, а солёная горечь поползла по подбородку кровью.
… Слёзы не спрашивали меня — мужчина ли я уже, или ещё сопливый пацан? Мы оба плакали, склонив друг перед другом головы, запрещая себе думать о том, что значил этот, как я понял, её последний поцелуй. Но Стелла не могла не объясниться — она прощалась с тем, кто был третьим, и лишним… Подняв мои руки ладонями к верху, поцеловала каждую из них, буквально залив слезами, горячими-горячими, и сама всхлипывая ребёнком — произнесла, словно подала на моих ладонях, своё признание:
– Теперь ты — укушенный сладостью!.. И не забудешь меня. Прости — я забуду тебя. Потому что ты сделаешь меня несчастной!
На бетонных ступенях на фоне розовых стен кафе «Улыбка» сидел, обречённо и безвольно склонив голову, юноша: опрятно одетый — белая и хорошо отглаженная рубашка, чёрные брюки и такого же цвета туфли на широко расставленных ногах. Ступни постоянно задирали остроносые концы туфель вверх, тёмные волосы просыпались со лба унынием, выдавая прохожим душевное состояние: смятение. Бутылка вина — рядом, не допитая. Сигарета — между пальцев, и потухшая.
Из большущих окон кафе доносились голоса, много голосов, в основном крикливых, но возбуждённых радостью и весельем. «Гена! Гена!.., Стелла! Стелла!.., — рвались наружу торжественность момента и от этого ликующий восторг гостей —… Горько! Горько!..,… Раз! Два! Три! Четыре!..
Юноша вскинул голову, лицом к небу — дрожь век разметали слёзы, горячие-горячие, и как будто спешившие скатиться и упасть: не обжечь бы. А с покусанных губ стекала светлым мальчишеским подбородком кровь. И капала, капала, капала … его сердечной болью.
Сентябрь 2020 г.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!