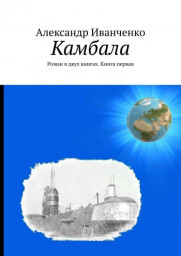КРАХ!
КРАХ! (новелла)
(Не один десяток лет я отказывал себе в том, чтобы поведать собственную историю — сейчас моя жизнь годами покатилась в неизбежность, а кто-то только-только ещё учит буквы и слоги…, — в которой подлость меня, нет, не поработила, а измотала ненавистью и злобой. Но к тому, что как-то случилось со мной и моей подружкой — пикантный этический и нравственный момент — я же и сам причастен. Хотя мне и не в чем оправдываться.
С одной стороны, с нами случилось смешное, с другой — не до великого это смешное привело. Правда, подлость в конце концов и сама запуталась в парусах собственных страстей, до этого, тем не менее, порядочно измазав собой девичью честь, и это обстоятельство — девичья честь! — гнали из моей памяти весну 1975 года, когда всё это случилось и началось… Забегая вперёд, лишь скажу — девочка, повзрослев и став женщиной, сама ответила подлости… Причём… — даже не знаю: сугубо ли по-женски, но именно от смешного до великого...)
Май того года не маялся — расцветал в сухости и покое. Таким же, благоухающим, выдался и его первый день.… Праздник!
Проспектом Ленина возвращались с парада горожане. Мужчины и парни, подвыпившие — хмель и прекрасное настроение тех времён в них пели, а уж танцевали — повсюду. Да — ещё как, и что пели?! Словом: «Вышел в степь донецкую парень молодой...» в припляс! Женщины, естественно — частушки, а их время праздничных хлопот топало, пританцовывая, к этим хлопотам их же ножками в прозрачных чулочках, а то и без них — жара!
Юрка Прохоров, токарь машиностроительного завода им. Кирова, во время построения демонстрантов в общую, городскую, колону на проспекте Победы «отклеился» от своих заводчан и в это время вёл нас — меня с белокурой Светланой (тогда я встречался с ней, а она была в меня, кажется, влюблена), Сашкой Чирковым и Вовкой Петраковым в гости; оба крепенькие, сбитые телом — любили они тяжести тягать…, в их светлых глазах всегда отсвечивало что-то хорошее. Пожалуй — простота и доброта разом. Да с девчатами у них как-то не получалось, не давалось даже знакомство, а не познакомившись — гуляй, Вася!.. Вот это, что у меня неплохо получалось: кадрить девчонок, им-то (да и не только им одним во дворе) и нужно было, оттого мы и корешевали.
«Прохор», то есть Юрка, посёлок «Рудуч» знал прекрасно и вёл нас к Светкиным подругам, а та лишь подсказывала: правее-левее. К троим, тоже учащимся Горловского торгового техникума. Всем им было по семнадцать — чувственная пора юности, и праздник был для них поводом, чтобы себя показать, да прежде всего — прицениться, говоря фигурально и не совсем, своими девичьими чувствами и ощущениями к незнакомым парням, а таких-то и обещала им привести Светка на 1-ое Мая.
К нужному дому, а посёлок «Рудуч» относился к частному сектору, пришли быстро. К тому же Даша и Маша поджидали нас у калитки — вроде, только-только…, а уже и — в гостях.
Дом каменный, с высокой крышей, и я сразу же предположил, что под крышей — комната, очень просторная, и она фактически принадлежит Тане, о которой не раз до этого мне рассказывала Светка. Причём — душевно: подруги, как сама говорила! Но меня первым делом приятно удивила калитка. По центру сварщик сработал… картину, из обычной строительно-монтажной арматуры: парусник на волнах. И пока мои парни знакомились с милашками Дашей и Машей, с выпирающими из под блузок сочными (по-другому и не скажешь) грудями, в моей голове рифмовались слова. И первые две поэтические строчки волны на калитке «пригнали» мигом (корпус корабля был закрашен коричневой краской, а сами паруса — вишневого цвета): «Закрой глаза — увидишь парус, вишнёвый — так цветут сады».
Перезнакомившись, двинули к порогу в ещё более приподнятом настроении — напряжение всех попустило до безмятежности, да только увидели хозяйку дома, Таню, «Прохор» стрельнул глазами в сторону Сашки с Вовчиком: моя! Те и не возражали: Даша и Маша их впечатлили, оставалось лишь решить в дальнейшем, с кем — Даша, а с кем — Маша. И обеим грудастеньким хохотуньям тоже, так мне показалось, приглянулись и Саня, и Вовчик.
Моё предположение о том, что комната под крышей была и просторной, и всецело Таниной, подтвердилось. Но праздничный стол был накрыт на первом этаже с привычной для того, небогатого на выбор интерьера, времени мебелью: орехового цвета сервант со стёклами-створками, из-за которых взблёскивал хрусталь, диван-раскладушка, застланный покрывалом, ковёр на всю стену в этом месте и на полу, чтоб узоров побольше — стильно по тем временам, два кресла с обеих сторон закрытой двери в комнату. Гадать — нечего и гадать: спальня родителей, точно! Накануне они уехали на майские праздники в Славянск, к родителям. Ко всему, там же и сами родились. Так что уютный и просторный даже кухней (по-хозяйски обставленная со всех сторон подвесными шкафами) дом был и оставался надолго, будь на то общая заинтересованность, в нашем полном распоряжении. «Гуляй, казачка, пока свободна!».… Таня, как выяснилось сразу, и была внучкой новороссийской казачки, только я это брякни.
Сашка с Вовкой поднесли к столу то, что от нас и полагалось: водку «Экстра», вино «Тамянка» и сетку пива «Жигулёвское» — бутылок десять, если не больше. Питейный стандарт тех времён. И хотя много чего другого, креплённого, продавалось в магазинах, да именно вином мы угадали: сладкое и в голову бьёт хорошенько. Девчонки, приготовившие и выставившие на стол закуски, тоже предугадали наши вкусы: иваси под луком, грибочки маринованные, голландский сыр, колбаса «Докторская» и «Столичная», мясной салат под майонезом и, конечно же, сало с прорезью мяса, потёртое чесноком.
Первый тост — за солидарность трудящихся!… Святое! Второй за нашу прекраснейшую Родину: Союз советских социалистических республик —… и не пафос, и не формальность, так как мы и слов-то таких не знали. Дальше — выпили за родителей, а за Танинных — за то, что «свалили» на праздники — отдельно и под громкое-громкое «Ура!» и «Спасибо!». После этого — друг за друга.
Не прошло и часа — душам захотелось чувственного и вдохновенного. Этого только и ждала моя Светка (в ту горячую пору моей романтической молодости без гитары — то не я!). На работу, в шахту, этот привезённый из ГДР, где служил, музыкальный инструмент я, естественно, не брал, но вне рабочего времени из рук её не выпускал.
–… А сейчас, девочки — торжественно и вместе с тем загадочно вздёрнув кверху две чёрные чёрточки бровей, объявила Светка, — вам, и только для вас, будет петь мой… — и неожиданно замолчала; как тут прикусила маковые губки, в задумчивости, после чего и произнесла с райским, не иначе, наслаждением: —… Мой любимый!
А гитара, лишь по форме схожая на советские акустические гитары того времени, уже была за её гибкой спинкой. Она подала её мне. Парни мои вмиг затихли, потому что знали — намечалось действо горько-сладких грусти и печали, оттого щека Саши отыскала щеку Даши, Володя, взяв руки Марии, её ладонями прикрыл себе лицо, а «Прохор», пересев за спину Тане, осторожно обнял открытые плечи, хотя этим и явно её обескуражил.
Прежнее веселье общим молчанием как бы незаметно вышло из дома, а выжидательная ожидаемая тишина в него вошла. (Я любил петь с детства, и это у меня неплохо получалось. В Армии же научился подыгрывать себе на гитаре, с тех пор и стал сочинять уже не только стихи, но и музыку к ним. Моё пение нравилось многим, ну, а песни — тексты моих песен и исполнение, терзая томностью души, запоминались и их пели, уже многие другие исполнители, не только в Горловке. Буквально в последний день апреля я сочинил новую песню и назвал её «Нелюбимая!». Тогда, в доме Тани, она и прозвучала впервые)
–… Все говорят, что ты красивая —
От взгляда тает даже снег.
Но для него ты — нелюбимая,
И это знаешь. Даже смех
Его в тебе обидно дышит,
А взгляд ты прячешь в облаках,
Слезинки будто синью пишут,
Что нелюбима — как же так?!..
Я пел, произвольно глядя в лица своих старых и новых друзей, но взгляд на себе удержала лишь одна Таня, неподдельным сердечным вниманием. Возможно, я нечаянно напомнил ей о чём-то личном или подобное пережитое ею, если только не саму историю песни она напрочь отвергала.
Таня не была такой привлекательной теми же девичьими формами тела, как у Даши и Маши, вместе с тем свой юный возраст она переросла как бы и оттого смотрелась молодой женщиной, хорошенькой своими женскими прелестями и разумной во всём, что от неё исходило.… Короткая стрижка русых волос, но с завитыми локонами под уши, а в них — серёжки-ромашки. Глаза – внимательные и понимающие. Невысокая и немаленькая, неспешная ровная походка от нежелания, скорее, смотреться кокеткой – успел подметить. Взгляд быстрый, но зоркий и осмысленный. Губы чувственные, бледно-розовые, выдававшие её внутреннее состояние.
После «Нелюбимая» Юрка попросил исполнить песню «Крах...». Я не был автором её слов, и как она звучала в оригинале, по решению сочинителя из моих солдатских будней, я и не совсем запомнил, да аранжировал эту песню по-своему. На несколько лет именно она стала «коронкой» двора. (Хитом, как бы сказали сейчас) А городские дворы к тому же — это сотни и даже тысячи слушателей. Слова этой песни простенькие, тем не менее любовь никогда и ни для кого не станет банальностью, а крах в любви — просто разлукой. И я запел:
– Ты уходишь! Ты уходишь,
А я вслед гляжу.
Поздно понял я, поздно понял я,
Что тебя люблю.
Но ты уходишь вдаль —
Слёзы на глазах…
Поздно понял, что любовь
Потерпела крах! Потерпела крах!»…
Да, простенькие слова, констатирующие, что (он) поздно понял..., что (она) ушла со слезами на глазах..., да «крах любви!» — это не ссора, не расставание, о чём я уже сказал, и ничто иное, кроме как — безвозвратность растаявших последним мартовским снегом чувств, которые с собою, когда-то, привели счастье. Может, по-настоящему счастлив был только один, может, и одно на двоих выпало счастье. Тогда: крах, действительно — безнадёга. Самая, что ни на есть, трагедия любви! Пожалуй, «крах» — на этом слове и держался слушательский интерес к песне неизвестного мне (до сих пор!) автора: трагедия любви — этого хочется избежать, не допустив такого, каждому и в любом возрасте.
Моё пение не добавило праздничного настроение никому. Но исполнение понравилось — аплодировали бешено, правда не сразу… А мою Светлану было не узнать лицом: она перехватила взгляд Тани на мне и как быстро выяснилось — узрела в подруге соперницу. Виду не подала, да в словах и жестах холодком от неё повеяло здорово. Ревность она ведь горячая только изнутри нас.
До танцев — когда позволенная близость партнёрши о многом говорит за неё саму — не дошло. Саша с Дашей, Володя с Машей-Марией, прочувствовав друг друга и без танцев — всем им стало горячо до желания уединиться, — вскоре откланялись нам, четверым, чуть ли не хором прокричав от калитки: «Нас не ждите!».
Мы вернулись в дом прекрасно всё понимающие и, даже не присев за стол, стоя, выпили за ребят: чтобы им было мягко-мягко и сладко-сладко!.. Светлана после этого сразу же без сантиментов спросила Таню: «Где! Куда нам!?..». Таня указала на диван, сообщив ей тоже без обиняков, где взять простыню и подушки. Прошла к входной двери, закрыла на ключ изнутри, оставив его в замочной скважине и чуточку повернув, чтобы — береженого бог бережёт! — с улицы, если вдруг — чем чёрт не шутит! — вернутся родители и попытаются открыть дверь своими ключами. А сама при этом — само спокойствие, и такая же, спокойная уверенность, подняла её деревянными ступенями лестницы к себе,… под крышу дома своего. Юрка, не обращая на нас внимания, заглянул ей под платьице снизу и от увиденного-подсмотревшего зажмурился блаженно, жарко растирая при этом ладошки. Налил себе водки — выпил в один глоток, и — за Таней.
… Меня разбудила упавшая на пол вилка.
– Ой, прости, — извинился «Прохор» из-за стола, зычно икнув, и неуклюже замахал в мою сторону обеими руками: спи, спи!.. Нагнулся, чтобы поднять, что так звякнуло — грохнулся со стула, а встать — я помог ему это сделать. Натянув на себя лишь брюки, подсел к нему и подпёр его своим плечом, чтобы он не брякнулся снова, хоть и на ковёр. В это время Света продолжала спать, лёжа на боку, а к нам — спиной, прикрытая по плечи простынёй — ни дребезжащий звон, ни наши с Юркой голоса не потревожили в ней приятной истомы. Да и спала она крепко всегда после того, когда отдавалась мне, не сдерживая в себе всё то, что в минуты близости доказывало ей — желанна и любима (так ей казалось, что любима, а скорее — хотелось и того и другого).
Я спросил Юрку, почему так сильно ужрался, и мой вопрос, что называется… в бровь!
– Не дала… Не нравлюсь я ей, хотя хорошая она,… Таня!
И ответил так, будто и не пил вовсе. Правда, когда стал шептать мне на ухо, что понимает — девчонка ждёт своего принца под алыми парусами, а он — всего-то токарь машзавода..., мне едва удавалось его удержать в равновесии. А ещё тощий, как и я сам, потому и гнуло его то к столу с закусками, то буквально швыряло от стола.
– А всё ты, всё ты!.. — выдал он неожиданно, не презрительно и не обидчиво — раздосадовано.
И пояснил, хоть и здорово пьяный, всё равно подыскивая слова в паузах, чтобы не унизиться самому и меня не выставить виноватым:
– Всё ей рассказал: когда и как познакомились с тобой, в какой школе учились, как учились…
Делая вид, что слушаю «Прохора», я лишь тогда вспомнил цвет глаз Тани: зелёно-карие. Что бездонные — это я отметил сразу, ещё до того, как взял в руки гитару, а вот их цвет лишь зафиксировался в памяти.
Юрке не повезло: жаль, что Первомай для него начался с водки и ею же заканчивался. А мне, разве, не отказывали… Подумал об этом, и это же сказал вслух — и Юрке от этих слов, вроде, стало легче.
– Как ты там говоришь? Ну, козырная твоя фраза!… Ага — он сам вспомнил: «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок.… Карету мне! Карету!».
Зная упрямый и нетерпеливый нрав «Прохора», удерживать его я не стал — довёл до двери и вывел на улицу. Вечер, обступивший дом со всех сторон, только-только приблизился к окнам сумерками и они ещё поблёскивали. В сумерки он и ушёл. Но перед тем посоветовал мне, по-дружески, подняться к Тане:
– Хорошая она, куда твоей Светке до неё!
Я был в том возрасте, когда близость с девушкой, а особенно с женщиной, познавшей мужскую любовную страсть, или пусть и не прочувствовавшей её на себе, непременно окрыляет мужское начало в молодом мужчине. И этим будто бы подталкивает тебя, с каждым новым любовным романом, к откровению с собой, что ты уже можешь желать девушку или женщину открыто, не дожидаясь от неё ни намёков, что желает того же, ни чего-то ещё в этом роде. Если она свободна, конечно. Хотя я уже тогда умозаключал (для себя пока что!), что высокая нравственность и такая же, высокая, моральность, грубо говоря, в постельных делах — удача лишь тех, кто полюбил одну, или полюбила одного, раз и навсегда! Я слышал, что такое бывает — любовь до гроба, да думалось, возвращаясь в дом, а как узнать — единственный ты и навсегда любимый для кого-то, если не прочувствовать это на себе? Или той же самой Тане не предоставить возможность определиться именно с этим: её ли «принц» приплыл к ней из бытия ожиданий или не её всё же «всадник», загнав не одну лошадь, прискакал к ней, единственной. И такой, благоприятный для этого момент, представившемся случаем как бы сам собой настал для меня. И для неё ведь тоже!
… Она только глубже прикрылась, увидев меня босого, без рубахи, но в брюках. Была ли удивлена, — да нет: одной рукой поправила края простыни, чтобы её постель со стороны от открытых дверей на ажурный балкончик, сработанный, похоже, тем же мастером, что и калитка, выглядела белоснежной и свежо.
– «Закрой глаза — увидишь парус, вишнёвый так цветут сады», — заговорил я к ней стихотворными строками, родившимися в моей голове под впечатлением от вида калитки; не увидев рядом с кроватью на что могу сесть — сел перед ней на зелёный (и оказалось, что очень мягкий), будто весенняя травка палас и, скрестив ноги, я продолжил, спросив серьёзно: —… Закрыла?
Ответом был её и насмешливый, и любопытный в то же время взгляд: поиграем в воображение? Я кивнул, убеждённо.
–… Видишь: это ты стоишь на берегу.
Таня тут же закрыла глаза.
– Воображая, и часто — признался я ей, — так зову свою мечту… Она становится ближе ко мне. И это правда.… Вишнёвые паруса видишь?
– Ну, вижу, — отозвалась Таня, и не просто отозвалась — с интересом.
– Глаза не открывай! — строго предупредил её я. — Тот, кто приплыл к тебе под этими парусами, подходит к тебе — его лицо видишь только ты — и берёт твои ладони в свои.… Таня, руки твои где?
Таня робко и даже настороженно вынула из-под простыни свои ухоженные ручонки, развернув их ладонями кверху.
– Что ты чувствуешь сейчас…, — на её ладони я положил свои, к этому времени стоя уже на коленях и склонившись над ней, — тебе неприятно: его ладони тяжёлые и холодные? Чужие тебе?
– Нет! Они не такие! — торопливо возразила Таня.
– В них сила и надёжность?
– Не знаю.… Приятно от их прикосновения. И жарко очень.
– Это твой мужчина, Таня, твой! Сейчас ты прочувствуешь на себе его губы — губы не молчаливы в отличие от рук. Они разговаривают сладкой влажностью или сухой терпкостью.
Осторожно и легонько я стал целовать уголки Таниных губ — она открыла глаза, но что-то в ней самой сомкнуло ресницы снова. Её русая головка, соскользнув с подушки, приподняла ей подбородок и губы произвольно приоткрылись. Вдохнув глубоко и с наслаждением, её ладони коснулись моей спины, а затем пальчики мягким гребнем вошли в мои волосы. И она позволила целовать её всю, приподняв ноги в коленях и так стягивая с самой себя простынь.… Опомнилась — замерла, когда ей стало больно. Я уже знал, почему бывает больно — извинился тут же: откуда мне было знать, что она ещё девственница; приподнялся на локтях, чтобы всё это закончить, но гребень её пальчиков стал жёстким и притянул мои губы к её губам, заговорившими со мной сладкой влажностью. Этим она дала мне понять, что её девичьи грёзы, позвав мечту, стали явью, и её чувств тоже, а майский вечер, потушивший солнце, станет последним, девичьим, и первым в качестве уже женщины…
Завтракали не так весело, как вчера праздновали. Воспользовавшись разговором Светы по телефону со своей мамой, Таня тихонько и осторожно спросила меня:
– Мы ещё увидимся?
– 4 мая у меня день рождения, но обычно мы «гудим» всем двором по этому поводу сразу после Первомая. Сегодня начнём — к обеду меня уже будут ждать в апельсиновой роще (объяснять, что апельсиновая роща — это абрикосовая посадка рядом с городскими прудами, я не стал: сказал так по привычке). Но 5 мая я ложусь в больницу, возле кинотеатра «Украина»…
Таня закивала головкой — знает, где это.
– У меня язва, с Армии. Водкой только и спасаюсь. Направление мне выписали ещё до праздников — кровоточить начала. Надо ложиться …
– И ты ещё в шахте работаешь?
Таня обхватила руками голову, тряся ею, будто знала, каково это — рана в желудке да к тому же и кровоточит. На это я лишь пожал плечами, и продолжил:
–… На первом этаже находится челюстно-лицевое отделение, а вот на втором — терапия, там меня и найдёшь. Запомни, или лучше запиши, мою фамилию…
Таня улыбнулась кротко, но явственно смеясь глазами.
– Мой Радомский! Мой Радомский!… Светка о тебе только так всем и говорит: «Мой!..». Давно твою фамилию знаю.
И смех в её глазах исчез, будто и не было его вовсе — обернулась на голос Светланы, а та всё ещё продолжала успокаивать маму и клялась, что скоро будет дома. Таня кусала то верхнюю губу, то нижнюю: злилась, наверное. Потом обронила вряд ли невзначай: «Твой и… мой!».
-----
В отделении терапии меня знали как облупленного: за два года, что я легко отгулял, но тяжело отработал после срочной службы в ГСВГ (Группа Советских войск в Германии), это был мой четвёртый вояж… за здоровьем, хотя бы до осени, когда нездоровье снова примчится, и обязательно. Запомнили почему? А как не запомнить больного, неизменно с гитарой, как со своим собственным лекарством. Всегда — за спиной, на зелёном в белых узорах ремне, и красивая такая — явно заграничная, или гитара — рядышком с ним, да — хоть где: всё равно рядышком.
«Чудаковатый какой-то!» — это поначалу судачили: когда язва — оттого и людей плохих так называют — завела меня на слабых и коротких шагах в отделение в первый раз. А выписывался — «Осенью ждём!». Так со мной прощались, не желая, конечно, мне боли от осеннего обострения, а всего-то — не всем, но большинству персонала отделения — хотелось интеллектуального общения и услышать мои новые стихи и песни. Мои песни лечили души воспоминаниями, не всегда приятными — и то есть правда, да не только палатных слушателей…
Первую неделю пребывания в больнице я не вставал с постели. Таблетки, микстуры, уколы и капельницы — по часам, и — уже ночь за окном, одна за другой. Потому я и не ждал никого — одной маме разрешалось навещать меня.
К середине мая ситуация резко изменилась: с утра и до поздней ночи я высиживал и отлёживался в своём больничном «вишнёвом саду». Три низкорослые вишенки, но густо ветвистые, посаженные, может, а то и сами проросшие, далеко в стороне от двухэтажного больничного корпуса — это и был мой вишнёвый сад. Это место хорошо знали мои друзья — здесь, обычно, чуть ли не толпой, мы и проживали моё больничное время. Моё — потому, что все, кто приходил меня проведать, были ведь моими гостями, только «гости» — это так: к слову. Дворовые пацаны с девчонками приходили надолго, и, понятно, не с пустыми руками: водка, вино, пиво лились рекой до звёзд на небе и Луны. Только молодость — она ведь не только дерзкая и выпивающая, и немало, главное — не скучная. А двор, в котором я вырос и жил, никогда не дрался «стенка на стенку», между собой — да, бывало не раз: как без этого по-настоящему подружишься? К тому же мой двор — это шесть пятиэтажных домов, и парней да ещё из грузчиков химического комбината и, преимущественно, забойщиков, проходчиков и «лесогонов», отслуживших и повзрослевших умом, потому и ищущие на свою задницу приключения обходили эту точку на карте трёхсоттысячного города стороной. Девчонок было гораздо меньше, только они нет-нет да приводили подруг по работе или из учебных заведений, и эти подруги, что называется, прирастали к нашему двору.… Пять или шесть — не помню, новеньких мотоциклов «Ява», готовые увезти их хоть на край света, то там то сям отблёскивали, от подъездов, никелированными частями и деталями, зеркалами с обеих сторон руля, приманивали разноцветными габаритами, а разновозрастные исполнители задушевных песен под гитару (тенденция тех времён, но для нашего двора — некая музыкально-певческая особенность), чуть ли — не один на другом, пленили неискушенные коварной любовью юные души.
Таня тоже приходила — два или три раза я её видел у входа в больницу, только к нашей компании она ни разу так и не подошла. Я её понимал: приходила ведь ко мне, а я — будто в цветнике из девчат. Но как-то заморосило дождиком с утра и до самого вечера, а потом — резко солнце, да такое жаркое, что и получаса не прошло, как кругом — сушь и пестрая благодать разнотравья. В «вишнёвом саду» мы наконец-то были одни.
Темнело, да и ветви в ожерельях из вишен прогнулись чуть ли к самой земле. Увидеть нас практически невозможно было, оттого мы не стали терять время на слова — мало того, что Таня пришла в прозрачной блузке на голое тело, но её восковые колени и всё, что выше них и что не могла скрыть короткая джинсовая юбочка, враз сбили мне дыхание до самого настоящего удушья от смелого желания: сейчас и здесь заняться с ней любовью. Рядом с нами и близко никого не было, все больные — в палатах: начало одиннадцатого. Но Таня пришла ведь не за этим…, оттого всячески уговаривала меня, волнуясь в удовольствии: «Не надо здесь». Пока уговаривала и то и дело натягивала на прежнее место свои трусики, часы на здании городского узла связи ударили звонким и резонирующим «бам» один раз: 10 часов 30 минут.
– Всё: батя меня убьёт, если через полчаса не появлюсь дома! — устало, но решительно выдохнул из себя Таня, ругаясь и на саму себя тоже.
Только её трусики, наконец-то, были уже в моей руке и, чтобы она их снова не смогла надеть, я положил их на расстояние длины своей руки. Сжать колени она уже тоже не могла — моя коленка была между ними, и она, понимая, что теперь-то точно я не отстану, сдалась…
… Я пребывал в приятной истоме, понемногу успокаивая дыхание, чтобы закурить и этим продлить удовольствие, а Таня, рьяно шаря в траве и матерясь даже, что-то усердно искала. В этот момент часы на городском узле связи начали отсчёт одиннадцати ударов.
– Ну, всё! — вырвалось из неё отчаяние и горечь незавидного положения. —… Из техникума сразу же — домой, и так — неделю или две: никаких гулянок. Никаких подруг! — Как тут она нависла надо мной взъярённой волчицей и спросила: — Где?!.. Куда ты их дел?
– Что? — машинально ответил я, всё еще отрешённый от всего, что мешало моему телу оставаться мякишем в мёде.…
– Трусы мои где? — не спросила, а потребовала Таня, и вырвав меня из сладости ощущений, переспросила и громче, и требовательнее: Где… мои… трусы!
С трудом всё же сообразив, чего от меня хочет ночь в её зрачках, я завалился на бок, потянувшись рукой за тем, что отбросил в траву минутами ранее. Но трусиков там не было. На коленях я выполз из вишен, и, как только что сама Таня, стал шарить в траве по обеим сторонам. Часы пробили последний, одиннадцатый, удар — она взмолилась: «Отдай..., ну что же ты со мной делаешь?!», а я продолжая ползать в траве, искренне в голос недоумевал:
– Да вот здесь я их положил!… И — нет их.… Во дела!
Стали искать вместе, покуда не столкнулись лбами, но не до боли и не до смеха было нам обоим. Она поднялась, спросила, куда ближе — через центральные ворота или?… Я указал на «или»: метрах в десяти какой-то здоровяк раздвинул в заборе две вертикальные арматурины — туда она и побежала.
Ползая в траве и подсвечивая себе зажигалкой, я слышал ещё какое-то время её спешные нетерпеливые шаги, зная наверняка, что она сейчас обо мне думает. Но куда могли подеваться её трусики — это напрягало отнюдь не любопытством: хоть плачь, хоть смейся — никого ведь рядом не было!
Проходя мимо постовой медсестры, в этот раз я не стал ей объяснять, какими путями-щелями притопал в отделение, а попросил, чтобы она разбудила меня с рассветом. Ничего не ответил на её шутливое «На рыбалку собрался?», а засыпал долго, так как не получалось отключить мозги.
С раннего утра обойдя и обшарив чуть ли не весь больничный двор в квадрате пересечения четырёх улиц, я так и не нашёл то, что прошлой ночью буквально испарилось — не иначе! Вернулся в отделение по колени мокрый от утренней росы, набрехав той же курносой медсестре, что как Лев Толстой ходил босой по траве-мураве. И только, кажется уснул — её голос над ухом: «Скажи своим… кралям, чтобы так рано не приходили. Написано ведь: посещения с 11 часов».
Мне достаточно было только увидеть Таню, сжавшуюся в дрожащий комок на стульях, выставленных в ряд вдоль стены от центрального входа, чтобы понять, что, скорее, из-за меня у неё — не просто неприятности. Я присел перед ней — она отвернула лицо, а слёзы из воспалённых и утомлённых глаз так и вовсе хлюпали на коричневый кафель пола. Я даже не сказал ей: «Привет!», а заговорить первым, спросив, что же случилось, не посмел — тогда я ещё не знал, что предчувствия во мне не бывают ложными.
-----
… От больницы до магазина «Пассаж» Таня бежала, сняв босоножки. Мало кто встречался на её пути, да ей всё же казалось, что каждый встречный видел её без нижнего белья, и ей было паршиво ещё и от этого Оттого и постоянно тянула к коленям коротенькую юбчонку, а у магазина, обронила одну из босоножек, и ступив за ней в сторону, чтобы поднять, наступила на что-то острое. Выдернула из пятки осколок стекла, непроизвольно измазав кровью руки. «Ну вот и причина» — подумалось ей, в качестве отговорки, что домой заявилась так поздно: хромоножкой добиралась!..
В парк лишь вошла — эта благоустроенная архитектурными строениями, отбеленная известковым раствором и разукрашенная как масляными красками, так и, особенно, разнообразием диковинных деревьев и цветами территория ещё не отгуляла запланированными мероприятиями: музыка на танцплощадке, веселье голосов и всё такое — и зная короткую тропинку к своему «Рудучу», Таня по ней и пошла, прихрамывая, скуля в том числе и от жгучей боли в ноге.
… Как и знала — вот уже и ступила на ближний к ней тротуар своей улицы «Фабричная».
Когда к её дому оставалось не более сотни шагов, на противоположном от неё тротуаре заметила милиционера, вышагивавшего в том же самом направлении, что и она. Улица была освещена, будто и не было ночи, потому и бросилось ей в глаза, что милиционер, молодой парень, не отпускает её своим цепким взглядом. Опять же — мнительность: и этот знает, что без этих самых… Только об этом подумала, а он — наперерез ей. Остановился рядом — мог при желании и рукой коснуться. И взял её за локоть, жёстко, как только Таня хотела пройти мимо.
– Я вас задерживаю, гражданочка, — произнёс игриво и насмешливо. — Хотя голос, действительно, молодого милиционера тут же выдал не напускную взрослую строгость, — можем вместе пройти к вашему дому, там я и сообщу вашим родителям, — такая у меня обязанность: блюститель порядка! — чем вы занимались со своим дружком в общественном месте. Во дворе больницы, то есть. В кустиках!
Он отпустил руку Тани и она ударила ею себя под сердце от напряжения. И сердце забилось иначе: паническим и в то же время унизительным страхом.
Подбив кверху козырёк форменной фуражки, милиционер прожёг, насквозь, ещё и недобрыми глазами. Растерянность, озадаченность, внезапная оторопь — нет: крах, полный и с переливом глотнула с воздухом Таня и всё в ней, что могло ощущать, чувствовать и соображать оказалось в одном месте, застряв к тому же промеж горла. Не выдохнуть, ни что-либо ответить. Но то, что он ей показал, достав из кармана брюк — её голубенькие трусики с бабочкой из жёлтого бисера — подкосило ей ноги.
– Ну-ну-ну, гражданочка!.. — Милиционер подхватил Таню и, удерживая её от падения, осторожно и даже нежно, точно хрупкую дорогую ценность, договорил, что не успел сказать: —… Не надо обмороков, не надо истерик.… Дала ему — дашь мне. Пойдём, пойдём, вот в этот переулочек — за ним такая же мягкая и зелёная травка.
И повёл Таню, уже обнимая её за плечи, вроде как, родную и любимую, продолжая говорить:
– Скажи спасибо, что я вас, с твоим хахалем, когда набрёл на вас, обходя территорию больницы, не отвёз после ваших «охов» и «ахов на «трипдачу»… (В те, советские, времена патрульная милиция, действительно отлавливала, причём, любых возрастом, кто «этим» занимался в непристойных для любовных утех общественных местах, задерживала их за «разврат» и увозила в городской кожно-венерический диспансер; там у них брали соответствующие анализы — проверяли, словом, на наличие венерических заболеваний, а не обнаруживались — отпускали; процедура, понятно, не из приятных, как и сама неловкая ситуация: «Стыд и срам!..», да сам факт, попасть на «трипдачу», стоили глубоких моральных переживаний)
–… А вот труселя твои да ещё с такой вышивкой: правда, классная бабочка, подобрал.… Не обессудь, Таня — тебя, вроде, так папа с мамой назвали, посмеяться из-за ограды больницы пришлось: видели бы вы себя, когда искали в траве то, чего уже там не было.… Да не дрожи ты так — вёл переулком к парку свою добычу охотник-патрульный милиционер, не торопясь и этим даже наслаждаясь, что его «трофей» смирился со своей дальнейшей участью.
Рослый, плечистый, с погонами сержанта, ещё и при табельном оружии в коричневой кобуре — на показ и заочное усмирение. Уверенный в себе он успокаивал Таню и общей как бы с ней уверенностью, что то, что он себе позволяет и ещё позволит вот-вот с ней сделать — гораздо лучше, чем заведённая на неё карта обследования в кожно-венерическом диспансере; если и поставили бы только на учёт, то об этом узнали бы другие гораздо раньше, чем она оттуда ушла абсолютно здоровенькой по результатам анализов; и не важно, что показали анализы, так как молва, непременно, растрезвонит, — была, значит, что-то всё же подхватила, гулёна!..
Недобрые глаза подобрели и стали голубыми — Таня этого не видела, едва переставляла ноги и чувствовала лишь боль в пятке. Растерянность и паника остались позади неё, споткнувшись с ней вместе, да там же, где споткнулись, и остались, а голова была тяжела-тяжела. Будто гроза в голове, а мысли о том, что же делать — непроглядные тучи, одна другой страшнее. Позвать на помощь, так рядом — милиционер..., вырваться и сбежать — догонит и дождётся, отца, а тот наверняка её уже высматривает от калитки, что ещё?!.. И снова — бессмысленная паника, и снова — беспомощная растерянность: догнали, и быстро. И почему-то — в парковой зоне.
Таня, оттолкнув от себя милиционера, осталась на месте. Если бы она умела драться — дралась бы до смерти, но… Заревела ту же и попросила:
– Не делай этого….
Не договорила — сержант положил свои настырные от нетерпеливости руки ей на плечи, надавил ими и резко оттолкнул от себя. Таня упала спиной в траву, моментально сжавшись в комок, точно ёжик. Но её защитными иголками были лишь слёзы и всё те же самые слова: «Не делай этого, пожалуйста».
Сержант, сняв с головы фуражку и плечами стряхивая с себя синий мундир, произнёс четко и внятно:
– Перестань реветь, расстегни блузку и раздвинь ноги. То, что я подобрал в больнице, я тебе или отдам после этого, или в противном случае не отдам, и тогда снова вернемся на «Фабричную»… Хоть до утра будем ждать там твоего папашу — я до восьми утра на дежурстве.
Выждав немного и пригладив на голове светлые волосы, сержант опустился перед Таней на колени, издевательски спокойно и медленно расстегивая на себе брюки…
-----
– Отдал? — спросил я, докуривая вторую или третью сигарету в фойе больницы, и слыша одну лишь Таню.
– Нет! — влажно хлюпала она носиком, и за всё время своего горестного рассказа-исповеди, глядя куда угодно, на кого угодно, но только не на меня. А я и не искал слов утешений — сержант изнасиловал ведь не только Таню, а и мою неразумность от неугомонности добиться любой ценой того, что захотелось вчера, под вишнями, и растоптал мою честь. Пусть и нелюбимая, но Таня — моя девчонка, и что бы я не сказал ей в своё оправдание, я и только я стал той самой, очевидной и побудительной, причиной, сотворившей с ней такое. Как следствие моего, опять же, эгоизма. Осознавая это до скрежета в зубах, я молчал, безотчётно посылая всех на…, оравших со всех сторон замечаниями за курение в больнице. Она молчала и плакала от ползающей по всему телу боли, от проковырявшего душу стыда, от мерзких ласк и поцелуев не её, конечно, позора, а позорника рода человечьего: клятвенно присягнувшего не позволить-не допустить…, но всласть поигравший её страхами дочери и боязнью прослыть «девкой-давалкой» в кустах. И затянувшееся молчание было таким же неуместным, если бы я даже стал божиться перед ней, что найду эту падлу и отомщу. Поэтому, может, Таня взглянув на часы, и подорвалась с места — «И на занятия опоздала! Да за что же мне это всё?!..». Сама же и ответила, убегая:
–… За Светку? Но ведь я тоже люблю!
Эти сказанные Таней на бегу, и для себя только, слова оглушили и ослепили меня честностью перед самим собой: виновен! Тут же моим поводырём стала месть, а зло забросало вариантами, как это можно сделать.
Лечение язвы желудка закончилось, так как в неотложном лечении нуждалась теперь моя душа. Точнее — совесть и гордость. В памяти я перебирал знакомых мне милиционеров — никого! Ясно было лишь одно: по месту расположения больницы сука эта из подразделения ППС Центарльно-городского РОВД, жёлтые полоски на красных погонах — или младший сержант, или сержант, молодой и, вероятнее всего, что недавно отслуживший в Армии. У него светлые волосы и недобрые синие глаза. Информации — мизер, и никто ведь ничего не добавит из приятелей, кроме как поржут до усыку: ментяра трусы Валеркиной зазнобы спёр под самым его носом! Ненависть к незнакомому мне ублюдку буквально толкала меня в спину — придумай причину, что бы выписаться из терапии с больничным листом или без него, но найди, этого…, как хочешь, и накажи. И ничего во мне не спорилось по этому поводу.
Главврача я прождал весь его рабочий день, да под конец в край утомившего ожидания выяснилось, что тот — в Донецке, на симпозиуме и пробудет там ещё два дня. «Alles!» — сказал я сам себе, одежда под матрасом, утром подорвусь и хрен с тем больничным листом. Но утром меня снова разбудила курносая медсестра. Её чуть ли не брызгающий мне в лицо морализм я не слышал — сбежал по лестнице вниз, в покои челюстно-лицевого отделения, до этого предчувствуя, что пришла Таня.
В этот раз я не позволил ей отвернуть от меня замученное страданиями лицо. Обнял её, прижал к себе, родную и дорогую мне на самом деле, целуя ей волосы, пахнущие сосной в Новый год, а в промежутках, спрашивая: «Снова?!… Он тебя нашёл? Тварь эта...».
– Нашёл, в техникуме, и увёз на квартиру…, — не плача, но со стоном, мученическим, призналась она.
– Зарублю! — выкрикнула из меня месть.
– Или он тебя пристрелит.… За нападение на сотрудника правоохранительных органов.
А злобе во мне было всё равно: кто кого!
– Стоп!..
Меня осенило.
–… Он от тебя не отстанет, покуда не найдёт себе другую, извини, игрушку для того самого… И приведёт тебя на эту же квартиру, где вы были — наверняка, в следующий раз.… Таня, постарайся запомнить хотя бы адрес дома, там я его и дождусь.
Этой своей тирадой я буквально взмолился перед ней, чтоб она послушалась меня.
– Это не его квартира, а какого-то пьяницы. Двухкомнатная, — на глубоком безжалостном вздохе вспомнила Таня, — спальную комнату он открывал своим ключом, в ней чисто, то есть для таких дел он её и держит.
Говоря об этом Таня трясла головой, не соглашаясь с тем, что мне каким-то образом с ним нужно встретиться, лицом к лицу.
– Пойми, Валера, я угодила в капкан…
– Мы угодили! — возразил я.
Но, похоже, она даже не услышала то, о чём я только что ей сказал, повысив голос.
… – И ведь не пожалуешься никому, — продолжила, —… кому — отцу, маме?… Дочь свои трусы, ими же купленные, потеряла и за это теперь её… Нет! Никому про это рассказывать нельзя, и тебя прошу — молчи, да и доказать, что он меня насилует — как и кому это докажешь? …Он приятной внешности, не грубый, не хам — в квартире, у пьяницы, я его только и рассмотрела. Но ты бы видел его глаза: они никого и ничего не видят,… может себя в зеркале. И синевой своей дьявольской подчиняют…
– Гипноз?!
– Да нет: я всё вижу, всё слышу, всё понимаю. А самое ужасное, что ощущаю мразь, ползающую по мне, проникающую в меня, а сбросить с себя эту мерзость удерживает страх. Он твёрд, спокоен и рассудителен. Вздумаешь пожаловаться кому-то на меня — твоё право, сказал ещё тогда, в парке, но запомни: если тебе и поверят и пожалеют, так это твои родители, а все прочие, уже на следующий день, на каждом углу будут смаковать историю, как ты со своим хахалем кувыркалась в кустах и, в результате, пришла домой без трусов…
Таня оборвала свою же речь, стала нервно кусать губы, и главное, как я понял, не решаясь ещё о чём-то важном мне сказать, прятала от меня под ладонями глаза.
Решилась таки:
– На нём перчатки, такие тонкие, прозрачные,… медицинские, наверное, и… презервативом пользуется. Потом — в целлофановый кулёчек его и — в карман. Вот такой он: предусмотрительный!
На выходе с больницы Таня попросила меня ничего не предпринимать. Коснувшись своими нервно подрагивающими пальчиками моих щёк и проведя ими до подбородка, остановившись на шее, спросила, впервые за последние сволочные для нас обоих дни, глядя мне в глаза, открыто и нежно:
– Я тебе не противна?
И я впервые поцеловал её как девушку, которой не нужно было уже отвечать.
С областного консилиума вернулся главврач. Я вырос на его глазах — мы жили в одном доме, только в крайних подъездах, но он взял с меня слово, что я должен буду закончить лечение… у него, в его квартире. Жене он объяснит, что мне нужно колоть, куда и сколько — тётя Оля работала в «Скорой помощи». Чтоб никто не услышал-не подслушал, прошептал мне на ухо: «На тощак выпивай ложку медицинского спирта, заедай сливочным маслом, только не сразу, или выпей куриное яйцо». Из нижнего ящика стола достал флакон медицинского спирта и сунул мне его под полу пижамы, и даже при рукопожатии не спросил, почему я, не долечившись, ухожу.
– За больничным придёшь… сам знаешь когда, — сообщил провожая к двери. — Когда ты лёг?… Пятого мая, вот сам отсчитай 31 день и — приходи.
В тот же день я встретился со Светкой. Она не лезла мне в душу, хотя давно подметила, ещё в больнице, что со мной что-то не так. Радовалась моей выписке, но оставалась при этом настороженной, точно ждала от меня недобрых известий. Типа: «Прости! Извини: нам нужно расстаться», — чего-то в этом роде. Мне же нужно было от неё, чтобы она сообщила о моей выписке Тане. А она будто почувствовала это и, блестя глазами неискреннего умиления, сообщила, что «У нашей Тани кавалер появился. Милиционер — красавчик! На машине её вчера увёз после занятий». И хоть я знал, что за кавалер к ней приезжал, куда и зачем увёз, также неискренне порадовался за подругу, для вида.
Два дня я просидел в засаде (где меня нельзя было заметить) недалеко от торгового техникума, и каждый раз, когда Таня направлялась домой, а путь — не близкий, я сопровождал её, незамеченным, в надежде, что падла милицейская проявится. Но — мимо кассы, как говорится. Следующие два дня я лежал под капельницами под присмотром тёти Оли, и подолгу, а после них — никаких лишних движений и только — спать. Ещё три дня я боролся за себя: боль в желудке не унималась, что означало — язва не рубцевалась, а до спуска в шахту, на глубину 860 метров, оставались сутки. Немного больше, правда, потому что моя бригада лесогонила (работала) в третью смену: с семи вечера. Потому, отлежавшись этими тремя днями, до роботы я направился к дому Тани. Улицу я знал: «Фабричная», а калитку с парусником запомнил — домом не ошибусь.
Проделав тот же путь, что в роковой для нас обоих день проделала Таня — тропинкой через парк, и вот она — «Фабричная», а чуть ниже, значит и её дом. Но я не спешил появляться на самой улице. Столбил в том самом переулке, которым она с сержантом, уходя от улицы, вышли в парковую зону, — только шёл он, сука, а её за ним волочило несчастье. Прячась под ветвями, из под них и наблюдал за передвижениями кого-то и чего-то в обоих направлениях. Светка говорила, что за Таней в техникум «ухажёр» приезжал на милицейском «Москвиче», жёлтого цвета. Его-то я и высматривал. По времени Таня должна была уже быть дома, и какая-никакая, но была вероятность, что сучёнок в погонах мог появиться в любую минуту. Правда, тут же и встревожился мыслью: а что, если милиционер действительно пройдёт улицей, да потом окажется, что он — не та крыса вовсе.… Резонно! Как тут — и прозрение: крыса-то меня в лицо не знает!
У калитки с парусником я стал звать хозяев. На мой голос вышла русоволосая женщина. Подходила ко мне походкой Тани — мама, к тому же и возраст: до сорока лет.
Не дав мне даже поздороваться с ней и объясниться, почему я здесь, возле её дома, заговорила ко мне материнским счастьем:
– Если вы, молодой человек, пришли свататься к моей дочери, тогда вы опоздали с этим. Таню увёз на машине её жених, — и указала рукой в сторону швейной фабрики. — Оттуда приехал, милиционер, кстати, — туда и увёз.… Ах, как подорвалась моя стрекоза, как только он просигналил — ждала!
Мама Тани продолжала говорить, что парень из себя видный, но суровый нравом — это она по его глазам определила, да уж лучше, чем муж-размазня. Ещё что-то хвасталось в ней и успокаивало надеждой и верой материнское сердце, а меня в это время её мечтаний изводило самобичевание: ждал сержанта со стороны центральной части города, а он подкатил на своём долбаном «Москвиче» с окраины.… Может, там он и живёт и, рано или поздно, оттуда, куда увёз Таню, её же и привезёт. Вот только сразу же глянув на часы — в очередной раз: мимо кассы! … У меня оставалось время лишь на то, чтобы от Таниного дома быстрым шагом пройти «Фабричной» вверх, откуда я и пришёл, до автобусной остановки и дождаться автобуса, который отвезёт меня на шахту. И опаздывать нельзя — у шахтных клетей, что опускают на угольные горизонты, своё безусловное расписание спуска-подъёма горняков.
Работа шахтёра в забое или в проходке — это самый что ни на есть каторжный труд, и мне, с моей болячкой внутри, не хватало ни сил, ни времени продолжать поиски того, кто разбудил во мне лютую ярость во имя возмездия за то, что он продолжал делать с Таней. Периодически я звонил ей даже из под земли, через шахтную связь с поверхностью, но она отказывалась говорить на в край измотавшую мой покой тему. «Когда-то это должно закончиться», — уклончиво отвечала она, переводила разговор на Светку, которая была уже не моя: приехавший к своей родне в Горловку белорус, и неделю не пробыв в гостях, увёз её в Минск, где сразу и женился на ней. За Светку радовался и я — никаких других намерений, как только понежиться с ней в постели, у меня не было, а так — дай-то Бог, чтоб всё у них, с не целованным, видно, белорусом, было серьёзно и надолго. Таня заверяла меня, что справится с этой постыдной — да (!), унизительной — да (!), ситуацией сама, а сесть мне в тюрьму из-за этого подонка на службе у закона — такого она себе не простит. Я отмалчивался на такие её слова. Была бы она в этот момент рядом, мою благодарность за заботу о моей дальнейшей судьбе прочувствовала бы, настоящую и искреннюю, да зло меня всё равно не отпускало, а месть,… месть нашла человечка с двумя отсидками за разбой. А точнее сказать — та же моя судьба свела меня с «Картузом», а по документам — с Игорем Ростиславовичем Фуражным, и с ним мы работали в одной бригаде.
Первый отработанный месяц плюс больничный и в день получки карманы мои — полны денег. Без малого тысяча рублей, а за такие деньги тогда можно было скупить какой-либо овощной магазин или половину продуктового — запросто. От «Картуза» я как-то и услышал о воровском авторитете «Куполе», и что он с ним лично знаком, чем гордился прям-таки до слюней на губах. А получка на шахте — это пьянка, массовая, и по всему посёлку Ленина (я работал горнорабочим очистного забоя на шахте им. Ленина). Таких называли «собаками» в открытую, как зовут по имени или фамилии, или «короедами» — это не оскорбление, а горняцкий статус. Вот в этот самый день, получки на шахте, две «собаки», я и «Картуз», допились до того, что прилюдно стали клясться и божиться, что любое заявленное им или мной желание будет выполнено. Только скажи: чего хочешь!
«Картуз» прям-таки балдел, как от папироски с «планом», от игры на гитаре, и я пообещал научить его играть на ней в течение месяца. Но при условии: в выходные дни, на его же гитаре буду учить, и чтоб до моего приезда в посёлок Мичурина, где он проживал со своей матерью — ни грамма, ни полграмма! А моё желание его слегка озадачило: свести меня с «Куполом». Он не отказал, но попросил время, чтобы такое обмозговать. «Авторитет всё-таки! Чтобы «Купол» согласился встретиться и калякать с кем попало — нужён сурьёзный повод. По нашему: твоё «обозначалово» (тема и проблема) должны быть ему в масть. Никак иначе!» — так прямо и сказал, и от этого даже протрезвел. «Накрылись мои пять выходных дней!» — подумал я тогда, а под бойкий одобрямс бригадных «собак» протрубил то, что в Донбассе знает и стар и млад:
– Пацан сказал — пацан сделает!
Но и «Картуз» был из таких: в один из выходных августа, встретив меня на автобусной остановке «Ртутный комбинат», трезвый как стёклышко, повёл меня не к себе домой, а к… дворцу вора в законе (так я полагал: такие живут во дворцах). Но я ошибся: домишко из бута, на глине, но сложенный ладно и под оцинкованной крышей. Забор с тех же шахтных «распилов» (не струганная двухметровая доска «четвёрка») и добротно подогнанная одна к другой по периметру домохозяйства, оттого рыжая, подгоревшая на солнце, будто бы такой краской забор и покрашен.
Первым делом я увидел сухую костлявую спину с татуировкой аж под бока и до шеи: купола с крестами. Хозяин подворья, с грядочками вызревших помидор (их цвет так и бросился в глаза) по обе стороны от вытоптанной дорожки к дому, сидел под раскидистой яблоней, спиной к нам. Рука «Купола» указала мне где можно сесть — на краешек лавки в тени, а сам он докуривал сигарету и то ли загорал на последнем жарком солнышке, то ли «гонял» в голове какие-то свои мысли. «Картуз», как только мы вошли во двор, что-то сказав авторитету на лишь им понятном сленге, исчез в проёме открытой, но зашторенной гардиной, входной двери в дом, с пакетом, в котором, пока сюда шли, цокали бутылки.
«Купол» докурив, сплюнул, легонько и аккуратно, на окурок и растёр в сухих пальцах. Оттолкнувшись от земли левой ногой, так и развернул ко мне себя в кресле-качалке из гибких ветвей серого оттенка. Увидев его лицо, сразу же подумалось — во сколько же он сел в первый раз? А он и подсказал как бы: ощупывая пальцами впалые не сегодня выбритые щеки — не подгорело ли лицо, на среднем пальце синела наколка-перстень, что значило — сидел по малолетке. Перстень, и тоже на среднем пальце правой руки, иной формы только, был выколот и у меня (когда в Армии занимался этой хреновиной, этого я не знал, ну, а потом — уже наколот и избавиться от него можно было, да, но лишь выжечь кислотой…).
«Моложавый и жилистый», — говорят о таких, как выглядел «Купол». Коротко острижен. Волосы тёмные и густые даже на выпирающей макушке, оттого и его голова такой своей «свекольной» формой ассоциировалась у меня как ещё один купол. Правда, у этого «купола» узорами и высечкой на нём были черты и детали лица: глубокие глазницы, скорее, умышленно прятавшие взгляд недоверчивых и скупых даже на голубой цвет глаза, а губы так и вовсе смотрелись коротенькой и постоянно подрагивающей серой линией разговора с самим собой, и когда он заговаривал — рот не просто открывался, а этим, наверное, сигнализировал: слушать и слышать — буду говорить!
И эта сероватая линия, вздрогнув в очередной раз, округлилась и я услышал голос, далеко не панибратский (не ошибся я в своём предположении):
– Излагай, с чем пришёл и зачем пришёл?
В это же время к столу, под яблоней, подходили мать «Купола» с подносом, накрытым белым вафельным полотенцем, и «Картуз» с бутылкой водки «Столичная» и тремя бутылками пива. Мать, такая же моложавая на вид, подойдя к сыну сзади, сперва сморщенной линией рта чмокнула сына в макушку — тот осознанно, благодарно и с нежностью, коснулся своей щекой её сухонького плеча — поставив на стол, то что принесла, отходя напомнила, что пора обедать. «Картуз» выставив на стол спиртное, наткнулся на и мне ставший понятным взгляд авторитета: «Погуляй пока».
Я вынул из карманов брюк и пиджака, а жара стояла — глупость одевать пиджак при такой высокой температуре, да в нём были карманы, и для меня они были как раз не лишними, — пять ещё не распечатанных пачек денег: две по триста рублей и три по сто. Всего девятьсот советских рублей. Подсунул их, поближе, как смог, к «Куполу», оставив себе на проживание три сиреневые «двдцатьпятки». Стал рассказывать, ничего не придумывая, да так, чтоб попасть в ту самую «масть» интересов тюремного сидельца в авторитете, но — на воле тоже.
– И чего хочешь? — наливая себе водки в двухсотграммовый стакан ровно до половины, спросил, после того, как выпил и закусил помидорчиком, прожевав его своим маленьким ртом.
Я отчаянно ответил:
– Хочу, чтобы эту тварь запидарасили! … Если этих денег мало, скажите сколько — я приду всё равно, даже если мне придётся для этого пахать год, голодать и ходить в обносках.
Купол передёрнул плечами и выдал гримасу на своём лице, будто бы гнев мой ему понятен, только зачем перед ним-то хорохориться. Но сказал о другом:
– По тому, что твои ресницы, как я вижу, забиты угольной пылью — бабки чистые, поэтому спрячь их. Я сам как-то полгода, на свободе, чуть было не здох за такие, в проходке — убери со со стола, сказал!
Сказанное «Куполом» не допускало никаких, вообще, возражений, и деньги исчезли со стола также внезапно, как и на нём появились, выставленные мной в стопочку. Не дожидаясь, пока я деньги снова не растолкаю по своим карманам, продолжил, но спокойно и в располагающем тоне:
– Биксуха твоя заяву не накатала и в больничку не ходила… А если бы даже она ментяру этого посадила за его беспредел — ну, представим себе, что накатала…, ходила…, и доказала, что насиловал и в суде намотали бы ему срок. Кстати, сколько девахе твоей? — поинтересовался авторитет.
– Семнадцать.
– А что?! Самое то, чтобы тыкать в неё…, да мент — сука всё же, так как взял её на грубый и дешёвый понт. Таких, если и сажают, то свой срок они отбывают в специальных зонах. Знаешь, что это?!… Не знаешь, и знать тебе не надо. Вот не был бы он ментом, попал бы сначала на кичу, ну, а дальше — этапом в тюрьму, где из таких, при доказухе, что снасильничал по беспределу, делают тюремных шлюх. Таких в тюрьмах ждут с нетерпением и дерут не только в задницу.… Вот такой расклад, пацан.… Выпей, если хочешь — разрешаю.
Выпил и закусил на скорую руку «Картуз». Пока он ел, запивая пивом, «Купол» мне ещё кое-что поведал от себя, лично. И посоветовал напоследок, чтобы я сержанта не искал и, тем более, не трогал; не бьёт твою деваху, мол, не извращенец, как он сам понял из моего рассказа — перетерпит, а трусы её мент не просто так ей не отдаёт — уж больно много моего… осталось на них, покуда я с ней «кувыркался» под вишнями.
– Он ждёт твоего шага, уж поверь мне. Сделаешь опрометчивый и ему грозящий — эти трусы тебе боком выйдут! Ментяра этот не для семнадцатки твоей опасен, а для тебя. Усёк?
«Купол» снова развернул кресло качалку в сторону припекавшего солнышка.
– Ещё, может, и поженятся — и такое тоже бывает. Не глупи и не тупи! — бросил через плечо, смеясь не понарошку.
-----
Через два года я женился. Моя невеста на свадьбе была четвёртый месяц как беременна. В ноябре родила мне дочь, но не прожили мы и пяти лет — ушла от меня, так как я не просто таскался по ресторанам, а безбожно ей изменял. При этом, не считал достойным для мужчины, пусть и женатого, придумывать, что у кого-то там нажрался до беспамятства и заночевал у этого кого-то. Она не спрашивала — только плакала всякий раз горькой обидой и от ревности, а я отмалчивался и с неделю не приставал к ней со своим «Хочу!»: берёг не себя — её… Сказать, что свою жену я не любил — да, ну: любил. Ещё как любил! Но, по-видимому, я числился в списках и своей собственной Судьбы к по-настоящему влюблённым, которые прям-таки издевались над своей же любовью к красавице-жене, а потом эта же любовь поиздевалась надо мной. А мы ведь любим только сильней, когда узнаём, что нас уже не любят.… Не хватило ума сообразить, чтов тот самый день (опять же, залечивал в больнице свою неугомонную язву, а Судьба завела на подворье больницы мне будущую жену), дождь пролил на меня счастье — думал, что счастье в каждой его капле: руки задрал к верху, чтобы побольше ухватить, да свою каплю её любви ко мне сам же и затоптал в грязь.
С шахты меня уволили за прогулы: запил, после развода, по-чёрному. Друзья к тому времени и выросли в возможностях решать задачи от жизни самостоятельно, и переженились, почти все. Отсюда их головы, с мозгами и без них, всецело принадлежали их жёнам — это то, что называется — ими, головами мужей, крутят женщины. Какие проблемы — пусть так, да девичьи-женские ласки и их тела, ничьи, только добавляли мне боли от невольного сравнения: не то!.. А сердце тем временем, хоть и утомилось, продолжало перегонять кровь нескончаемых страданий.
… Я снова лежал в палате терапевтического отделения той же самой больницы, что у кинотеатра «Украина». В палате нас был трое.
Сорокапятилетнего Виктора Викторовича вовремя спасли: язва «проела» желудок и врачи, достав из него всё, что находится в брюшине, мыли-отмывали это всё не один час, а потом, сшив из остатков желудка «кулёк» (мускульный мешочек), способный заменить прежний орган пищеварения, вложили ему в живот всё обратно, зашив хирургический разрез от грудины до паха. Симпатяга Саша, мой годок, не первый год страдал от гастрита, и его лечение подходило к концу.
Виктор Викторович, не мог нарадоваться, что смерть отпустила его ещё пожить и если болят внутренности, то — от сложности проведённой операции. И в это искренне хотелось верить не только ему одному. Саня, что ни слово — о своей жене: не жена — птица Феникс!.. Я по-доброму ему завидовал, но когда он замолкал или выходил из палаты — вспоминал, и только, правда, что такое радость, и проживал это время, хотя бы не злясь на самого себя.
Мои ноги отказывали мне в «вишнёвом саду» — не хотелось, и всё! Да и июльский пух с тополей донимал неимоверно. Молчал подолгу, пялясь в стену, лёжа в кровати днями, но мужикам пришлось всё же рассказать, что меня мучит сильнее, чем болячка внутри.
Выслушав мою правдивую историю, отозвался, не сразу, лишь Виктор Викторович.
– Вот что я вам скажу, мужики, — заговорил он, как бы и к себе самому, выразительно вздыхая, — у всех нас… одно и то же, что находится ниже пояса: больше или меньше..., но у женщины писька — это что-то особенное в плане индивидуальности. То, что притягивает к себе физиологической потребностью — это понятно, но пленит мужика и так, что без конкретной письки, я вам скажу, все прочие — лишь «ах» да «ох» на унитазе. Сам я не без греха перед своей…, но сходив несколько раз «налево» — рыбалка без единой поклёвки. Вот у Сашки нашего — клёв, так клёв, потому и во рту у него помазано той самой..., жены его.
И смешно высказался Виктор Викторович, а никому смеяться и в голову не пришло. Все трое молчали и каждый (я-то точно) думали, наверное, о своей…
Узнав от кого-то из медсестёр, знавших меня не первый год, что я «здорово» играю на гитаре, уже на следующий день я учил Виктора Викторовича простеньким аккордам на его же гитаре, которую принёс ему сын тотчас, как только он об этом узнал. Боже, как же он радовался, что ему так со мной повезло. А когда его пальцы заныли, и ему пришлось долго и усердно на них фукать, он попросил меня что-нибудь спеть. Что я смог спеть тогда?… Песню «Крах».
Виктор Викторович словам песни особого значения не придал — уж, больно ему мой голос, чуть ли не плачущий, понравился, а вот Сашка занервничал. Даже закурил в палате, открыв окно так, что невероятно как целыми остались стёкла. И о жене своей больше не заговаривал.
Упомянул лишь о ней на следующий день в разговоре с лечащим врачом, сообщивший ему, что сегодня он может отправляться домой — гастрит подлечили, а тот, в свою очередь, ответил ему, что уже ждёт жену с его одеждой. «И сразу — на работу: сообщили, что прибыть срочно!». Как только ушёл доктор, перед этим сказав мне, чтобы я отправлялся, причём без разговоров, на процедуру вливания мне донорской крови — одной своей, дескать, не осилить процесс рубцевания, Виктор Викторович полюбопытствовал у Сани, где тот работает, кем и что за срочность такая — только ведь с больницы?!
– Скоро узнаешь, а вернее — увидишь! — не ответил, а явно огрызнулся Сашка, словно две недели, проведённые вместе в дружелюбной обстановке абсолютно ничего для него не значили.
Мне и раньше казалось, что в этом рослом и светловолосом симпатяге есть потаённое дно его. И глубоко спрятанное, и не случайно, по-видимому. Но у кого его нет, если ты не Ангел!..
Я подал Сане руку — вливание крови процедура не быстрая.
– Успеем попрощаться, — отказал он в рукопожатии, объяснившись: – Ещё собраться..., ещё больничный..., ещё одежды дождаться.
И вправду так и случилось: я вышел из манипуляционного кабинета (на пятки мне наступала медсестра, влившая в меня чужую кровь и предупреждающая, что возможно меня будет температурить и тошнить — нужно поэтому отлежаться), а Сашка, капитан милиции в хорошо отглаженной и так же хорошо сидевшей на нём форме, стоял неподалёку, за спиной старшей медсестры, заполнявшей при нём больничный лист. И его синие глаза мне почему-то были неприятны, как ни разу до этого.
Из отделения мы вышли вместе, а на улицу, суетой и шумно встретившая нас, он вышел первым. Там, в шаге-двух от порога, его ждала жена — …Таня: та самая, на калитке дома которой много-много лет тому назад я увидел парусник… Был ли со мной шок от увиденного — Сашка так крепко и бережно обнимал её, расцеловывая и волосы, и в щёки, и в губы, так ликующе радовался, что ощущает её и чувствует снова — или июль с размаху моей же памятью ударил меня по голове до озноба и головокружения, этого я не знаю до сих пор, да мои глаза ошеломлённым взглядом, сумели всё же прокричать ей, в доли секунды, одно и тоже несчётное количество раз:
– Это он?!
Таня, не менее потрясённая от того, кого видела перед собой за спиной мужа, непроизвольно прятала своё лицо, до глаз, за плечом с серо-синем капитанском погоне поверх него, а заметная дрожь ресниц выплеснула на этот же погон честные, именно передо мной и только для меня одного, слёзы, этим и ответив: «Да, это он!».
Весь этот день я провёл в своём «вишнёвом саду». С Таней, повзрослевшей, но ничуть не ставшей менее привлекательной, а наоборот: притягивающий взгляд зрелой, но и строгой, красотой женщины и жены, он, этот придуманный мной сад из всё тех же трёх вишен, уже не был нашим. Здесь, под шептавшейся на ветру зеленью ветвей история началась с моей непростительной беспечности и в полусотне шагов отсюда она закончилась чем-то, лично Таниным, и похожим на безумие.
Так я думал, лёжа в траве, которую ночь, звёздная и лунная, под паутиной ветвей, перекрасила в тёмные цвета, но оставив мне душистую свежесть в ней и прохладу. Мало сказать, что я был удивлён и буквально ошарашен тем, о чём узнал: Таня и некогда сержант, эта падла и мразь, не умолкавшая о своей возвышенной и почтительной любви к ней — муж и жена, да моя душа нуждалась в лекарстве от любви к другой женщине. И о ней я думал, когда…
… Когда внезапно свет от Луны просыпал на меня яркость далёких и близких звёзд, и у себя над головой я услышал: «Закрой глаза — увидишь парус, вишнёвый — так цветут сады». Голос был подзабытый, но не забытый: это была Таня. Она придавила мне плечи, чтобы я не приподнялся от внезапности её появления, а потом и вовсе уселась на меня, ко мне лицом, но вес тела переподчинила своим коленкам. И мне не показалось, что одета она была в ту же кремовую прозрачную блузку на голое тело и в ту же самую джинсовую коротенькую юбочку, с красным пояском.
– Закрой глаза! — повторила снова, расстёгивая на себе блузку и намеренно не торопясь снять её с себя и ожидая от меня такого же взгляда, как когда-то, в её комнате и в её постели ответили, предугадав мной задуманное, её же глаза: «Поиграем в воображение?».… Дождалась — я закрыл глаза.
– Воображением — открыла она мою же Америку — зовут свою мечту. И это правда: вишнёвые паруса у нас с тобой над головой. Не открывай глаза — ты знаешь, что это так и есть!
Я лишь услышал шорох от отброшенной в сторону блузки.
Где твои ладони?! — не спросила, а потребовала показать ей мои ладони и приподнять. Подхватила их и прижала к своим по-прежнему упругим и округлым грудям с горошинами твёрдых сосков.
– Тебе неприятно? Они холодные и не отогревают в тебе ничего-ничего от нашего с тобой прошлого?
Я лишь отдал ей своё лицо и чувствовал, как страсть обжигает мои губы. Мой ум ещё пытался обжечь их именно ледяным холодом, напомнив, вдруг и не ко времени, слова «Купола»: «Ещё, может, и поженятся», да тело, приподымаясь с травы, разворачиваясь и поддаваясь Таниным рукам, позволяло себя раздевать, как раз торопясь ей подчиниться.
Сначала она сняла с меня спортивную куртку, потом, по-доброму посмеиваясь, стянула с меня штаны, а после этого — то, что было под ними. Я лежал голый лишь несколько секунд — Таня привстала, раздёрнула поясок на юбочке и она улетела туда же, куда улетела перед этим её блузка. Стоя надо мной, попросила открыть глаза и спросила, немного просев в коленях, узнаю ли я то, что осталось на ней?… Бабочка из бисера на её трусиках, будто подлетала ко мне… из мая 1975 года, вот только так и не села на меня — трусики тоже улетели в траву.
– Я их нашла …у него дома, и ….до сегодняшнего дня ….не знала, зачем их сберегла, — признавалась Таня, исповедуясь перед собственным сердцем, заметно трепетно волнуясь и запинаясь в речи уже от того, что ощущала меня в себе; сама управляя процессом обоюдного наслаждения, она скользила по мне как по льду, вперёд-назад, сгибаясь и перегибаясь в талии, то отдавая моим губам и рукам себя, всю, то отбирая у меня себя, но только на миг, чтобы прожить, и его тоже, желанием ощутить то, зачем пришла и почувствовать себя желанной тем, к кому пришла; в этот миг она как бы вглядывалась в мерцающие средь ветвей звёзды, призывая их в свидетели того, что так долго и терпеливо ждала в бессильном и тайном отчаянии и наконец дождалась; и продолжала говорить то, что не имела возможности сказать мне за столько лет без взаимной любви, первой и единственной, которую у неё отняла нелепая случайность и подонок, хоть и ставший ей мужем: — Я рабыней его похоти была пять лет. Терпела, униженная им, но не опозоренная молвой, чего боялась больше всего, а он этим временем привыкал ко мне как к любимой игрушке. И никого к ней не подпускал. Дважды даже стрелял по парням, решившими, было, отнять у него меня, но стрелял расчётливо, как и поступал во всём: запугал парней, а страхом и шантажом он подчинял себе чужие жизни.
… Мама была от него без ума, а отец ….в день, когда мне исполнилось двадцать три сказал ему прямо на пороге: «Или ты на ней женишься, или это твой последний букет …в моём доме.… Я вышла за него замуж (мужа по имени Таня ни разу не назвала), и это было его решение: жениться на мне. Только перед этим он, не изменяя себе, предупредил меня, что если я не соглашусь стать его женой, мои трусики могут найти на изнасилованной и удушенной, или забитой до смерти, чтоб не рассказала, кто это сделал,… и по ним, рано или поздно, «опера» из убойного разыщу того, «твоего хахаля».
Таня успела исповедаться перед своим сердцем в моём присутствии и при моём участии в том сокровенном, чего ждала годы и… получила. Как и я тоже. Но после этого мы даже не отдышались, как следует. Я не видел, лишь слышал, что она одевалась, а сам в это время переживал дежавю: не мог найти свои трусы. Она лишь наблюдала, как я шарю в траве, переползая с места на место, отсвечивая голой задницей, но не сдержала в себе смех и спросила:
– Ты не это ищешь?
В руке у неё было то, что я искал. А в другой — её, с бабочкой… И тут же опустила и свои..., и мои… в свою сумочку, при этом клацнув застёжкой решительно и прикрыв застёжку ладонью: внутри сумочки находилось теперь то, что для неё одной имело известный смысл.
Выбравшись из под ветвей в лунном свете она умудрилась даже увидеть в зеркальце свои губы, подкрасить их, и убедилась, заодно, что всё те же золотые серьги-ромашки там, где и должны были быть. Вернулась ко мне и помадой на моей ладони написала пять цифр.
– Будешь в Славянске — звони! А мне нужно бежать. Нужно успеть на ночной рейс автобуса на Славянск. Родители меня уже ждут. На развод я уже давно подала, только мой… — она, улыбнулась и виновато и нет — да разведут нас и без его согласия: я ведь от него и не собиралась рожать. И не родила бы никогда, даже если бы сегодня и не встретила тебя.
Таня ушла в ночь, как уже когда-то — без трусиков на себе, только пискляво ойкнула из темноты — видно, зашиблась немного плечом или чем-то ещё об арматурину в той же самой дыре в заборе больницы.
Я долго сидел в траве, размышляя, а что это было, вообще, кроме сексуального удовольствия, конечно, и зачем — её и мои трусы в дамской сумочке? Гадать не стал, да и ночная прохлада подсуетила поскорее одеть на себя спортивные штаны.
Прежними путями-щелями проникнув в палату, под свистящий храп Виктора Викторовича я всё же пытался понять, что задумала Таня.
Выходило на то, что перетерпев зло по-христиански, подставляя злу свои щёки, передумала его и этим каким-то образом влюбила в себя Сашку, чем и «сбила» прицел насилия в нём. Таким он, видимо, родился или приобретённым оно стало в силу разных причин, только не зря же утверждается как некая земная истина — легко изменить мир, но невозможно изменить себя. Поэтому потерпев крах в единственной своей любви, перешагнувшей, но не сразу, через врождённый или приобретённый порог зла в сержанте-капитане, оно, это моральное насилие, никуда из него не исчезло, Оно само стало насиловать его самого как отчаянием отвергнутого, так и себялюбием. А это душевные муки и расчётливо выверенная до стона, крика или даже скупой горделивой слезинки война, если не сказать, что самая настоящая бойня внутри самого человека. До победы чего-то одного: или характер опрокинет мир на спину и тогда злость вытопчет и выжжет всё вокруг местью, или мир банально отшвырнёт от себя этот характер в одиночество или какую-либо крайность положения. И этих строк-рассуждений я никогда бы не написал, если бы сержант, досрочно дослужившийся до капитана, не запутался сам в своих же чёрных парусах страстей и склонностей…
-----
Капитан снова чувствовал себя паршиво и к тому же беспомощным… С побегом трёх «зеков» из Калининской ИК, почему его и вызывали на работу прямо из больницы, разобрались и определились с дальнейшими действиями, хоть и к ночи только: нашли место, где они, как крысы, спрятались, обложили это людное место нарядами милиции и сугубо краснопогонниками со всех сторон, а с рассветом беглецов возьмут и «закуют» снова… А в общественной столовой поел,… ой, как зря. И главное ведь — Таня дома, а у неё — всё паровое, и всё только во благо его желудку. «Не долго музыка играла!» — с горькотой во рту думалось капитану, подъезжая на своём рабочем «Москвиче» к собственному дому. В спальне горел свет — увидел, даже ещё не заглушив двигатель.
Дверь квартиры открыл своим ключом, сразу же окликнув жену:
– Тань, ты ещё не спишь?
Жена не ответила. Со сдержанными стонами прошёл на кухню, забыв и об автомате на плече. Но стол был прибран до абсолютной пустоты на нём. Лишь издевательски блестел чистотой. Заглянул в кастрюли — ничего тоже. Машинально, с колющимся холодком внутри себя, приподнял створку хлебницы — усохший до каменной твёрдости буханец чёрного хлеба смотрелся зрачком глаза чего-то ужасного, неузнаваемого и потому не понятного. Вместе с тем увиденное, в зеленовато-серых крапинах плесени, испугало. Ведь — в его квартире, в его личном жизненном пространстве. И рука дрожала при этом, удерживая створку, покуда смогла её удерживать.
Прошёл на свет в спальне — Тани нет, а шифоньер открыт, и открыта лишь дверца отдела, где хранились Танины вещи. Горькота во рту и изжога в желудке забылась и не ощущалась, будто взяли паузу — не до них сейчас. Капитан в не характерной для него нерешительности сделать то, что требовала обстановка, не сразу подошёл к шифоньеру. А когда подошёл к нему, то увидел лишь одни свои вещи — Танина половина была пуста. Только тремпеля под платья, плащ, пальто, и прочее-прочее из её одежд висели, схожие на плечи повешенных скелетов — и цвет такой же: человеческих костей. «Крах!» — признался себе и признавал это капитан, убегая взглядом вверх от мерзостного видения, да ещё и не обнаружив на шифоньере чемодана, вместимости которого им, с Таней, хватало, чтобы в поездах и на отдыхе где-то ни в чём из одежды не нуждаться.
Капитан опустился на кровать, даже не осознавая этого: жизнь взяла да уронила, если бы только — невзначай! Ещё и мимо подушки швырнула, а всё тот же «калаш» огрел по бочине.
Вопрос один-одинёшенек: почему ушла? И ответ известен: крах! Нет, не случайно это слово из песни, которую он услышал ещё в отделении терапии, вклеилось в его память стойким предчувствием, что одним разводом не обойдётся, и заранее же вклеилось, чтоб не опоздать с напоминанием-повесткой о таком дне. И — вот он: и день, и крах…, чёрт бы побрал этого доходягу Валерку со своей песней-реквием. А ведь полюбил, как никогда и никого до Тани-Танюшки, хотя поначалу брезгливость к ней, возможно, что обласканной и не только одним тем придурком, что её трусы ему же в ноги сам и бросил, давала о себе знать: лежал на ней и — в ней, а руки — что по команде «Смирно!». Только прав Виктор Викторович: моя…, оказалось. Моя! И что теперь? Застрелиться?! Через подбородок прочертить убойный пунктир из свинца аж до макушки и потолка? Или из своего табельного — капитан лёг на правый бок, придавив телом пистолет в кобуре, чтобы в голову не лезли всякие дурные мысли и — оторвал спину от простыни, точно в положение сидя его мгновенно усадила не видимая, да сработавшая на полный разжим пружина. На стороне постели, где обычно спала Таня, лежали тупым треугольничком её трусики, голубенькие, с бабочкой из жёлтого бисера. «Нашла!» — сильное и очень неприятное удивление-досада затрясло его головой. «Когда?!» — спросило голосом с побелевших губ. И под трусиками было ещё что-то, и формой квадрата. Капитан соображал туго, будто горячка выпалила все до единого щадящие предположения. Он будто не своей, чужой, рукой приподнял Танино, ещё девичье, нижнее бельё, а под ними, действительно, квадратом были выстланы мужские трусы. И не его — однозначно, и видимые их помятость от ношения на себе кем-то и потертость хлопчатобумажной ткани серого цвета в центре придушили капитана да так, что — ни продохнуть, ни закричать, ни пошевелиться. Наконец его отпустило это ни разу не прожитое состояние аффекта, когда не понятно, что это за такие глубинные переживания, четвертуют сердце тупым-тупым колуном, а боль от этого гарцует в теле конём. И если капитан это в себе по-мужски терпел, то отвести хотя бы в сторону глаза не позволял сам Дьявол. И Дьявол был в нём самом, и с тупым колуном, и конём гарцуя в душе. И это он смахнул с непритворной ревнивой и боевой яростью всё то унижающее и мстящее, что оставила взамен себя Таня. Но его слух уловил не только падение легкой и мягкой матери: записка — вот что ещё оставила жена.
«Когда-то ты подобрал и присвоил себе то, что ты не снимал с меня, — писала она, — потому что перед этим я позволила это сделать тому, кого любила. Что было со мной потом — это я опускаю, но не просто так. Чтобы сказать тебе: тогда, во дворе больнице, ты не добрал… комплект. Теперь он у тебя, полный набор — заслужил и заработал! Кусты, подъезды, лавочки, везде — где ты рыскал в поисках чужой любви или только наслаждения от невинного удовольствия — это твоя единственная жизнь и суть. Ты думаешь, что ты всё о себе знаешь? Нет — не знаешь. …«Нет большой или маленькой подлости. Равно как нет большого или маленького воровства, обмана. Лжи, наконец!.. И совершивший однажды подлость — подлец, воровство — вор… На всю жизнь!». А я ещё буду счастлива!».
-----
… В девяностые, над головами и таких «блюстителей закона», как капитан Александр Лабузов, засвистели бандитские пули — он уволился и влился в одну из городских группировок (ОПГ — эта аббревиатура сохранилась и по сегодняшний день). Твёрдый, волевой и расчётливый всегда и во всём — он, что называется, скоро и быстро набил себе карманы, но не только одной лишь его добычей. Только и в бритоголовых, как принято считать, тупых головах современных разбойников мозги «варят», а ко всему их подельник поступил не по понятиям. И его наказали за это именно тем, чем он не раз бахвалился и гордился перед братвой, всякий раз пугая даже их своими недобрыми синими глазами: «Отымею любую бабу, хоть царицу небесную. Но… люблю молоденьких, виноватых и стыдливых!..».… На той же самой квартире, у хозяина-пьянчужки, куда он не один раз приводил Таню, чтобы насладиться её виноватостью и стыдливостью, ему и одели наручники как насильнику на молоденькой и «виноватой», легко поддавшейся на его шантаж за свой «прокол».
Избежать суда не помогли ему ни медицинские перчатки, ни презерватив (пьяница, после выбитых ему, на его же пороге, двух зубов, и как компенсация за это заполучивший аж целый ящик водки, установил в спальне, которую открыли ловкачи-ребята на раз-два, видеокамеру, как-то подобранную капитанов рядом с в драбадан нажравшимися спиртного молодняком и оставленную в коридоре под шапкой-ушанкой хозяина — храни, мол: рабочая, с плёнкой, оставив, тем не менее, на ней свои отпечатки пальцев; и дверь пьяница, открыл милиции в тот самый момент, когда, как зачитывала судья преамбулу в решении судебного заседания: «… Гражданин Александр Владимирович Лабузов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в момент эякуляции…, что подтверждено, в том числе, видеосъемкой, а портативную видеокамеру «SONY» он установил сам, заранее, что доказано экспертизой и свидетельским показанием….»). Четырнадцатилетняя шлюшка оказала к тому же сиротой, а к её заявлению об изнасиловании с применением физической силы, приобщили и медицинское освидетельствование реальных побоев, к которым на тот момент — когда Лабузова «повязали» прямо на ней — он, понятно, не имел никакого отношения.
Об этом, в деталях, я узнал в тот же самый день, когда мне нежданно-негаданно позвонила Таня, из Славянска, и сообщила, что во второй раз стала мамой. Её интонации и дыхание не договаривали, что она скучает за мной и хотела бы видеть. Я сам об этом ей сказал — поговорили приятно и долго.
Спускаясь ступеням горисполкома, меня окликнул крепенький, практически без шеи, молодой мужчина, одетый в классику: костюм, белая рубашка, галстук, блестящие, ухоженные, туфли. Я дождался его подхода ко мне, и он без эмоций в лице сообщил, что меня ждут вон в том автомобиле… «Тот», чёрный внедорожник с затемнёнными стёклами, припарковался на проспекте, невдалеке — как только я подошёл, открылась задняя дверь. Сначала я услышал:
– А праведные желания всё же сбываются, прости нас, грешных, Господи!
А узнал, кто это сказал, как только увидел сказавшего это: «Купол», в поблёскивающем синеватом костюме (такие только-только завозили, тогда уже в Украину, из-за границы) он даже выглядел моложе, хотя лет-то прошло немало со времени нашей единственной встречи. Он всматривался в меня, возможно, по той же причине — годы, годы!..
– А ты знаешь, мне нравиться слушать тебя по брехунцу (радиоточка проводного вещания) — добряче грызёшь ты городскую власть. Добряче! … Хотя, смотрю, ты и сам теперь власть!
«Купол» кивнул на мой значок на лацкане моего пиджака: «Депутат Горловского городского Совета»...
– Да не за этим я тебя вычислил, журналюга.… Помнишь ещё того, кто твою молоденькую биксуху имел по произволу?
Я лишь уныло вздохнул, подняв глаза, будто сквозь крышу салона автомобиля мог видеть небо, где мы ищем ответы, когда их нет, и покой для огорчённой этим души.
– Ты ведь просил, чтобы его запидарасили? — не уточнил, а напомнил «Купол». И тут же, понимающе хлопнув меня по плечу, спросил: — Ты надеюсь, не забыл, что я тебе тогда, у себя во дворе в Мичурино, сказал: «Мы сами себя наказываем, рано или поздно, но наказываем собой…, и Бог не фраер! …Опустили его на зоне: Александра он теперь, твой мент. Два года как тюремная шлюха!..
(июль 2020 г.)
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!