Охломон, или роман с продолжением
Охломон или роман с продолжением
(рассказ)
Эдуард Свечкин взял за привычку в последнее время так прямо и представляться: «Писатель Свечкин».
Работал он уже много лет охранником при отделе вневедомственной охраны. И бывало, что звонит ему на пост дежурный с пульта, Свечкин ему и отвечает автоматически спросонья – писатель Свечкин… «Какой на хрен, писатель такой! — орёт дежурный в телефон. – Спишь, что ль, там, писатель хренов?!»
Очень самоуважительно было для Эдуарда осознавать себя «писателем». Из детства, со школьных лет воспоминаниями доносилось, какое уважаемое звание – писатель: как профессор, как генерал, как самый умный, как самый главный.
Год назад в журнале «Христианский вестник» начали публиковать роман Эдуарда Свечкина, который он долго писал во время ночных дежурств. Роман назывался «Грех и благодать», и снайперски попала романная тема в идейную политику того журнала. Волну восторгов вызвал роман у читателей «Христианского вестника», автора называли и новым Достоевским, и воскресшим Гоголем, и крутым художников эпохи Возрождения, и лучом света в мерзком сумраке современной литературы.
В четырёх журнальных номерах печатался «Грех и благодать», и Свечкин, получая по почте очередной номер, тут же рвал бандерольную упаковку и впивался глазами в свой текст, выглядевшим таким солидно значительным в печатном виде. Сам Свечкин свой роман писал в общей тетрадке, авторучкой. Четыре тетради исписал, истратив с полсотни авторучек. А перепечатывать отдавал соседу по бараку, поскольку даже не овладел примитивной печатной машинкой.
Сосед, заурядный заводской инженер, перепечатывавший роман, лет на десять моложе Свечкина, в восторг от вынужденного прочтения постепенно развивающегося сюжета не приходил и даже кисло морщился и высказывал автору кучу критических замечаний:
— Ну, сколько раз, Эдик, тебе говорено было. Эх!.. Эти твои «истчо» и «истщо» постоянно попадаются, как гвозди в ботинке. И всё сопли-сопли-сопли, что аж клавиатура у меня липкая делается. И глаголы с частичкой «не» пишутся раздельно – любой школьник знает… Ты хоть какие другие книжки читаешь?.. Эдик, я с тебя буду брать плату добавочно и за работу над твоей орфографией.
Свечкин такую критику пропускал мимо ушей и с небрежным равнодушием отвечал, что божий дар совсем не в правописании и книжек чужих он не читает принципиально, чтобы не сбиться случайно со своего собственного литературного голоса.
В бараке, находившемся в старой части города, застроенной в военное время при экстренной эвакуации промышленности с западных территорий, Эдуард проживал с женой, работавшей вагоновожатой трамвая, тёщей пенсионеркой и дочкой жены от другого мужчины во времена её давно ушедшей молодости. Эдуард Свечкин был мужчиной зрелых лет и считал себя достаточно готовым для выражения из себя наружу, в окружающее общественное пространство, созревших в нём мыслей о правильном порядке жизни. Мысли подобного рода бурлили, как бражка в стеклянной четверти, поставленной тёщей по осени в качестве сырья под новогодний первачок для незаконной торговли и прибавки к своей пенсии.
Сам Свечкин был почти непьющим и позволял дозу спиртного умеренно лишь по датам престольных праздников. Церковные каноны он блюл и в местный храм наведывался не с чувством формальной дисциплины, а с полной искренностью души и стремлением к глубокому воцерковлению.
Чувствовал он в себе некое предназначение – и убедился, что есть в нём некий задаток духовный, как знак свыше, после публикации в «Христианском вестнике» его «Греха и благодати». Неспроста же обвал читательских восторгов и письмо от редакции журнала с пожеланием дальнейшего сотрудничества и ожиданием дальнейших продолжений увлекательного романа с пронзительным захватывающим содержанием. Забурлило от похвалы вдохновение, и погнал на волне творческого экстаза Свечкин очередное продолжение о жестокой судьбе героини своего романа.
* * *
Главная героиня романа с первых строчек в первой главе повествования вызывала у читателей полную антипатию к себе. По всем параметрам портрета и биографии – отталкивающая личность: красавица по внешности, родившаяся во времена мутных девяностых в семье олигарха тех времён, поимевшего своё богатство путём бандитского разбоя и пытавшегося спрятать свою беременную на последнем месяце жену на территории Соединённых Штатов. Но был задержан бандит-олигарх в аэропорту как особа, запрещённая для въезда. Произошёл шумный скандал. И жена олигарха рожала героиню романа прямо на полу пункта паспортного контроля.
Натурализм и физиологизм в сцене родов сразу был оценён читательской массой как весьма жизненная и убедительная деталь сюжета, свидетельствующая о наличии у автора акушерских навыков.
В дальнейшем сюжетном развитии автор изображал фрагментами формирование характера героини, проживающей в полном изобилии материального плана и полном вакууме духовного общения в семье, обозлённых на весь мир отца и матери. Многостранично и детально представлена архитек тура трёхэтажного особняка, в котором обитает героиня, расположение комнат по этажам и подвальному помещению, инженерное охранное оснащение особняка, напоминающего подготовленного к осаде рыцарского замка. Короткими мазками авторских описаний обозначены окружающие героиню представители многочисленной прислуги-челяди.
Героиня в совсем юном возрасте вступает по причине своей чрезвычайной капризности в интимный контакт с преподавателем музыки, преподавателем французского языка, тренером по теннису. Но, несмотря на множество интимных контактов, ощущает полное душевное одиночество и находит общий язык и родственные души только с двумя лошадьми из домашней конюшни. Героиня в длинных монологах жалуется на свою жизнь жеребцу арабской породы и английской породы кобыле. Лошади слушают жалобы героини, положив свои тяжёлые головы ей на плечо.
Героиня ищет смысл своей жизни – и находит его, обнаружив ключик от библиотеки в кармане халата своей матери. Мамаша героини постоянно находится в героиновом угаре, блуждает призраком по этажам особняка, жизнью дочери не интересуется и домашним хозяйством не занимается. Героиня проникает в расположенную в подвале библиотеку. В библиотеке, под светом карманного фонарика совершенно случайно натыкается взглядом на корешок толстой книги в кожаном тиснённом переплёте, и открыв наугад страницу, очаровывается с первых строчек на древнеславянском языке открывшейся ей истине о смысле жизни.
Прижав к груди старинную книгу, героиня бежит в конюшню и там читает вслух арабскому жеребцу и английской кобыле поразившую её откровения об истинном предназначении человека в этом мире. У жеребца, кобылы и героини синхронно текут слёзы.
Героиня даёт себе клятву уйти в ветеринары. Обложилась учебниками по анатомии животных, тщательно их штудирует – и в один внезапный момент чувствует в себе признаки первичной беременности.
Читатели соответствующих глав романа в своих отзывах изумлялись точности жизненных ощущений, переданных автором в те моменты, когда героиня мучительно определяет адресата своих проклятий, склонившись в рвотных судорогах над унитазом.
Семья героини, по мнению самой героини, ведёт совершенно не христианский образ жизни. Отец в погоне за богатством появляется в семье крайне редко, а когда появляется весь издёрганно нервный, с затравленным взглядом, то быстро выносит из подвального помещения очередную партию больших чемоданов и быстро уезжает куда-то опять. Мамаша героини – вечно в халате, непричёсанная, постоянно в наркотической экзальтации, пытается препятствовать дочери посвятить себя ветеринарии. Рвёт учебники, рвёт брошюры с описаниями жития святых и проявлениями чудес в историческом процессе. И абсолютно не замечает признаков беременности на юной фигуре дочери. «Ты у меня будешь мировой фотомоделью, — постоянно визжит мать. – Ты рождена в Америке…»
После публикации третьей главы романа читатели «Христианского вестника» внезапно замолчали – будто обомлели, поражённые писательским талантом. В редакцию журнала не поступило ни одного отзыва.
Но Эдуардом уже была отправлена по почте бандеролью четвёртая глава.
Мамаша-наркоманка, совершенно онаркоманившись от своей беспечной жизни, услышав из комнаты дочери на третьем этаже писк новорождённого дитя, приняла этот звук за тявканье щенка, притащенного дочерью вопреки всем запретам. Мамаша посылает горничную выкинуть щенка вон. Горничная – вся в слезах, с алюминиевым крестиком на шее, отказывается категорически исполнить такое поручение. И мамаша сама, еле передвигаясь ослабленным организмом по ступенькам со второго этажа, добирается до комнаты дочери и, не обращая ни малейшего внимания на дочь, лежащую на полу в послеродовой горячке, хватает замотанный в тряпки источник раздражающего звука и выкидывает в окно на тротуар из гранитной плитки, доставленной в своё время из Греции.
Пока героиня приходила в себя от пережитого и лечилась амбулаторно от обнаруженной попутно гонореи, по телевизору сообщили, что папа-глава семейства расстрелян длинными очередями неустановленными злоумышленниками в центре города у входа в принадлежащий ему банк. Мама целую неделю выражала траур нервным смехом и чёрным кружевным платьем с длинным шельфом – но потом, запутавшись в шлейфе, свалилась с лестницы прямо виском о бронзовую статую, привезённой в своё время из Испании.
Героиня романа оказалась, таким образом, круглой сиротой.
* * *
Четвёртая глава романа вызвала самый обвальный поток надрывных чувствительных отзывов. Будто резко распрямилась долго сжимаемая пружина читательских эмоций. Читатели, в преобладающем большинстве – читательницы, буквально завывали письменно в истерике, ощущая своими чувствительными натурами негнетаемость трагизма в сюжетной развязке. «Ох, как автору удалось уловить в своём романе таинственные нити, связывающие чувственный и сверхчувственный миры». Читательская масса требовала через редакцию от автора, чтобы жизненные перипетии у героини завершились благополучно и красиво, чтобы в конце концов создалось ощущение счастья в жизни и наступившая атмосфера всеобщей любви. Чтобы у героини всё получилось в её судьбе — «как у Золушки».
Эдуард Свечкин, в глубине своего сознания млея от осознания собственной власти над общественным настроением, сам себя ощущал что-то вроде строгой мамаши, у которой ребёнок клянчит конфетку.
«Сладкого много нельзя, — размышлял Эдик над собственной творческой рецептурой. – Да, сумел он в четвёртой главе так слёзы выжать, что сам писал, роняя слёзы на страницы тетрадки. Самому было тяжело переживать страдания ожившего персонажа – и такое надо уметь…»
Точно сам пропускал он через себя страдания несчастной девушки, выкинутой из уютности элитного существования на самое, что ни есть, дно жизни. И на вокзале она обитала, и в буфете вокзальном клянчила недоеденные пирожки. И спала она в закутке, где во сне по лицу бегали крысы. В милицию её забирали, где насмехались над её историей жизни наглые, мордастые менты. И насиловали её в групповую в привокзальном пункте охраны правопорядка, наградив при этом целым букетом венерических заболеваний. И умирала героиня очень художественным образом: под забором, у чугунной парковой решётки, когда упала она там, потеряв последние силы и в полном изнеможении, свернувшись клубочком на обледенелом тротуаре, одетая лишь в полотняную курточку и резиновые ботики на ногах. И ночь была накануне рождества, и яркие звёзды сияли в небе. В последних мгновениях исчезающей реальности будто бы ангелы спустились с небес, напевая ей ласковую песенку ангельскими звенящими голосками.
Однако ж пятую главу Свечкин решил сделать согласно пожеланиям читателей. «Чтобы тебя читали, — всё-таки решил он, — надо улавливать пожелания народа. Истинно народный писатель тем и отличается от всяких модернистов, что прислушивается к народным чаяниям…»
Пятая глава начиналась с того, что шёл молодой батюшка после рождественской всенощной службы. И заметил тот молодой священник на своём пути скукожившуюся у парковой ограды хрупкую фигурку. Не различая пола, не разбирая социальной принадлежности несчастного существа, подобрал батюшка этого человечка на руки и донёс до своего домика за парком, в церковном подворье. И мыл, и отогревал в корыте замёрзшее до крайней степени тельце. И сердце доброе батюшки изливалось елеем доброты, так тосковавшее в последнее время по безвременно утраченной и упокоенной в бозе супружницы, богом определённой, матери его четырёх детей-погодков.
Вымыл и положил он подобранное у забора существо на свою перину, а сам прилёг спать на вытащенной из кладовки раскладушки. Осознал батюшка, что девушкой юной была та горемычная особь, подобранная им на дороге, и креста не было на теле измождённом. Повторил батюшка вдругорядь молитву рождественскую, перед тем как уснуть на раскладушке…
* * *
Писателем Эдуард Свечкин начал сам себя считать совсем недавно, лишь после прочтения первой главы своего романа, перепечатанной соседом-инженером с тетрадки и прогнанной через принтер. Удивился Свечкин тогда – как красиво и серьёзно, и как гладко стал выглядеть его тетрадный черновик. А уж когда первую главу поместили в журнале и этот номер журнала Свечкин взял в руки – тут голова закружилась у Эдуарда, и слезливый комок подступил к горлу.
До этого у Свечкина никаких представлений о своих писательских возможностях не возникало. Делом этим, письменным, он занялся от скуки на ночных дежурствах, на охранном посту. Сначала просто принялся рисовать каракульки на обнаруженных в столе листках чистой бумаги, чего, мол, чистая бумага просто так пропадает. А затем решил мысль какую-нибудь отобразить в письменном виде — и Свечкину это так понравилось, что когда кончилась ничейная чистая бумага, он уже сам приобрёл пачку бумаги за свои деньги.
Почерк у Свечкина был ровный и отчётливый, недаром в солдатскую службу был причислен к писарям при штабе полка. Поначалу он увлёкся жанром «письма родственникам». Написал с десяток посланий родственникам дальним и даже несколько писем жене с тёщей. Приходил с ночного дежурства, выкладывал на стол в кухне исписанный листок, а сам отправлялся спать. Одним случаем даже услышал сквозь сон, как тёща сказала жене, что их охламон красиво писульки свои строчит, как писатель всамделишний. После того момента читательского признания Свечкин освоил жанр «публицистики»: отправлял свои мнения о текущем положении в городе и в стране в разные местные газеты и телевидение, стараясь придать своим мнениям и гражданской позиции эмоциональную окраску. Несколько писем в газету были даже напечатаны как настоящая «статья».
Вот тут уже у Свечкина в душе, как плотину прорвало – решил писать роман: чтобы зря не мелочиться по чепухе и забесплатно. Для этого и купил первую общую тетрадку большого размера. Поначалу долго мучился с названием романа, с десяток вариантов подбирал, пробовал на слух и на вкус – не впечатляло, не захватывало. Страниц пять в тетрадке были перечёркнуты отвергнутыми заглавиями. А вот как возникло — «Грех и благодать», тут и понеслись плодится сюжеты в голове, заворочались-зашебуршились, точно мухи в блюдце с вареньем. Порою и засыпал с авторучкой в руке, щекой на раскрытой тетрадке, а сюжетные развороты представали во сне Свечкину, будто сериалы смотрел по телевизору без рекламных вставок.
Никаких сомнений теперь не возникало у Эдуарда насчёт его писательских способностей, абсолютно уверовал он в своё истинное призвание безоговорочно и бесповоротно, как в перст судьбы, после потока откликов читательских на первую главу «Греха и благодати». И хоть кол на голове его теши: талант — он, писатель от бога. Народ в своей массе врать не будет. Ему, народу то есть, за похвалы автору редакция журнала деньги не платит – значит, мнение народа есть глас божий, правдивый самый и по-настоящему объективный.
Касательно «зарплаты из журнала» на язвительные вопросы жены и тёщи Свечкин отвечал с ухмылкой и делал ладонью жест, мол, будьте спокойны: талант признали – деньги опосля попрут рекой. Тёща, намывая в ведре с водой собранные на помойке бутылки для расфасовки самогонной продукции, перемигивалась со своей дочкой и хихикала, точно кикимора болотная.
И приходила ему мысль в голову, что нужно наличие таланта подкрепить как-нибудь документально: справку, что ли, какую получить или удостоверение-корочку чтобы выдали, что он – писатель. А не охранник какой-то там, которых на миллион каждый третий.
Свечкин так и решил для себя, допишет пятую главу романа и пойдёт добиваться справки в соответствующее учреждение. А пока нельзя нарушать суетой экстаз вдохновения.
* * *
С пятой главой Свечкин напрягался особенно тщательно. Старался, чтобы даже сосед-инженер не смог выразить ничего насмешливого. Фразы строил короткие, без лишних «психологических» оборотов речи, но применял обильно прилагательные – для возбуждения у читателей «слезливых» чувств.
Выписывая чувства двух главных персонажей в пятой главе, Свечкин сам чуть не рыдал и зримо представлял своих рыдающих читателей. Глубоко душевный, по собственному авторскому мнению, получился портрет вдовствующего батюшки. С пшеничными волосами, спадающими густой волной на плечи, с кудрявой короткой бородкой, с большими голубыми глазами, в которых затаилась скорбь и кротость. Его забота к несчастным четырём деткам и просыпающаяся плотская страсть мужского естества к проживающей теперь рядом в доме подобранной на улице девушке.
Поначалу Свечкин решил в развитии сюжета изобразить смерть от тяжёлой формы скарлатины двух из четырёх детишек – но затем раздумал злоупотреблять читательской чувствительности и перенаправил читательский интерес на зарождающееся чувство любви, сопряжённое для молодого священника с терзаниями духовного плана и противоречиями в области морали. Понял он, что не крещёна подобранная им у забора девушка и много греховного пребывало в её прошлой жизни. И озаботился батюшка привлечением своей воспитанницы в лоно церкви, совершить обряд крещения на первом этапе, а затем подготовить её для принятия монашеского пострига. Занимались по вечерам чтением книг соответствующей тематики и заучиваньем на память многих молитв за упокой и за здравие.
Для пущей убедительности данных сюжетных фрагментов Свечкин даже попросил у знакомого церковного служителя Псалтырь и оснастил текст большим количеством, чуть ли не на пять страниц, цитатами.
Главная героиня романа тем временем самым жертвенным образом отдавалась заботам по домашнему хозяйству батюшки. Нянчилась с детьми, наводила чистоту в доме и на скотном дворе, вылечила от всех звериных хворей поросят, кроликов, курей. Страдающий в противоречиях батюшка, в конце концов, передумывает сам становиться крестным отцом для своей воспитанницы и для подготовки к обряду крещения договаривается по дружбе с одним монахом суровой наружности из опекаемого пригородного монастыря. Тот монах с наружностью отшельника и татуировками на всех пальцах согласился стать крестным отцом и потребовал прислать на три дня ему в келью будущую крестницы для надлежащего очищения от грехов прошлой жизни. Все три дня и три ночи без пищи и сна героиня читала заученные молитвы и не выпускала из рук осколок зеркальца из своей косметички.
В данных местах сюжета Свечкин не удержался от длинных предложений, и сам почувствовал, что понаставлял столько знаков препинания, преимущественно многоточий, что сосед-инженер будет ехидничать сверх обычной меры.
Крестили главную героиню с соблюдением всех благочестивых процедур. Свечкин даже проконсультировался со специалистом по этому вопросу из местной епархии, чтобы всё выглядело совершенно правдиво и убедительно.
В душе своей молодой вдовствующий священник уже представлял воспитанницу, прошедшей очищение и крещение, своей попадьёй, и по ночам снилась она уже явственно возлежащей рядом на ложе. Божьим подарком, истинной благодатью виделся ему случившийся поворот судьбы.
Сам млел от восторга над самим собой, заканчивая пятую главу, в предвкушении потока читательских откликов. Млел, точно его персонаж в ожидании первой брачной ночи с молодой женой, воцерковлённой героиней. Последнюю страничку дописывал чуть ли не в напевном стиле древних сказаний. Выводимые авторучкой словесные обороты отдавались в голове перезвоном церковных колоколов.
«Из глубины души надо подбирать слова, — сам по себе размышлял параллельно Свечкин. – Вот тогда народ поймёт твой талант, происходящий из самой душевной глубинки. Народ нутром правду жизни чует».
Главная героиня романа после венчального торжества ровно через девять месяцев производит на свет мальчика совершенно херувимского обличья с иконописных изображений. А под обеими лопаточками на спине мальчика две повивальные бабушки обнаруживают два, отчётливо просматриваемых бугорка, будто зачатки будущих ангельских крылышек.
«После такой романной концовки, — подумал Свечкин, ставя последнюю точку и закрывая тетрадь, — у народа должно просто сердце разорваться».
* * *
Отправив по почте в «Христианский вестник» пятую главу, Эдуард в тот же день, прихватив в подмышку четыре номера журнала, отправился по адресу, найденному в телефонном справочнике. В организацию, которая заведует писательскими делами.
«Какие у них могут быть возражения относительно моей кандидатуры? – Свечкин по пути критически прикидывал все доводы. – Народ меня признаёт… Что ж они, пойдут против мнения народа… Пусть вот читают, что мне читатели пишут»
По коридорам двухэтажного здания старинной архитектуры гулял сквозняк. Свечкин заглянул в несколько пустых кабинетов, и у него создалось впечатление необжитости и унылости. «Совсем работать не хотят. Исписались, видать, — с ухмылкой подумал он. – Талантов не хватает, похоже, для этого дела»
В одном кабинете на втором этаже обнаружилась всё-таки девушка с глазами величиной со сливу и цветом глаз, как у спелой сливы. Свечкин с полным достоинством поинтересовался у неё о порядке принятия в писатели и с выдачей надлежащей официальной справки. Девушка объяснила порядок: что нужно пройти процедуру оценки рукописи, получить положительные рецензии от экспертной комиссии и тому подобное. Свечкин хлопнул об стол четырьмя номерами «Христианского вестника» и опять с полным сознанием собственного достоинства заявил, как памятник Гоголя, сошедший с пьедестала, чтобы скорее писали рецензию, те, кто этим занимается, а если нужно характеристику с места работы или какие медицинские анализы, то за этим не заржавеет.
Девушка вежливо попросила зайти через два месяца.
Две недели Свечкин прождал в нетерпении, а дальше уже не вытерпел. Утром после дежурства зашёл опять в то учреждение. Вместо девушки со сливовыми глазами в том же кабинете увидел мощного телом мужика с буйной гривой седых волос.
— Я тот, кто вам свой роман приносил, — сразу, без приветствия пояснил с порога Свечкин, а потом уже сказал «здрасте». – Там в печатном виде четыре главы. И скоро пятую главу напечатают. Когда будет ваше решение, насчёт официального моего оформления, а?
— На рецензии ваш роман, — сказал басовито седой мужик, всматриваясь в Свечкина долгим взглядом. – Два рецензента его читают.
— Долго что-то они читают, — буркнул с неудовольствием Свечкин. – Там же, если начнёшь читать – не оторвёшься. За один день прочитать можно. Там же народное мнение приложено: говорят все, что вулкан чувств и фонтан таланта.
— Фонтан-вулкан, — ухмыльнулся седой, — это всё из области субъективности. Требуется некая доля и объективного мнения специалистов. Насколько это возможно в сфере тонких материй, включая и литературу.
— И сколько мне ждать? – уже с напором, как бы опасаясь, что его хотят в чём-то обжулить, спросил Свечкин. – У меня в романе как раз про эту сферу тонких материй.
Мужик за столом развёл неопределённо руками и предложил зайти через месяц.
Но и на этот раз Свечкин вытерпел только две недели. И опять направился в старинный особнячок с горячим желанием поскорее узнать о своей приобщённости к писательскому сообществу в официальной форме. Но опять же никого, кроме девушки со сливовыми глазами, там не застал. Девушка не могла вразумительно ответить на вопрос «когда», краснела щёчками и пожимала плечами.
На третьем заходе наконец-то седой мужик обнаружился на своём месте. Сидел, барином развалясь за столом старинной работы с мощными фигурными ножками. Писательский начальник в прищур посмотрел на Свечкина. Эдуард напомнил, кто он есть такой.
— Ага, — сказал седой мужик, — вспомнил. – Понимаешь, какая ситуация образовалась, что один из твоих рецензентов в больницу попал – язва прободная у него обострилась. Второй – в запой ушёл с чего-то. Большой он у нас эстет, понимаешь. Возможно, что читая твой роман, какой-то стресс с ним случился. Близко к сердцу принял. Большой он у нас эстет, понимаешь.
— И что же мне?.. И что же со мной дальше? – набычившись, со злобностью спросил Свечкин. – Надо же установить факт насчёт меня. Без тех рецензентов нельзя признать меня писателем? Народ в своих отзывах в журнале своё мнение выразил. Мало вам, что ли, народного мнения?
— Ну, давай, признаем, — как-то равнодушно сказал писательский начальник. – Прислушаемся к мнению народа. Чего от меня надо, конкретным образом?
При этом мужик распрямился в кресле и задел что-то ногой. Из-под кресла выкатилась початая бутылка коньяка. Он движением ноги загнал бутылку обратно. И смотрел на Свечкина ожидающе.
— Мне справку какую-нибудь… Подтверждающую факт. Чтобы уже осознанно отдаваться творчеству… Справку выдайте мне необходимого образца, — требовательно произнёс Свечкин.
Похмыкав, мужик окликнул из прилагающего кабинетика девушку и объяснил, что надо сделать. Свечкин отправился за ней следом. Заполнив анкету на трёх листах, вернулся в большой кабинет. Писательский начальник этим временем, вытерев губы, разворачивал карамельку. Спросил у Свечкина с недоумением:
— И зачем тебе всякие справки? Во всякие союзы вступать не пойму, ей-богу… И зачем люди так табунятся в стада коллективные? Инстинкт какой-то древний, похоже…
Уже, в свою очередь Свечкин недоумевающе посмотрел на него.
— Как же, зачем? Чтобы… это, писателем полноправным себя считать. Ну-у, и писать уже без всяких сомнений, в полном признании таланта собственного.
Седой мужик, опять в прищур поглядывая, рассматривал Эдуарда.
Девушка со сливовыми глазами внесла бумагу величиной с целый лист и положила на старинный стол. Писательский начальник чиркнул авторучкой внизу бумаги, вынул из стола футляр с печатью и смачно-пружинисто поставил оттиск. Лист протянул Свечкину. И Эдуард с нервным трепетом в руке пробежал глазами текст: «Справка. Дана такому-то, данные паспорта… Что предъявитель сего действительно является народным писателем. Авторский псевдоним – прочерк. Что и подтверждается… Дата. Подпись, печать»
— Доволен? — спросил седой.
Свечкин кивнул и поинтересовался дополнительно:
— А писатель – это должность? Или профессия?
— Как сказать, — заёрзал в кресле мужик. – Наверное, это называется – призвание.
— Призвание, это – как? – дёрнул подбородком Свечкин. – За призвание какую-нибудь зарплату плотят?
— Призвание – это навроде того, что когда ничего больше делать не хочется. Каприз такой вдруг возникает при разных жизненных обстоятельствах. А деньги тут, — писательский председатель поскрёб бороду в районе кадыка, — деньги тут элемент случайности.
Свечкин угукнул понимающе, свернул справку в трубку, сунул во внутренний карман и, попрощавшись, направился к выходу.
— Давай, иди, твори, — похихикал за его спиной седой мужик, раскуривая замысловатую трубку, похожую на сучок вишнёвого дерева. – Творец.
«Наклюкался уже, — критически подумал Эдуард. – Расслабились в своём призвании. Много из себя воображают…»
Сегодня у Свечкина дежурные сутки, и по пути на свой пост он решил зайти в контору своего охранного предприятия.
Прошёл через приёмную прямо в кабинет начальника и сразу наткнулся на враждебно-вопросительный взгляд: чего, мол, припёрся?
— Я хотел бы внести кое-какие изменения в свои данные в отделе кадров, — с некоторым заискиваньем объяснил Свечкин.
— Какие изменения? – через губу спросил начальник отдела вневедомственной охраны.
Свечкин протянул ему, разворачивая в движении, писательскую справку.
— Я теперь писатель. Вот. В мои анкетные данные надо записать.
— И что теперь? – опять через губу спросил начальник, в секунду пробежав глазами текст справки. – Оклад тебе повысить оттого? Или льготы какие просишь, как у беременной сотрудницы? Чего теперь-то?
— Нет. Я, в общем так, для сведения.
— Ага, понял. Типа того, что можешь теперь про меня какую-нибудь гадость написать? Опасаться тебя надо? Так, что ли, выходит? Иди, давай, служи… Писатель.
Опять свернув справку в трубочку, как какой древний манускрипт, Свечкин с достоинством покинул кабинет.
На дежурстве ночью ему, как обычно, не хотелось спать. В каком-то взбодрённом состоянии организма находился, что даже не достал из тайничка запрятанную от проверки раскладушку. Расхаживал по коридорам объекта и фантазировал в мечтах об изменении в своём ближайшем будущем. В ящике стола нашёл список телефонов аварийных служб, вложенный в прозрачный пластик. Вместо списка Свечкин вложил в пластиковые корочки справку о своём писательстве и полюбовался на документ, отставив далеко руку.
Утром с дежурства Свечкин возвращался домой в праздничном настроении. К тому же в прозрачном от первых ночных заморозков воздухе издалека доносился тающий звук колокольного перезвона. Попытался вспомнить, какой же нынче церковный праздник – но не смог вспомнить.
На подходе к бараку, на тропинке за дворовым туалетом, встретил соседа-инженера. Поздоровались и, попридержав соседа за рукав, Свечкин сунул ему на обозрение документ в прозрачном пластике.
— Ого! – сказал сосед, рассмотрев документ, — со штемпелем. Молчу и преклоняюсь. Ну, ваяй и дальше. Желаю творческих успехов.
Жена со своей мамашей квасили капусту, замусорив всю кухню капустной шелухой. Свечкин и им предъявил на обозрение письменный факт писательского признания. Никакого впечатления документ с печатью на родственников не произвёл. Лишь тёща хмыкнула:
— А что ж, где этот псевдоним, прочерк поставили? Делал бы тогда эту бумагу по полной форме, с псевдонимом. Например, псевдоним – Охломон. Пусть и написали бы.
Тёща со своей дочкой противно захихикали. Эдуард хрустнул очищенной капустной кочерыжкой, сказал с явным презрением:
— Овцы вы ветхозаветные, не отличаете семян от плевел!.. Нет пророков в своём отечестве. Большое видится на расстоянии.
— Ты вот что, писатель большого размера, — обернулась тёща от корыта, — выкинь эту блажь из головы и займись делом. Нужник наш дворовый чистить наша очередь по графику. Видишь, мы в капусте все.
Свечкин достал из кладовки ведро с каустической содой, веник-голик специальный сортирный и пошагал по двору в сторону дощатого сооружения с двумя дверями, обозначенными буквами «М» и «Ж». Думал по дороге в мыслях, мгновенно пролетающих в голове, что вот каким делом приходится заниматься признанному писателю. А там, в старинном особнячке, вон, сколько кабинетов пустует – никто не работает, только пьнничают. Злоупотребляют своим призванием… Их признали – они и расслабились в своём призвании.
От разведённого в ведре каустика щипало в глазах. Надраивая веником грубо выпиленную дырку в полу, Свечкин вдруг, одним мигом, ощутил порыв озарения. Возник сразу, в общих чертах, сюжет шестой главы его романа. Мальчик Серафим, родившийся у грешницы и священника, с годами всё больше и больше приобретает чудодейственную силу, крылья белопёрые вырастают у него за спиной, и он посвящает свою жизнь борьбе с грехом во славу благодати. Казнит и милует, милует и казнит.
«Ох, — мелькнуло в голове Свечкина, — это ж, сколько можно будет насочинять в том направлении. Это будет роман с большим-большим продолжением».
===== «» ====
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!


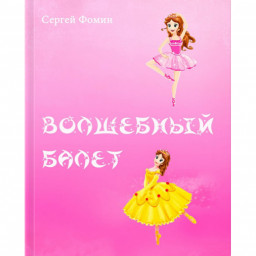
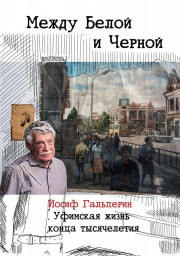
Но не по асфальту, а за обочиной, по бездорожью, где нет предписывающих и запрещающих знаков, и дяденек с полосатыми палками.