Платок
Старушка была похожа на птичью лапку.
Одиноков подумал так и удивился пришедшему на ум сравнению. Образами он не мыслил никогда: для него существовал лишь язык точных понятий. Все расплывчатое, неустойчивое, рожденное неуловимой общностью внутренних форм казалось ему чуждым.
И все-таки – старушка напоминала птичью лапку.
Стоило сказать даже точнее: лапку синицы. пушистые и желтогрудые, они каждый день мелькали за окном – перепрыгивали по дереву, раскачивались на обледенелых ветвях, крепко цепляясь тоненькими черными пальчиками. Их веселая возня порой отвлекала его от работы; он лежал тогда, глядя поверх бумаг, и думал: неужели им не холодно там, на морозе?
Что соединяло старушку с лапкой одной из синиц? Это не поддавалось точному выражению. Ведь он был физиком и никогда не был поэтом.
Одиноков незаметно для себя прошагал больничный коридор и плотно закрыл за собой дверь своей палаты.
Собственно говоря, это была не палата, а особая комната вдали от всех, в конце отделения, около ординаторской – «кабинет доцента», как поясняла табличка. У себя в институте он и был доцентом; выходило, словно комната и в самом деле предназначалась именно для него. В этом кабинете со шкафом, столом и даже телевизором – который он, правда, не включал, так как ему попадались лишь ток-шоу с вульгарными женщинами и глупыми мужчинами, — по указанию заведующего отделением, его школьного друга, для него оборудовали место. Причем поставили не провисшую до пола панцирную койку, как в остальных палатах, а прикатили откуда-то настоящую хирургическую кровать с жестким щитом и регулируемым изголовьем. На ней можно было лежать долго, не испытывая боли в спине – читать и даже писать. Этим Одиноков и занимался, тем более что давно созрело важное дело, постоянно отодвигавшееся на все более поздний срок. Он прихватил с собой из дома стопку оттисков разных лет и теперь писал большую – страниц на пятьдесят – обзорную статью в физический сборник, которая при благоприятном стечении обстоятельств могла служить последним блоком для докторской, работалось успешно, хотя после операции его мучила небольшая температура, которую никак не удавалось сбить антибиотиками.
В этой палате-кабинете, со сносными условиями для работы, он чувствовал себя почти уютно. А главное, жил отдельно от всего урологического отделения, от стариков с трубками и въевшегося в стены мочевого запаха. Без надобности он не общался даже с медсестрами, из которых две оказались довольно хорошенькими. Появлялся на люди только в обеденные часы: несмотря на отличную домашнюю еду, которую каждый день в банках приносила жена, Одиноков испытывал постоянный голод – и не мог пренебречь даже отвратительной больничной пищей.
Но выходы не грозили ненужными контактами. Аккуратно выбритый и причесанный, подтянутый по мере возможности – к тому же одетый не в больничную рвань без пуговиц, а в собственную почти новую пижаму, — он не мог слиться с массой больных. Окружающие, судя по всему, ощущали эту его отъединенность. С ним никто никогда не пытался заговорить, и в столовой, оправдывая свою фамилию, он всегда обедал один за пустым столом.
В общем, жизнь больничная почти не отличалась от жизни вольной – а чем-то даже превосходила ее, ведь тут ему никуда не нужно было спешить. В иные часы казалось, что эта внезапная передышка даже полезна своим покоем и возможностью без суеты поработать. Тем более, что операция в общем-то была пустячной.
Старушку он заметил на третий день, когда возвращался из столовой. отопление работало на полную мощность, в общих палатах, вероятно, было нечем дышать, и их двери с утра до вечера стояли распахнутыми настежь. Там-то он ее и увидел.
Она сидела на койке – в темно-красном, с разводами халате и светлом платке. Он-то и бросился в глаза в первый раз, потому что был повязан по-татарски: прямоугольником, за два смежных угла.
Странно, но факт: никогда не интересовавшийся ничем кроме своей науки, Одиноков все-таки помнил, что так повязывают платки именно татарки.
Тринадцать лет тому назад, на заре туманной юности, угодив между университетом и аспирантурой в армию, он служил на Урале. Ракетная часть, где лейтенант Одиноков — сейчас диким казалось даже простое соседство этих слов! — командовал пусковой установкой, лежала в степи. В одну сторону степь казалась бесконечной, край ее терялся в дымке, где горизонт сливался с серо-зелеными волнами тревожно колышущихся трав. С другой стороны темнела цепочка невысоких гор. Горы были совсем близкими, они манили к себе слоистыми изломами меловых обрывов и густыми полосками леса, прилепившегося по склонам, но их отделяла быстрая, страшно холодная река, переплыть которую могли немногие – и уж, конечно, не Одиноков, никогда не стремившийся к физическому совершенству. Вдоль реки вытянулось татарское селение. И солдаты, и офицеры регулярно туда наведывались, поскольку больше было просто некуда на добрую сотню километров. Солдаты страдали по черноглазым девушкам, офицеров больше интересовали пожилые женщины, очень дешево продававшие особым образом приготовленное молоко – хмельное, как пиво, называвшееся как-то на букву «К». По-русски жители села говорили плохо, однополчане Одинокова между собой именовали их чурками. А он, как ни странно, презрения к этим людям не испытывал: они были простые и по-детски добродушные, несмотря на разборки из-за девушек, случавшиеся почти в каждый праздник между солдатами и местными парнями. Пить Одиноков не пил даже в молодости, но в село все-таки тоже ходил – отдохнуть от асфальта, серого цвета и армейской матерщины. Он хорошо помнил, что татарские старушки, ласково здоровавшиеся с ним на длинной улице, носили платки именно так.
Наверное, эта тоже была татаркой. Но как она попала сюда, в совсем далекий город? Может быть, просто приехала погостить, да внезапно заболела?.. Вернувшись к себе и принимаясь за дело, Одиноков еще полминуты думал о ней.
Когда пришло время очередного обеда, он рассмотрел старушку как следует. палата была огромной, человек на двенадцать; там стоял шум, галдели женщины – она сидела безучастно в своем татарском, белом в черную крапинку платке, сложив на коленях руки ладонями вверх, и смотрела перед собой.
Дня через два, лежа с бумагами на своей великолепной кровати и обдумывая точную формулировку одного явления, Одиноков заметил в окне синицу и вдруг ощутил укол незнакомой прежде жалости: плохо ей, наверное, тут – больной и без языка… Хотя, вероятнее всего, по-русски она кое-как говорит… Он встряхнул головой, возвращая себя к физике. Это удалось.
Но ночью, когда от температуры покалывало глаза, а в темноте шевелилась боль, осторожно ощупывая низ живота, он опять думал о старушке. И долго не мог переключиться на что-то другое, отвлечься и уснуть.
— Ты опять плохо выглядишь, — на следующий день сказала жена, передавая куриный бульон и яблоки.
А он и сам чувствовал, что выглядит плохо. Помимо температуры, его выжигало изнутри и еще что-то. Мысли о старушке рождали ощущение непонятной, сосущей вины. Откуда она взялась? Быть может, нечто тайное тянулось еще с Урала?
Нет, оттуда нечему было тянуться; на Урале он ни в чем не провинился, его не интересовали даже черноглазые девушки. Его заботило тогда лишь одно: уехать поскорее от этих проклятых ракет, возле которых бессмысленно гибли самые лучшие дни. Вернуться в университет и снова заняться наукой, пока кто-нибудь не опередил в результатах. Это зависело от того, насколько оперативно его научный руководитель сумеет обработать собственного учителя, престарелого московского академика, чтобы тот поговорил с каким-то знакомым маршалом, от которого требовалось позвонить куда следует и добиться пересмотра Одиноковской судьбы. Руководитель поработал, академик поговорил, маршал позвонил – его отозвали после первого года службы, и научная карьера понеслась дальше. Даже успешнее, чем мечталось. Урал забылся как случайный и ненужный эпизод биографии.
Вина была глубже. Он не относилась к кому-то конкретному и не поддавалась осознанию. Она просто сосала его, отнимая силы, не давая расслабиться даже во сне.
Одиноков работал, но не испытывал уже прежней сладости от занятий любимым делом, а словно отбывал обременительную повинность. Его стали мучить еще и воспоминания о своих детских прегрешениях – настолько давних, что в них и раскаиваться-то было смешно. Теперь весь этот темный осадок, который, наверное, имеется в памяти любого взрослого человека, вдруг поднялся со дна, замутив мысли.
Он, кажется, перестал причесываться и бриться заставлял себя через силу. Температура, которая пошла было на убыль, снова поползла вверх. И еще все чаще что-то ныло в животе. Хирург – тот самый школьный друг, который его оперировал, — нехорошо хмурился, снимая швы на седьмой день – или ему просто показалось? Но теперь, ни с того ни с сего, он стал вдруг чувствовать себя по-настоящему больным.
Так шли день за днем. Его не выписали, как обещалось, через неделю. Ему становилось хуже, словно откуда-то, через крошечное отверстие, капля за каплей вытекала из него сама жизнь. Не хотелось ничего: ни работать, ни есть, ни даже просто вставать с кровати. Может, ему стоило просто зайти к этой старушке и сказать ей пару слов по-татарски? Он ведь успел выучить кое-что на Урале и помнил до сих пор, имея привычку не забывать ничего, даже абсолютно ненужного. Но он знал, что ни за что на свете не решится войти в женскую палату: всю жизнь больше всего он боялся безразличного любопытства толпы. Возможно, и сама наука была для него прежде всего убежищем, в котором он надежно укрывался от всего окружающего мира.
Однажды хмурым утром, когда за окном со свистом летела метель, от которой ныло сердце и тупой болью отдавали швы, Одиноков увидел, что старушки на прежнем месте нет. наверное, ее увезли на операцию, — с неясным чувством подумал он. После завтрака он даже оживился: прислушивался к звукам в коридоре, выглядывал на лязг больничной каталки. Мимо везли под простынями похожих на покойников людей, но старушки среди них не появилось. вечером он наконец понял: она умерла. Вероятно, именно этой тяжелой ночью. Умерла, словно ему назло, оставив его наедине с несуществующей, выдуманной, но еще более тяжкой виной.
После ужина он ни с того ни с сего вдруг решился зайти в ее палату. Он ощущал себя как бы уже не живущим среди людей, ему теперь было все равно, как на него посмотрят и что подумают. все-таки, войдя, он едва тут же не выбежал обратно: прямо у дверей мочилась на судно женщина. Но на него, как ни странно, никто даже не обернулся: наверное, обитатели больших палат давно привыкли жить на виду. Он прошел к старушкиной кровати. Постели не осталось; не сером нечистом матрасе лежала жалкая подушка без наволочки. А со спинки свисал платок. не тот, в крапинку, что был повязан, а другой – желтоватый, с бегущими по краю красными и синими цветочками.
— А где?.. — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Вчера, — не сразу отозвалась женщина с соседней койки.
Он ждал слова «умерла», но та договорила:
— Выписалась.
— Ааа…- протянул Одиноков, чувствуя одновременно и облегчение и какую-то неожиданную досаду. – А… это?
— Забыла.
Он помолчал и вдруг выпалил, точно продумал все заранее:
— Родственники пришли. За этим, наверно. Внизу ждут.
Женщина не ответила. Он осторожно взял платок и быстро, как вор – а кем, в сущности, он был? – вышел вон.
В кабинете доцента стоял острый, свежий запах мандаринов, недавно принесенных женой. Одиноков лег на спину. Работать не было сил.
На улице стемнело. Синицы исчезли, да их сегодня и не было. За окном бушевала метель. Влажный снег слоями ложился на карниз, нарастал плотной белой горой. Одиноков протянул руку и взял со стола мандарин. Посмотрел на фотокарточку, где между двух дочерей улыбалась жена. Ничего не менялось.
Платок висел в изголовье. От него шел тонкий, не убитый больницей старушечий запах. Бывший когда-то привычным запах его старенькой бабушки, над которой он, по-мальчишески жестокий, так много потешался в детстве.
Снег залепил стекло почти наполовину. Вдруг подумалось, что в жизни тоже не будет больше прежней постой ясности. И вообще – старушка выписалась, а вот ему – ему, Одинокову! – не суждено выйти отсюда своими ногами. Врач узнает только через пять дней, когда из онкодиспансера вернется его анализ. А он, кажется, сам уже понял. Все и навсегда.
Откуда оно взялось, предчувствие – и не предчувствие даже, а вполне твердое сознание! – новой печальной истины? Или все-таки это ему лишь казалось? Он лишь напридумывал всякой ерунды, измученный усталостью от ненужных мыслей? Это уже не было важным. Больше ничего не могло быть важным. Теперь ему было уже все равно. И в принципе, чем скорей, тем лучше…
Выла вьюга; болели швы.
Не хотелось жить.
1993 г.
© Виктор Улин 1993 г.
© Виктор Улин 2007 г. — фотография.
© Виктор Улин 2019 г. — дизайн обложки.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!

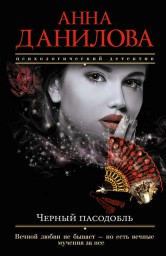
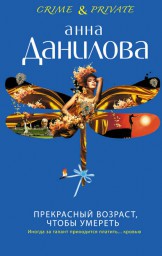
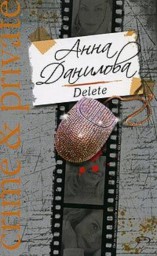
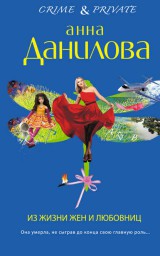
Задуман рассказ именно в больнице, зимой 1993 года, после операции.
Тогда и написан, с тех пор не правлен, потому что вроде бы править нечего…