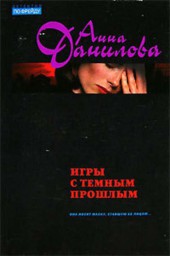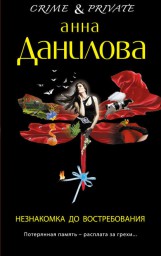Заповеди деда
Я повернул кольцо запора, открыл массивную калитку и оказался на просторном крытом дворе. Под ногами – пол из толстых, плотно сколоченных плах. Справа высокоекрыльцо. Робко постучал в дверь. Козонки моих пальцев вряд ли могли издать вопросительный звук – дверь была толстой и не вибрировала. Тут она отворилась, и старушка, не отпуская ручку двери, пригласила войти. Я перешагнул высокий порог в сени, вошел в дом.
– Проходи, садись.
– Меня председатель направил к вам на ночлег.
– А он всех гостей залетных к нам направляет. Посиди, отдохни, старик приедет, ужинать станем.
Большая, просторная, без перегородок, изба. Посередине русская печь. Заборка, разделявшая когда-то избу на две половины, была убрана, остался лишь светлый след на полу. Колено самоварной трубы висело у шестка на гвоздике, рядом два ухвата, совок и кочерга, да лопата деревянная – каравай на под печи сажать. Голые, бревенчатые, щелеватые стены с черным мхом в пазах, некрашеный пол с поблескивающими на солнце сучьями-луковицами, деревянная кровать за печью и толстые, широкие лавки вдоль стен. На них, видимо, и спали дети. Под потолком на матице висела под голубым сверху и белым снизу эмалированным абажуром из синего волнистого стекла десятилинейная лампа. Рядом, без абажура, голая электролампочка. На подоконнике стояла еще одна керосиновая лампа – семилинейная, с пузатым стеклом. На стене тикали часы, приводимые в движение гирей в виде еловой шишки. Рядом в простенке застекленные рамки с фотографиями.
Старушка маленькая, совсем усохшая, с выплаканными бесцветными подслеповатыми глазами. Лицо ее одрябло, как прошлогодний овощ. В чистеньком белом платочке цветочками, повязанном по-деревенски концами вперед, сидит она, облокотившись на худые руки у окна, поджидает своего вечно занятого старика.
– Бабушка, – подал я голос, чтобы прервать гнетущую тишину, – сколько вам лет?
– Молода была, помнила, а ноне-то уже забыла. Старик подъедет, дак скажет. Он, поди, еще помнит. Худо вижу – весь свет в дыму.
Мария Тихоновна поднесла сухонькую коричневую руку к глазам и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону.
– МОлодец, однако? –ставя ударение на первый слог, в смысле молодой, юный. – Откуда?
– Командированный! – нарочно повысил голос, не надеясь на её слух.
– Чую, что дальный. У нас говорят потише, – с легкой иронией сказала старуха.
Я попытался ее разговорить. Пошел к рамкам с фотографиями.
– Расскажите, пожалуйста, кто на этих фотографиях.
Она подошла к рамке и, не видя образов детей своих, на память стала показывать пальцем и называть имена каждого.
– Ни одного не осталось, все там… А сколько было-то! Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа. Пять мужиков. Старших – тех война съела. На одном году четыре похоронки получила – вот как по мневойна-то проехала. Егор тоже через войну нарушился – в плену у германцев был. Вот какой уж год пошел, а я все вспоминаю и плачу. Ложусь и встаю с тем… По ночам плачу – подушка утонула в слезах. Руки-то в колхозе от работы высохли.
Слеза выкатилась, запрыгала по морщинам, будто по ухабам, упала на пол. Она промокнула глаза кончиком платка, села на прежнее место и продолжала вглядываться вдаль.
Вдруг встрепенулась, налила горячего борща в большую семейную чашку, положила три ложки, каравай хлеба, накинула на плечи стеганую кацавейку и вышла. Я с любопытством выглянул в окно, выходящее во двор. Моим глазам предстал ритуал казачьей традиции.
Старушка сняла с засова черный от времени и отполированный до блеска за долгие годы бастрик-макагон, распахнула ворота, и старик въехал во двор, не слезая с телеги. Через минуту он был в доме. Вскользь взглянул на меня, как на очередного постояльца, безо всякого интереса, вымыл руки под рукомойником, вытер их полотенцем и протянул мне сухую жилистую ладонь. Крепким рукопожатием дал понять – еще силен, представился:
– Иван Селиверстович.
Я назвал свое имя.
Пока старик умывался, я незаметно наблюдал за происходящим во дворе. Старуха распрягла коня, впустила в конюшню и вернулась в избу. Умылась и молча села за стол подле деда. Стол стоял в правом переднем углу и вокруг него – рамою скамейки из толстых плах.
Когда мы сели за стол, солнце уже лежало на верхушках леса, и лучи его короткие, ласковые тихо догорали на подоконнике. Мы с дедом, оба голодные, по-мужицки, ели молча.
– Как он жадно ест, – всхлипнула старушка, – прямо как мои, бывало, «галчата».
Она опять вспомнила, глядя на меня, своих безвозвратно потерянных сыновей.
– Да будет, будет тебе, –досадуя, приструнил жену Иван Селиверстович. – Ест же человек, кушает, а ты мокренью брызжешь!
Мария Тихоновна торопливо утерлась передником, сидит, опершись на стол, тупая, послушная. В позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная, дна не имеющая тоска, что и сравнить ее не с чем. Ей все безразлично оттого, что в доме пусто, нет гаму, шуму, и хочется попасть обратно в ту жизнь.
А какое удовольствие было смотреть на стариков. Тут знали цену хлебу насущному: Хлеб дед резал стоя, прижав каравай к груди, ели молча, неторопливо, по старинке – в правой руке ложка, а левая ковшичком сопровождала ложку от общей большой семейной чашки до подбородка.
Когда хозяйка унесла посуду на кухню, хозяин виновато обратился ко мне:
– Ты уж прости старуху за некстати слово сказанное…
Морщины резче обозначились на его сухом узком лице да на жилистой, до черна загоревшей шее.
– Говорят, один сын – не сын, два сына – полсына, а три сына – сын. А у меня пять было и ни одного не осталось. На войну забрали, и всех убило. На трех месяцах четыре похоронки на меня пало. Дак как, думаешь, легко было нам? Дом без детишек-внучат – все равно, что амбар пустой среди зимы. Да и я немножко повоевал. А что ты удивляешься? Когда война метлой вымела молодых мужиков из деревни, военкоматы за стариков принялись. Определили меня в конный транспорт снаряды на передовуюподвозить. И ведь что обидно, перед самой победой немецкая батарея положила несколько снарядов и наделала беды. Телега моя взлетела в воздух, мерина осколками убило, а меня вот Бог помиловал, дескать, хватит жертв в твоей семье. Контуженного, в нескольких метрах от воронки обнаружили после боя. Пока валялся в госпитале, война закончилась, и меня комиссовали. Время было трудное, послевоенное. Многие колхозы дышали на ладан. Мужиков-то после войны, почитай, раз-два и обчелся, да и те покалеченные. Лошадей – и тех на фронт забрали. Старики, бабы да мелюзга пузатая – недокормыши и кормили Рассею.
Старик надолго замолчал, мысленно прошелся по одному из трудных отрезков своей жизни. Легкая дрожь пробежала по его телу, он встряхнулся.
– Ну да чё это я тоску на тебя навожу, ты, поди, не хуже меня все это знаешь.
– Иван Селиверстович, расскажи еще что-нибудь интересное.
– А у меня вся жизнь интересная, в какой закуток ни загляни. Так вот, пришел я с фронта, руки-ноги целы, за всю тяжелую работу первым хватался – стыдно же перед бабами отлынивать – вот и надорвался…
– На бабах ты надорвался, – не выдержала жена. Она сидела в закутке за занавеской и прислушивалась к нашей беседе. Взыграли прошлые обиды! Она вышла из кухоньки и вступила в разговор. – Гулеванить-то как он любил! Да все с куражом, все с вывертом да с норовом. Вот вдовушки и липли к нему. Из сельсовета, бывало, с почтой часто поздно приезжал: «почтовый поезд, дескать, опоздал».
По худому бледному лицу старухи скользнула чуть приметная усмешка.
– Почтарка, небось, какая долго почту не отдавала…
Без злобы бабка ворчала, любила его, гордилась мужем своим, не променял он ее ни на какую молодуху: каждую ночь домой возвращался. И все же приятно вспомнить годы молодые на закате жизни.
Дед сидел довольный, гордый, как петух, выкатил грудь вперед, мол, слышишь, каким гоголем я был, да и сейчас ещё о-го-го! Накручивал свои гусарские усы.
– Во-во, за усы твои, поди, бабы-то и любили, – не унималась старуха. Наведи она какую другую критику на деда, тут бы и получила полный отлуп: «Сиди, мол, в своем углу и не мыркай! Неча в мужицкий разговор встревать!»
Воркотня-воспоминание перевела моего рассказчика на более лирический стиль повествования.
– Так на чем мы остановились? Это надо же, старуха почти слепая, а ухо востро держит. Всю беседу испортила, – добродушно поворчал дед, все еще довольно улыбаясь.
– На тяжелой работе надорвался, – подсказал я, и не смог сдержать улыбки. Дед взглянул на меня, сконфузился и продолжал:
– И тут меня во второй раз «комиссовали». Перевели на легкий труд – почтальоном.
Ревнивые реплики старушки добавили в отношения стариков еще больше трогательного очарования и скрытого от постороннего взгляда взаимоуважения и любви. Есть такие люди, которые умеют прятать свою грусть, переживают ее в одиночку и оттого кажутся на людях всегда веселыми и беззаботными. Он был из той, уходящей, породы русских мужиков, которые умели, и жить с размахом, и работать всласть, и чудить, не теряя рассудка.
Я откровенно любовался своим собеседником. Подтянутый узким казацким ремешком с металлическим оконечником-кинчиком, рубаха на нем длинная, навыпуск, воротником-стойкой застегнута, прибрана, постирана, поглажена – бабка ублажала его. Старик сухожильный, не поймешь, какого возраста. Тонкая кожа сухого, красивого, загорелого, точнее, обветренного лица, подчёркивала его молодцеватость. Лишь морщинки глаз, разбегающиеся к вискам птичьими лапками, когда он лукаво улыбался, выдавали его возраст. Чистый, высокий лоб с редким зачесом назад, посыпанным пеплом прожитых неспокойных лет. Стройная фигура. Я представил его в черкеске и папахе – чистый есаул. Как сохранилась эта мужская красота, не сгорела в лихолетье гражданской бойни, дурелома раскрестьянивания, военного тотального призыва? Глубоко сидящие, когда-то голубые, выгоревшие временем глаза постоянно поблескивали мудрой лукавинкой.
Старик говорил не спеша, обстоятельно, ему не надо было ни поддакивать, ни кивать головой. Можно было даже не слушать его, он все равно не обиделся бы. И я слушал, стараясь не перебивать и радуясь, когда старик произносил занятные и забавные слова либо выражения. Я не доставал блокнот, боясь спугнуть рассказчика. Вот некоторые из них, что сохранились в памяти: «Противу совести не устоять никакому попу», «Без совести жить – не жить», «Работай всю жизнь до смертного часу, а кто работает, тому скрывать нечего». Подобными афоризмами житейской мудрости он непрестанно пересыпал свой рассказ о длинной жизни своей.
Дед давно не встречал среди своих постояльцев благодарного слушателя, с интересом ловящего каждое его слово. Мы сидели в потемках, не зажигая света. Беседа протекала спокойно, как ручеек по камушкам. Бабка, лежа на печи, то и дело засыпала, но сразу же просыпалась от звуков собственного храпа. Она вновь прислушивалась к нашей беседе, но не мешала и не отправляла нас в постель.
С первого дня дед взял за правило: ни дня без свежих газет. И в дождь ли, ветер, снег ли, слякоть, устал – нет, хочется – не хочется – поехал. Сел на телегу – «вперед за политикой!» Раньше, бывало, верхом. Слева к седлу приторачивал почтовую сумку с письмами, переводами и газетами, справа обычно торчала какая-нибудь посылка. Газеты и переводы развозил очень тщательно. Конь его уже сам знал, к какому дому нужно сворачивать. Почтальон, не спускаясь с седла, совал газету в скобу ворот и ехал дальше. В последнее время он частенько боялся слезать, потому что залезать обратно в седло иногда просто не мог. В седле же он сидел молодцевато, по-гусарски, чем вызывал невольные улыбки женщин и усмешки мужиков.
– Конь-то у тебя, Селиверстыч, справный, – подкинул комплимент старику, памятуя старую ковбойскую истину: «обижая лошадь, ты обижаешь всадника!» Предполагая благодарную улыбку, и не думал, что задел самую тонкую струну его души. Он выдал целую хвалебную оду своему любимцу. Я понял: конь – предмет его любви последней и гордости. Старик оживился, потеплели его глаза.
– Я ведь его еще недоуздком во двор привел. А ведь как дело было до того. Позор, да и только. Определили меня, значит, в почтальоны. Вроде как из мужицкого сословия списали. Обиделся я, но ненадолго. Потом интерес пришел. Огорчало только, что на конном дворе мне старые клячи доставались, которые не только плуг, борону таскать не в силах. А мне позор, насмешки от всех встречных-поперечных. Не буду повторять, что мне вслед выкрикивали, а потом гоготали. Взмолился тогда перед председателем. На колени, говорю, паду перед тобой, дай мнелошадку, припиши ее к почте как штатную единицу. Во двор к себе уведу, сам поить, кормить буду. Ну и про фураж не забудь, сено-то косить, говорю, я уж не в силах. Согласился он. А жеребчика-то этого я еще сосунком приметил. И кличку дал ему Игрень. Утром я тебе покажу его во всей красе. По крови он мне пришелся.
Это выражение я слышал впервые, и запомнил его надолго. Он рассказывал о своем любимце с такой нежностью, что невольно наворачивались слезы умиления.
Улеглись мы далеко заполночь. На тиканье ходиков и циферблат мы не обращали никакого внимания. Дед, растревоженный воспоминаниями, долго ворочался на скрипучей деревянной кровати – не мог заснуть. Я лежал на лавке, переполненный впечатлениями. Не заметил, как провалился в сон…
Утром проснулся от щелчков в репродукторе и не мог вспомнить, где я. Передавали последние известия. Я лежал с закрытыми глазами и слушал, как по улице гнали стадо.
Первой встала баба Маня. Она по старинке вздула огонь, подкинула из-под печки сухих полешек, и по стене запрыгали веселые белые отблески пламени жарко запылавших дров.
Дед, как ни в чем не бывало, встал, перекрестился на образа, покрытые вышитым полотенцем, с постоянно горевшей тусклым пламенем лампады, пошептал молитву, умылся и вышел во двор.
Не близкий же я какой-нибудь там родственник-отпускник, чтобы валяться в постели, когда хозяева на ногах. Встал и вышел следом. Кричали курицы, исполнившие свое дело. Особо громко кудахтала одна несушка, словно снесла целую планету. Пытаясь перекричать куриный галдеж, беспрерывно горланил петух, будто тоже хотел снестись, но яичко никак не пролазило. Конь громко переступал по дощатому полу конюшни. Коровы во дворе не было – не те силы у стариков. Но диву даешься, как им удалось сохранить двор – оплот истинно свободного землепашца?
Дом стоит на земле более столетия, и время его не скособочило. Лес валили для дома в феврале, на растущей Луне, чтоб смолою был обилен и не гнил до времени. Дом был главой целого семейства построек. Стояло поблизости большое с овином гумно, крепкий амбар, два односкатных сеновала, баня, картофельный погреб и рубленый на студеном ключе колодец, тут же небольшой инвентарный сарай, где по сезону хранились сани или телега, в глубине двора, к огороду, баз – для выгула скота в зимний период. Жизнь в селе текла спокойно, по давно сложившемуся укладу.
Селиверстыч вывел свою гордость из стойла попоить. Игрень покосился на меня радужно-фиолетовым, словно фотообъектив, глазом. Я улыбнулся, положил руку на теплую лошадиную морду, пощекотал ладонью его бархатную нижнюю губу. Это был вороной, молодой и сильный конь, разительно отличавшийся своим видом от колхозных лошадей.
– Поди пока, погуляй по улице, к завтраку не опоздай, – отправил меня хозяин.
Село разбежалось верст до пяти вдоль широкой улицы. Она начиналась от старинного Сибирского тракта и уходила вдаль, в сторону районного центра, стоящего на железной дороге Транссибирской магистрали. Под бревенчатые пятистенки, срубленные, словно по единому образцу, подведены высокие, в человеческий рост, подклети из природного дикого камня. Промежутки между домами забраны высоким заплотом из таких же кряжистых бревен. Улица напоминала деревянную неприступную крепость. У двух-трех крайних от старого тракта домов в бревнах заплота вырезаны окна-«кормушки» для варнаков и прочих бродяг. В былые времена на них хозяйки ставили кринку молока и ломоть хлеба: «поешь, бедняга и иди с Богом дальше, не тронь скотинушку мою».
В центре села на высоком холме храм. Белая колокольня развороченнойцеркви с погнутым мощным крестом выделялась на спокойном, по-осеннему блеклом небе.
Под впечатлением увиденного я решил за завтраком расспросить старика об истории села.
– Иван Селиверстович, скажи, пожалуйста, как тебе и твоим односельчанам удалось сохранить свои усадьбы? Ни одного дома с заколоченными окнами как в других деревнях, что я видел?
– Были и наши дома, добираясь к вам на перекладных, временно без хозяев. В тридцатые годы после высылки семей крепких мужиков. И в сороковые село обезлюдело. А в пятидесятые, когда власть переселяла колхозников из «неперспективных» деревень, в нашем селе уже не было ни одного свободного дома.
– А Гражданская война прокатилась по всей Сибири до Дальнего Востока?
– Вот именно, прокатилась, она по железной дороге, а мы от неё в семидесяти верстах, и нас, слава Богу, не тронули ни белые, ни красные. – Старик избегал политических тем. – Ну что ж, покушали, пора и на работу. Конь заждался уже. А по правде сказать, – он наклонился ко мне, уже во дворе, – нас спасает отдалённость от районного начальства. – Я сообразил: во времена гужевого транспорта ехать начальнику в дальнее село пришлось бы с ночевкой и спать у председателя колхоза, которого ты приехал снимать с должности…
…Игрень бежит легкой, неторопливой рысью. Старик в очередной раз едет на почту за «политикой» и везет меня до сельсовета.
– Я ведь, почитай, всю жизнь в обнимку с лошадью прожил, – заговорил он как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь, радуясь тому, что на этот раз едет не один по длинной утомительной дороге. – По тракту, по Сибирскому, с обозами ходил, как лошадью править научился, как силенок стало хватать, чтоб супонь на хомуте стянуть. Сперва-то коленком не доставал, дак ногой, ступней упирался. Посмотрел отец: «Запряжешь самостоятельно, в обоз возьму». Шубейку, шапку справили, катанки новые – и в обоз. По двенадцати ден ехали. Случалось и по ночам, лошадей покормим – и опять в путь. Раньше-то так не ездили, – старик указал взглядом на дорожные лужи, – дорога на Сибирском тракте булыжником выложена была. На каждой версте, почитай, хутора стояли людей государственных, для содержания дорог поставленных. Да и сейчас столбы полосатые стоят, еще не сгнили, а хуторов уж нет – разогнали смотрителей.
– Иван Селиверстович, сколько ты еще собираешься за «политикой» ездить?
– А вот как хомут поднять не смогу, тут мне путь трудовой и кончится, – старик горестно вздохнул, представляя свою беспомощность. Мы подъезжали к большому селу. Приближалось время расставания.
– Да, ты вот что, – встрепенулся Селиверстыч. – Ты, я вижу, парень добрый, деревенский, не испорченный еще, послушай совет старика. Не спеши жениться, погуляй, повыбирай, приглядись. Бери девицу моложе себя лет на пять-десять. Не бери в жены дочь вдовы. Прежде чем жениться, посмотри на будущую тещу – знай, жена твоя в старости на нее будет похожа. Люба ли она тебе будет тогда?
Он не успел расшифровать мне свои заповеди, осознал я их много позже.
– Ну, прощевай. Будешь в наших краях, заходи. Рады будем, – легонько тронул вожжой, Игрень твердой поступью пошел знакомой дорогой к почте.
Я с грустью посмотрел им вслед и понял: с этим стариком уходит в безвозвратное прошлое целая эпоха крестьянской России.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!