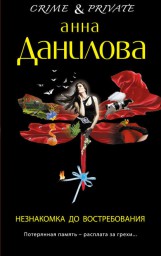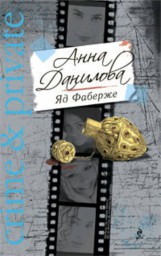Вика
Он ворвался в мою жизнь, словно ураган, разметав мои зыбкие представления и понятия, да так неожиданно и стремительно, что я запомнил его на всю жизнь.
Впервые я увидел его у деда на даче, где в тот год проводил летние каникулы. Я тогда перешел в десятый класс, был полон светлых надежд, мечтаний, и вот как-то под вечер захожу в дом и слышу незнакомый баритон с легкой трещиной:
— Надежды — это чушь собачья! Они не дают трезво оценить действительность, размывают её, выбивают из колеи реальности, — несколько театрально, как мне показалось, говорил он то ли деду, то ли себе. "Чушь собачья" было его любимым выражением, и он вкладывал в него немалую страсть, но меня поражало не то, как и где он вставлял его, а манера говорить, похожая скорее на музыкальный пассаж. Его баритон начинал нехотя, медленно разгоняться, повышая звук каждого следующего слова на полтона выше, и на последнем всей силой своего голоса он резко обрывал фразу, словно ставил этим жирную точку. На меня это действовало потрясающе — я испытывал некоторое очарование от такой необычной манеры говорить.
Звали его Викентий Павлович; для деда, а позднее и для меня — просто Вика. Они с дедом были дружны еще со школы, и разменяв седьмой десяток, Вика не казался мне старым, и только бледная в пигментных пятнах лысина, отороченная густой пеной седых волос, выцветшие от времени глаза да пробивавшиеся кустики огрубевшей щетины на щеках выдавали его возраст. Он был высокий и немного сутулый, как все рослые. Давно не знавший женской заботы костюм висел на нем, как на запылившейся от времени вешалке. Его взгляд отражал некую рассеянность, которая переходила в легкую задумчивость, и тогда взгляд его будто опрокидывался глубоко внутрь. Однажды, выйдя из очередной задумчивости, глядя на меня, он вдруг ни с того ни с сего удивил меня выстраданной тирадой:
— Мой мальчик, ты, наверно, думаешь что старость — это конец. Все! Пиши пропало… Так я тебе скажу: нет — это глубокое заблуждение недалеких и ограниченных. Юность — пора разочарований, сомнений и душевных крушений, и только наша милосердная память, забыв все это, твердит, что прекрасней поры, чем юность, нет… Чушь собачья! Старость и еще раз старость — чудесная пора, конечно, если у тебя все нормально со стулом и ты не возвращаешься в детство. Что может быть прекрасней, когда не надо плестись утром на постылую работу, смотреть в лживые глаза начальству, а впереди — чудная слабость неторопливой жизни без наглой силы и вранья и наконец обретенная способность уйти от себя, находить прелесть одиночества, утратив коллективизм души, когда все тебе ясно и нет ничего, что могло бы тебя неприятно огорошить… — Тут он так глубоко вздохнул, словно сбросил тяжкое бремя прожитых лет, и продолжил: — Нет, что не говори, а в старости гораздо больше плюсов, чем минусов. А страх? Этот вечный спутник… Всю жизнь подспудно испытываешь страх: то за грядущий день, то за родных… то хлеб насущный… Вам это трудно понять, вы бескомпромиссны, у вас на все уже готовый ответ, нет сомнений, железобетонность убеждений, циничная самоуверенность, и нет даже первичных признаков интеллигентности… Живете яростно, засучив рукава, бездумно далеко ушли от природы, быстро смирились с ее равнодушием и твердо уверовали, что человек должен быть счастливым… Какая глупость — "должен"! Почему именно "должен"?
Он еще долго убеждал меня, а может быть, и себя, что только под старость он научился постоянно менять угол зрения на вещи и жизнь, что нет ничего хуже, чем попасть под влияние толпы, которая, по его словам, способна только топтать душу, и так далее...
Поначалу меня забавляли его длинные рассуждения, и я относился к ним с чувством натянутого уважения к возрасту, но постепенно стал замечать за собой, что все, о чем он говорит, как-то тревожит мое сознании, цепляет его и мало-помалу начинает приобретать новые для меня, непривычные представления и понятия. Я стал внимательней его слушать и пристальней разглядывать его внешность. В нем была какая-то неизгладимость прошлого века, что-то от чеховского интеллигента-неудачника — пылкого, духовного, готового на жертву, не хватало лишь пенсне на шнурочке. Я рос закомплексованным и в привычном своем одиночестве ощущал и зрелость; мое уединение никак не было несчастьем — я не задумывался над этим.
Бывало, он так незаметно исчезал и вновь скромно появлялся. Когда его не было несколько дней, то я начинал скучать — мне уже не хватало его растерянного взгляда, которым он будто за что-то извинялся, едва уловимого чувства достоинства, которое в нем уживалось, несмотря на кажущуюся вялость и нерешительность. Я стал привыкать к нему, и меня уже не отвлекала такая мелочь, как его руки, скорее пальцы — они были чуть припухшие, похожие на женские, точь-в-точь как на картинах художников эпохи Возрождения.
— Дорогой мой мальчик! — он обращался ко мне только так. — Весь ужас — в том, что вас не учат мыслить, выходить из реальности и думать, вам преподносят чужие, готовые мысли, чувства, не выстраданные вами, не усвоенные, не выношенные нутром, а стало быть, они обречены остаться мертвыми. Вы пишите затертые до дыр темы, и это из года в год, а ведь, в сущности, ни поэзия, ни проза, и вообще искусство не способны сделать человека человеком. Чушь собачья, когда говорят, что общество, среда формируют, — только сам себя человек может сделать человеком… Пойми, мой мальчик, что жить — это искусство, это все равно что художник ежедневно наносит все новые мазки на полотно души, духовные штрихи, и чем ярче и богаче их палитра, тем оригинальней и неповторимей, талантливей личность. Другого пути стать человеком нет и быть не может... Но самое сложное — это постоянное изменение себя, запомни это.
По вечерам он любил прогуляться, и я, заменив приболевшего деда, стал его собеседником, хотя больше говорил он. Бывало, выйдет и замрет посреди пустынной дороги; я начну что-нибудь говорить, а он оборвет резко: "Молчи!", смотрит в сиреневый закат, и по лицу плывет такая благость, что чудно видеть. Помню, как-то вышли, и он будто сам с собой:
— Так хочется услышать постукивание пролетки по мостовой, почувствовать трогательную грусть воспоминаний у камина, очнуться лет сто назад и, повстречав утром, приподнять шляпу и улыбаясь сказать: "Доброе утро, Дмитрий Дмитрич!"
Мне показалось это странным, но я все таки спросил: - Кто это… знакомый?
Вика улыбнулся с какой-то глухой грустью и шепотом ответил:
— Это идеал русского интеллигента, мой дорогой. — И, подумав, надо ли что-то пояснять, продолжил: — Интеллигент — это не профессия… Это склад ума, образ мышления, способ существования, которым нельзя научиться… Понятно тебе, мой мальчик?
После прогулки я со всей серьезностью пытался убедить деда, что Вика — довольно странный тип, на что дед снисходительно взглянув на меня, заметил:
— Порядочнее Вики я не встречал никого… Кстати, ты ведь не знаешь: Викентий Павлович провел в лагерях почти десять лет.
— Как в лагерях...?! — Полное недоумение выразилось у меня на лице.
— Вот так.., — передразнил меня дед.
— Мы жили тогда, в конце тридцатых, под Ярославлем. Отец Вики был большим начальником на Ярославской железной дороге. В тридцать восьмом его арестовали как врага народа, и Вика с матерью и сестрой были вынуждены из Ярославля переехать к нам в поселок — вот тогда то он и пришел к нам в класс. Перед самой войной арестовали и Вику, было нам по пятнадцать лет.
— А его-то за что? — с неподдельным сочувствием вырвалось у меня.
— Через нашу станцию часто по утрам шли поезда на север с заключенными. Теплушки с наглухо заколоченными окнами, и в щели заключенные бросали записки, когда поезд проходил мимо станции. Клочки бумаги летели, как маленькие бабочки, опускаясь на полотно, кусты. Утром мы бежали через станцию в школу и иногда второпях читали их. В одних было просто написано: "Прощай, не жди", в других: "Не верь, я не виновен, береги детей", а в некоторых мелко адрес и приписка в углу: "Если твоя совесть не скурвилась, передай". Вика стал собирать эти клочки в надежде — авось будет весточка и от отца, а потом, те что с адресами, стал посылать в конвертах по разным городам. Через некоторое время в школе узнали, какие письма отправляет Вика, и кто-то донес. Всю войну он пробыл в лагерях, освободился только в сорок девятом. Одним словом, жизнь ему искалечили, а в пятьдесят восьмом реабилитировали и разрешили приехать сюда… Только ты его об этом не спрашивай, он не любит это вспоминать, — предупредил меня дед.
Недели через три Вика исчез также неожиданно, как и появился. От деда я узнал, что он был толковым инженером и, выйдя на пенсию, частенько бывая у друзей и знакомых, оставался на ночлег. Поговаривали, будто у него не было своего жилья...
Прошло с тех пор немало времени: я успел окончить институт, схоронить деда, жениться и как-то возвращаясь со службы, увидел у метро многолюдную толпу (тогда митинговали на каждом углу). Я почти машинально, проходя мимо, спросил: "Кто это, там?" — и молодой парень с довольной ухмылкой охотно ответил: "Какой-то бомж речь толкает".
И бывает же такое, когда вдруг из темных закоулков памяти выскочит неожиданно на полном ходу что-то вроде старого тарантаса, и изо всех сил так ударит воспоминание, что словно и не было этих долгих лет.
Вика постарел, еще больше стал сутул, седая пена круг лысины сползла к вискам, впалые щеки заросли густой щетиной, но взгляд остался прежним, и, несмотря на заношенность и несвежесть одежды, держался он с достоинством. Манера говорить осталась неизменной, только трещина стала глубже и глуше. Он стоял на ступенях возле тумбы, коряво исписанной призывами, и говорил пылко, самоотреченно.
Я подошел поближе, прислушался.
— … Свобода — это все равно что добровольная цепь, сорвавшись с которой, рискуешь потерять человеческий облик, чувство собственного достоинства. Дай нам всем бог терпения, чтобы каждый прошел в душе внутренний путь от начала и до конца, утверждения веры и достоинства. Не бойтесь изменить себя, не бойтесь сомнений, ищите путь к источнику, чтобы каждый осознал ценность чужого мнения как собственного. Отдайтесь кротости и терпению, обретите великодушие и милосердие, унежьте душу совестью и достоинством. Сотрите все прошлое и начните с чистого листа переписывать свою жизнь...
Не знаю, что остановило меня — то ли ложное стеснение и робость (отголосок моих комплексов), то ли малодушие не позволило мне подойти, протянуть ему руку, и сказать: "Здравствуйте, Викентий Павлович… Как поживаешь, Вика?"
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!