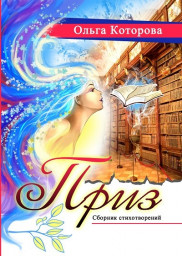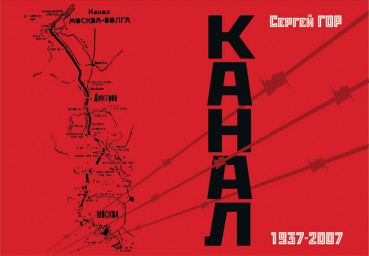Возвращение в Колокольцево.
1.
Рябухин никогда не оставался на корпоративные торжества, которые устраивали его клиенты и их партнёры по поводу состоявшихся сделок. Давно установил для себя такое правило: закончились переговоры, дело сделано – он раскланивается и уезжает. И не потому, что был нелюдимым снобом или ханжой. Просто знал за собой грешок – выпив лишнего, становился сентиментальным, разговорчивым, даже навязчивым, что было несовместимо с его репутацией. Попав пару раз по молодости в неприятные ситуации, старался такие мероприятия избегать.
Вот и сейчас, завершив переговоры и попрощавшись со всеми, он поспешил к выходу из гостиницы, но в холле был остановлен местными журналистами. Покупка градообразующего завода крупной столичной компанией не могла пройти незамеченной. Рябухин коротко, но убедительно ответил на несколько вопросов о перспективах развития производства и новых рабочих местах для жителей областного центра, хотя и знал, что врёт. Столичные дельцы заводик быстро обанкротят, работников уволят, а на месте цехов построят торгово-развлекательный центр и пару домов бизнес – класса. Ведь он сам занимался расчётами прибыльности сделки, с которой получит свой процент. Улыбнувшись широкой отрепетированной улыбкой самой симпатичной и длинноногой журналистке, Рябухин вложил в её руку визитку и вышел из здания. Он знал, что девушка с любопытством рассматривает глянцевый прямоугольник. Под логотипом крупной консалтинговой фирмы было написано: «Рябухин Валерий Павлович, ведущий эксперт – аналитик».
На улице было жарко и душно, как перед дождём, хотя небо оставалось безоблачным. Рябухин снял светло–серый пиджак, на тонкой подкладке которого мелькнула эмблема модного дизайнера, ослабил узел шёлкового галстука, устало расправил плечи. Переговоры выдались не из лёгких, пришлось попотеть. Но через пару– тройку часов он будет дома, где сможет принять душ, выпить бокал вина и хорошенько отдохнуть – впереди его ждали два выходных дня в упоительном одиночестве. Дочь с друзьями путешествовала где-то по Лигурии, практикуясь в разговорном итальянском, жена «чистила пёрышки» в санатории, по стоимости услуг сравнимым с дорогим отелем. Но два дня свободы и покоя, без постоянного щебетания дражайшей половины о новых нарядах, выставках и прочих «важных» вещах, того стоили. Он выспится, разберёт свою коллекцию старых джазовых пластинок, побегает в парке – при этой мысли Рябухин незаметно провёл ладонью по ещё довольно плоскому животу. Высокий, поджарый, с тёмными волосами, ещё не тронутыми сединой, он нравился женщинам и следил за собой. Валерий Павлович бросил портфель на заднее сидение автомобиля, аккуратно повесил пиджак на специальную вешалку и сел за руль. В том, что касалось машин, он был консерватором – имея возможность купить последнюю модель Мерседеса или БМВ, отдавал предпочтение надёжности и скандинавскому лоску Вольво. Элегантный чёрный седан S-90 с кожаным салоном как нельзя лучше соответствовал имиджу специалиста высокого класса. Хотя в обычной жизни Рябухин выбрал бы спортивную модель, но, как говорится, noblesseoblige.
Попетляв по старым мощёным улочкам, он, наконец, выбрался на трассу, ведущую к столице, включил любимое «Радио-джаз» и прибавил скорость. Дорога, несмотря на пятницу, была свободной – «кислородники» (так жена называла дачников) ехали в обратном направлении, ему навстречу. Рябухин расслабился в предвкушении приятного вечера, слушая аранжировки Грега Адамса, как вдруг пришлось резко вдарить по тормозам – дорога впереди была перекрыта строительной техникой, а прямо перед ним красовалась табличка «Объезд», указывающая поворот на второстепенную дорогу. Рядом чумазый рабочий с сигаретой во рту лениво помахивал флажком.
– И когда успели, басурманы, – сквозь зубы выругался Валерий Павлович, прикидывая, что придётся сделать крюк километров в семьдесят, а то и все сто. Но вариантов не было, и он осторожно свернул на объездную, которая петляла среди полей и деревенек. Краем глаза Рябухин ловил мелькавшие на указателях названия – Рябинки, Егоровка, Заболотье, Колокольцево…
Он притормозил и, включив поворотник, съехал на обочину, открыл окно, впуская в охлаждённое нутро автомобиля летний зной и настоянный на нём запах луговых трав. Вокруг стоял звон – стрекотали кузнечики, жужжали пчёлы, щебетали птицы… Колокольцево. Он и забыл, что оно в этих краях. Сколько же лет он там не был? Не меньше двадцати, точно, когда хоронили деда. Раньше мать раз в год навещала могилы родителей и их старый дом, но сам он всегда был занят, отговаривался делами и просто давал ей машину с водителем для этих поездок. Мамы не стало три года назад, ещё раньше ушёл отец. Ох, он и на кладбище, где они похоронены, тоже давно не был. Дела, разъезды, суета… Поддавшись какому-то необъяснимому чувству, Рябухин решительно развернулся, доехал до указателя и свернул на грунтовую дорогу, которая вела к Колокольцево.
Справа и слева расстилались поля, на которых, видимо, что-то ещё выращивали – то тут, то там виднелись скирды соломы. Вдалеке на косогоре темнел лесок, а под ним серебрилась речушка. Из-под колёс то и дело выпархивали какие-то небольшие птички с длинными хвостиками. Ласточки и стрижи вспарывали горячий воздух, проносясь низко над землёй – к дождю. С востока набегали облака – большие, кучерявые.
– Ничего, успею, – сам себе сказал Рябухин, будто убеждая в чём-то. – Зайду на кладбище, деду поклонюсь, гляну, как там дом, развалился, наверное. И обратно. Успею до темноты.
Дорога в очередной раз повернула, и в лучах пробивающегося сквозь облака солнца за деревьями на пригорке вспыхнули купола церкви. Валерий Павлович остановил машину и вышел, завороженный этой картиной – такой простой, неяркой, но от которой где-то слева в груди защемило. Тишину нарушил звук колоколов, который растекался по округе, – значит, в храме ещё служат, можно зайти, свечки поставить. Но спешить и садиться в машину не хотелось. Рябухин присел на кочку у обочины, не замечая, как покрываются пылью светлые брюки, сорвал какой-то цветочек, закусил стебелёк…
Под стихающий колокольный звон его накрыло волной воспоминаний…

Каждый год летом Валерку отправляли в деревню, к деду по материнской линии. Конечно, бабушка тоже имелась, и внук её очень любил, но поездка на каникулы была в первую очередь поездкой к деду. Иван Степаныч был крепким, коренастым и ещё весьма сильным мужчиной, на котором держалось всё домашнее хозяйство: куры, пара козочек, овцы, корова Зорька с телятами и небольшая пасека. Лошадь для поездок на покосы брали в колхозной конюшне – в те годы Колокольцево и несколько окрестных деревень входили в большой и процветающий колхоз, была в селе и своя молотилка, и конюшня, и ферма с коровниками, школа, ремонтная мастерская, фельдшерский пункт, библиотека, клуб и магазин. Жили колхозники не сказать, чтобы очень богато, но и не бедствовали. Хорошим подспорьем были огороды и картофельники, богатая рыбой река и славящиеся ягодными и грибными местами леса.
Валерка хвостом ходил за дедом: тот учил его мастерить удочки и плести верши из ивовых прутьев, ранним утром брал с собой на сенокос, показывал в лесных чащах съедобные и несъедобные грибы. Надев смешные шляпы с сеткой, они ходили на пасеку «окуривать» пчёл. Первый мёд, янтарный, тягучий, прямо с восковыми сотами, всегда доставался внуку...
Валерий Павлович даже облизнулся – так явственно представил себе эту картину – и понял, что давно проголодался. Подумав о пропущенном банкете, решил, что сейчас не отказался бы от каши, томлёной в чугунке в русской печке, ароматной, с запечённой молочной корочкой, или от картошки, горячей, в золе, пачкающей пальцы и губы. Вспомнил, как собирались с пацанами и девчонками, жгли костры на берегу реки, пекли картошины и травили байки. Как же их звали, этих друзей далёкого, беззаботного детства? Колька, Серёга, Любка… Точно! И ещё Тоня, тоненькая, смешливая, зеленоглазая, с рыжими косицами и звонким, мелодичным голоском. Она всегда напевала что-то, оттого все вокруг говорили – будет наша Антонина певицей…
Подувший внезапно ветер вырвал Рябухина из плена воспоминаний, а сгустившиеся и потемневшие облака предвещали скорый дождь. Где-то вдалеке раздались первые раскаты грома.
– Надо хоть до дома добраться, укрыться от грозы, – подумал Валерий Павлович и сел за руль.
2.
Село Колокольцево протянулось одной большой улицей вдоль реки, названия которой Рябухин не помнил. Через неё, по деревянному мосту, дорога вела на пригорок, к церкви. Там же было и сельское кладбище. Всё вокруг изменилось, постарело, пришло в запустение. С одного конца улицы белели стены полуразрушенной конюшни, за которой темнели покосившиеся амбары старой молотилки. В годы активного движения граждан подальше от больших городов на другом конце деревни появилось несколько летних домиков – дач. Сейчас они выглядели пустующими. Неказистая автобусная остановка напротив магазина, дверь которого закрыта на большой амбарный замок, вся изрисована граффити. Многие дома покосились, вросли в землю, заросли крапивой и лебедой палисадники, в которых раньше качали головками мальвы и космеи, сверкали стрелы дельфиниумов и вились розы.
Жилыми казались лишь несколько домов – перед ними всё было почищено, ухожено, над парой крыш вился лёгкий дымок, значит, топились печи.

Рябухин без труда нашёл дедовский дом – он был крайним на улице, рядом с конюшней. Краска выгорела и облупилась, дикий виноград увил окна так плотно, что их и не видать, забор покосился и вот-вот завалится совсем. Большая старая берёза, что росла перед домом, оказалась расколота надвое и местами обуглена – не иначе, как молния попала. Сразу вспомнилось, как дед вешал на берёзу качели…
На всякий случай он припарковал машину подальше от дерева, без труда открыл калитку и подошёл к дому. Откуда-то из глубин памяти всплыла картинка – на притолоке над дверью, в жестянке, хранится запасной ключ. Потянулся, пошарил рукой среди паутины – железная банка была на месте. Заржавевший ключ с трудом повернулся в замке именно в тот момент, когда на землю упали первые тяжёлые капли летнего дождя…
В доме было темно, но сухо, пахло пылью, старым деревом и чем-то давно забытым. Где-то в углу шуршала мышь. Рябухин достал из кармана телефон, включил фонарик и осмотрелся. В коридоре, на большом сундуке, лежали рамки для ульев – это они сохранили запах мёда и воска, показавшийся знакомым. Он попробовал щёлкнуть выключателем на стене, но безрезультатно. Рябухин толкнул дверь в кухню – проём оказался низким, пришлось пригнуть голову. Здесь свет тоже не зажёгся, и он решил поискать в шкафах лампочки или, на худой конец, свечи. Бабушка была запасливая, может, что-то и сохранилось. Дождь за окном разгулялся не на шутку, и за его шумом Валерий Павлович не услышал ни стука входной двери, ни шагов за спиной.
– Кто здесь? – раздался громкий женский голос, и от неожиданности Рябухин выронил телефон. Луч света заметался по стенам и потолку и выхватил из темноты чью-то фигуру.
– Я Рябухин, Валерий Павлович, – почему-то официально представился он, переводя дух. – Это дом моего деда, Ивана Степановича.
– Валера, ты что ли? – женщина засмеялась, и что-то в этом смехе послышалось далёкое и родное. – А я смотрю – машина ненашенская, калитка нараспашку. Кто же это, думаю, наведался.
Рябухин поднял с пола телефон и осветил незваную гостью. Среднего роста, пышнотелая, полногрудая, с круглыми коленями, выглядывающими из-под цветастого то ли платья, то ли сарафана, на который был накинут дождевик; копна вьющихся волос повязана косынкой, ноги босые, мокрые. Кто такая, понять не мог.
– Не узнаёшь старых подруг? – женщина усмехнулась, поправила полной рукой косынку. – Да, годы нас не балуют. Тоня я, Антонина, библиотекарши дочка. Вспомнил? А я тебя сразу узнала, ты совсем не изменился – как был красавцем, так и остался.
Рябухину показалось, что в её радостном и беззаботном голосе прозвучала нотка грусти.
– Что ты, Тоня, конечно, я тебя узнал – твой смех, твои волосы. Прости, но в темноте я хуже вижу. Вот, хочу свет включить.
– Бесполезно, Валера, света нет в вашем доме. Видел берёзу-то? Вот гроза была два года назад – светопреставление какое-то. Так у вас пробки все и перегорели. А заменить –то некому и ни к чему. А ты как сюда, по делам или случайно?
– Я был здесь недалеко, в областном центре, решил навестить могилы стариков, да и на дом посмотреть. А тут эта гроза, дождь… Наверное, надо уезжать.
– Да куда же ты поедешь в такую непогоду? Слышь, как гремит? И льёт, как из ведра. Не ровен час, застрянешь ты на нашей дороге – а её, поди, уже развезло. Придётся пережидать.
Тоня так и стояла посреди кухни, легко раскачиваясь, переступая с пятки на носок, и Рябухин вспомнил, что эта привычка была у неё с детских лет.
– Ты права, наверное, стоит остаться на ночь – я не люблю ездить в темноте. Может быть, у тебя найдутся свечи и ещё что-нибудь из еды, хлеб, колбаса? Если честно, я ужасно голодный.
– Ты и вправду собираешься сидеть тут всю ночь со свечкой и жевать всухомятку бутерброды? – Антонина снова рассмеялась. – Ну уж нет, дружочек, мы в Колокольцево так гостей не привечаем, особенно таких дорогих…
Она слегка запнулась и продолжила:
– …таких дорогих, как друзья детства. Бери свои вещички, я в коридоре заметила старый плащ деда Ивана, надевай, чтобы не промокнуть. Да и обувь сними, начерпаешь воды, пока добежим. Дом-то мой помнишь? Четвёртый отсюда.
Рябухин не стал сопротивляться – вспомнил, как Тонька в былые годы лихо командовала ребятнёй, послушно снял тонкие кожаные ботинки, носки, подвернул брюки, спрятал под плащ портфель. Они заперли дом и дружно, бок о бок, почти как в детстве, побежали по лужам и мокрой траве к Тониному дому. На улице как-то быстро потемнело, всполохи молний разрезали небо, затянутое тучами, вода текла и сверху, и снизу, пузырилась, но была довольно тёплой. Рябухину вдруг захотелось сбросить прорезиненный дедов плащ, подставить лицо под струи дождя и ловить его капли открытым ртом. Он даже приостановился на секунду, но, поймав удивлённый взгляд Антонины, поспешил за ней…
Конечно, он узнал этот дом – небольшой, аккуратный, с резными наличниками на окнах, заполненным цветами палисадником. Когда, сбросив мокрые плащи, они вошли в комнату, служившую и кухней, и столовой, Рябухин сперва подумал, что время здесь остановилось: тот же старый буфет в углу, большой дубовый стол с выскобленной добела столешницей и длинная деревянная лавка со спинкой вдоль стены, пёстрая занавеска, отделяющая закуток, в котором стоит печка. На отделанной изразцами лежанке мурлычет большая серая кошка, щуря глаза на незнакомца. Оглядевшись, Валерий Павлович заметил, что, конечно, кое – что изменилось: современный телевизор на тумбочке, оригинальный светильник, электрический чайник…
– Ты что застыл на пороге, Валера? Проходи, не робей. Не хоромы у меня, конечно, но места хватит, – Антонина уже успела вытереть мокрые ноги, надеть тапочки, принесла ему чистое полотенце, налила в тазик тёплой воды. – Ты давай пока, грязь смой и обсушись, а я тебе что– нибудь найду переодеться попроще. Брюки твои надо повесить, смотри, все измочились.
Она сновала туда–сюда и, несмотря на пышные формы, делала это легко, словно порхая. Рябухин невольно залюбовался её движениями, такими ладными, плавными, её рыжими волосами, которые теперь, когда она сняла косынку, пышно рассыпались по плечам. Ему захотелось, чтобы она остановилась, замерла, и он бы мог спокойно рассмотреть её всю – от упругих икр до ложбинки в вырезе сарафана, до завитка за розовым ухом. Он всё ещё не мог осознать, что Тонька из его детства, невзрачная веснушчатая худышка, превратилась в полную жизненных соков женщину, словно сошедшую с полотен Кустодиева. И пока не понимал, какая же из Тонек ему нравится больше.
Поймав пристальный, изучающий взгляд Рябухина, Антонина вдруг смутилась, зарделась, бросила на лавку спортивные брюки и футболку и выбежала из комнаты со словами:
– Ты пока переодевайся, а я в погреб…
Вещи были чистые, почти новые, пахли мылом и свежестью и оказались впору. Валерий Павлович переоделся, аккуратно повесил на стул брюки и рубашку. Дощатый пол ещё хранил дневное тепло, и ходить по нему босиком было приятно. На столе стояла крынка, покрытая салфеткой. Он нашёл в буфете стакан и с удовольствием выпил молока, настоящего, густого, не порошковую дрянь из пакета. Неожиданное приключение начинало ему нравиться.
«Переночую, а завтра схожу на кладбище и вернусь в город», – подумал Рябухин. Он достал телефон, отметил, что связь, пусть и слабая, в этой глуши есть, и отправил жене смс-ку: «Задерживаюсь на переговорах в N, буду дома завтра». Объяснять, как и почему он оказался в Колокольцево, было бы лишним. Смс-ка была формальностью – жена никогда не интересовалась его поездками, не следила за его передвижениями и не имела привычки беспокоить его звонками во время командировок. Чего в её поведении было больше, доверия или безразличия, Рябухин не знал, да и особо не задумывался над этим. Их семейная жизнь была спокойной, устоявшейся, без скандалов и выяснения отношений, юношеская влюблённость давно переросла в привычку и взаимное уважение. Его вполне устраивало, что жена не лезет в его дела, не копается в бумагах и телефоне и принимает все его объяснения как должное. Он, со своей стороны, потакал её капризам, предоставляя полную свободу, которой она, к слову, пользовалась с умом. Ни его репутация, ни семейный бюджет никогда не страдали от чьих-то страстей или вредных привычек.
Стоя сейчас босиком, в чужой одежде, в доме малознакомой ему женщины Рябухин вдруг осознал, что жизнь его размеренна, устроена, благополучна, но до безумия скучна и однообразна, и что такой ей предстоит быть дальше. Поэтому на один вечер можно вернуться назад, в детство, стать беззаботным Валеркой…
Скрипнула дверь – вернулась Антонина, прижимая к груди банки с соленьями и большую бутылку.
– Так, что-то я закопалась, а ты, поди, с голодухи умираешь. Давай-ка, Валера, открывай банки, а я быстро управлюсь, – Тоня опять запорхала по комнате, что-то напевая, ловко накрывая на стол, и через несколько минут ужин был готов.
На столе теснились миски с хрустящими малосольными огурчиками, квашеной капустой с крапинками клюквы, тугими маслянистыми грибочками, присыпанными лучком, тарелки с зеленью, крупно нарезанной колбасой и желтоватым сыром, ломтями ароматного хлеба. Из печки Тоня достала чугунок с дымящейся картошкой, от запаха которой у Рябухина потекли слюнки.
– А это моя домашняя, на хрене и смородиновом листе, у вас в городе такого не пьют, – из запотевшей бутыли в рюмки потекла прозрачная жидкость. – Ну, Валера, за встречу!
– За встречу, Тоня! И спасибо тебе за то, что приютила, за гостеприимство! – Рябухин сделал глоток и почувствовал, как самогон теплом растекается внутри. Тоня решительно опрокинула рюмку, аппетитно захрустела огурчиком. Вдруг спохватилась, стала наполнять его тарелку, призывая угощаться «чем бог послал». Какое-то время Валерий Павлович сосредоточился на ужине, наслаждаясь вкусом и запахами этой настоящей, не парниковой, еды и нахваливая хозяйку. Та сидела напротив, подперев рукой щеку, и молча наблюдала, как он ест. Утолив голод, Рябухин откинулся на спинку стула, умиротворённо вздохнув.
– Ну, Тоня, ты не просто спасла меня от голодной смерти! Давно я так вкусно и с аппетитом не ел! В последнее время всё на бегу, казённое, из ресторанов, с доставкой на дом. А там еда какая-то ненастоящая, что ли. Кажется иногда, что всё одинаковое, с привкусом пластмассы.
– Отвыкли вы, городские, от натуральных продуктов, а у меня всё своё, домашнее, полезное, – Тоня крутила в руке рюмку, и её пальцы, полные, но длинные, с коротко стриженными ногтями, безо всяких колец, казались нежными и полупрозрачными.
Подумав о кольцах, Рябухин сразу же вспомнил, что не спросил, с кем живёт его гостеприимная хозяйка. Обручального кольца нет, присутствия мужчины в доме не ощущалось, вот только вещи, которые она ему дала, чьи они?
– Давай, Тонечка, выпьем ещё твоей необыкновенной хреновухи – за тебя, подругу дней моих суровых, – провозгласил он шутливый тост, наполняя рюмки, – за твой дом.
Выпив, спросил, уже не стесняясь:
– Расскажи, как живёшь, Тоня. Неужели совсем одна? Или твои в отъезде?
– Да что рассказывать, Валера, – женщина поднялась и принялась убирать со стола. – Живу как все, обыкновенно, не жалуюсь. Сейчас вот одна. Мужа схоронила года четыре как. Сын отслужил в армии, теперь в областном центре на заводе работает, там и живёт, меня на выходных навещает, помогает. Сегодня вот не приехал – друг его женится, а он – шафер, свадьбу гуляют. Зовёт меня в город перебраться, да я не хочу, мне здесь и привычно, и хозяйство своё – подспорье. Курочки у меня, несушки, завтра с утра свеженьких яичек тебе на завтрак наберу. Кроликов завела. Две коровы у нас на всю деревню осталось – у меня да у Семёновны, что на том конце, за старым медпунктом живёт. Сами пасутся, около домов, а летом к Семёновне внуки приезжают, на луг их выгоняют. Зато молоко своё, сметана, сыр – летом приезжие покупают, зимой сын в город забирает, заводские берут с удовольствием.
Дождь перестал. Антонина распахнула окно, наполнив комнату свежим воздухом, который пах какими-то вечерними цветами, и продолжила свой рассказ:
– Раньше я на ферме работала, потом учётчицей в правлении, а как колхоз развалился, все стали разъезжаться. Хотели у нас заводик какой-то кирпичный построить, приезжали из города, даже фундамент залили – и всё забросили. Сейчас живёт нас тут шесть домов, да при храме подворье небольшое – монашки там, человек десять, у них тоже и огород, и живность всякая. В этом году они коров купили, пастуха наняли из соседней Зыряновки, он теперь и наших коровок пасти будет. Батюшка говорит, может, и ферму опять организуем. Они свою продукцию по монастырям развозят, иногда и нашу берут, тоже копейка идёт какая – никакая. Летом то, конечно, больше народа приезжает, кто погостить, кто в свой старый дом как на дачу. Говорят, сейчас моден этот, агро –туризм, это когда туристы живут в избах, учатся доить коров, ремёслам всяким. Может, и у нас что-то такое придумают. Другие–то деревни в округе совсем вымерли, заброшенные стоят…
Рябухин слушал, как течёт её простая, неспешная речь, смотрел, как плавно двигаются руки, собирая со стола тарелки, и его охватило такое умиротворение, такая нежность – к этой борющейся за жизнь деревне, к этому старому, но уютному дому, к этой женщине, милой и тёплой, как её дом. Он почувствовал, как защипало глаза, и подумал: «Эх, не стоило мне пить, знал же, что развезёт».
Хозяйка же, заметив, что гостя клонит в сон, быстро закончила уборку и повела его на второй этаж.
– Иди–ка, Валера, спать, а то глаза уже, смотрю, слипаются. Утомила я тебя своей болтовнёй. Я тебе в комнате сына постелила, отдыхай.
В небольшой чистой комнате белела кровать, упав на которую, Рябухин тут же уснул. Спал он крепко, как младенец, ему снились дед, печёная картошка и худенькая рыжая девчонка, которая весело смеялась…
И, конечно, он не слышал, как за стеной сдавленно рыдала Антонина.
3.
Из сна его выдернуло залихватское петушиное пение. Рябухин открыл глаза и не сразу понял, где он, а сообразив, невольно улыбнулся. Сквозь занавески из пёстрого ситчика в окно светило солнце – от вчерашнего дождя не осталось и следа. Он сладко потянулся, всей кожей ощущая приятную прохладу обычной хлопковой ткани. Жена в последние годы увлеклась шёлковым постельным бельём, которое Рябухину казалось скользким и каким-то неживым. Можно ещё поваляться в кровати, но не хотелось терять время, и он встал, оделся во вчерашние брюки, бросил на плечо футболку. Заметил на спинке кровати полотенце, подхватил его. Выходя, окинул взглядом небольшую, аккуратную комнату Тониного сына, скользнул по групповому армейскому снимку на стене. И поспешил вниз.
Антонины видно не было. В кухне на столе стояли какие-то тарелки и крынка, всё было накрыто чистой льняной салфеткой.
Рябухин вышел на крыльцо, огляделся. Утро было ясным, свежим, но солнышко уже пригревало.

Через дорогу от дома, метрах в двухстах, призывно поблёскивала речушка, берега которой заросли камышом и осокой. Выше, на пригорке, перед церковью, паслись коровы. Размахивая полотенцем и насвистывая, он спустился к речке, нашёл потемневшие от времени деревянные мостки, оставил на них полотенце и штаны и бросился в прохладную, зеленоватую воду. Сделав несколько гребков, лёг на спину и раскинул руки, наблюдая за легкими облачками, бегущими по синему полю неба. Любопытная стрекоза зависла над ним, стрекоча прозрачными крылышками. Где-то вдалеке куковала кукушка. Рябухин начал считать, сбился, перевернулся, короткими гребками добрался до мостков. Обтерся полотенцем, натянул штаны и пошёл к дому. Кухня по-прежнему была пуста. На полке у умывальника Рябухин заметил одноразовый станок, зубную щётку в упаковке, тюбики с пастой и кремом для бритья, предусмотрительно оставленные хозяйкой. Умылся, побрился и решил всё-таки отыскать Антонину – завтракать в одиночестве не хотелось. Вышел на задний двор, огляделся. На верёвке, натянутой между двумя столбами, сушились его брюки и рубашка. В траве копошились куры, горластый петух важно прохаживался между ними, распушив разноцветный хвост.
Тоню он заметил на огороде – подоткнув полы сарафана, она стояла к нему спиной, склонившись над грядкой, и что-то то ли полола, то ли собирала. В её позе, обнажённых белых ногах, полных гладких бёдрах, блестевших, как внутренность жемчужной раковины, было столько естественного, какого-то животного призыва женской плоти, что Рябухин почувствовал, как внутри него рождается желание – и испугался этого. Он кашлянул, женщина распрямилась, повернулась к нему – мягко качнулись груди под тонкой тканью, рыжие локоны выбились из-под косынки, и она попыталась сдуть их со щеки, измазанной землёй.
– А я везде тебя ищу, Тоня! – нарочито бодро прокричал Валерий Павлович. – Я уже на речке был, искупался. А ты с утра трудишься.
– Как спалось, Валера, на новом месте? Невесты снились? – на ходу вытирая руки, Антонина с улыбкой подошла к Рябухину, а ему захотелось протянуть ладонь и стереть грязь с её розовой щеки, поправить выбившуюся прядь медных волос. Но в этих движениях было столько личного, интимного, что он сдержался.
– Спал, как младенец, давно со мной такого не было. Стрессы, бессонница – стандартный набор, Тоня. А тут, как в колыбели.
– Ну, вот и славно. Пойдём завтракать, а потом я тебя на кладбище отведу, сам-то, поди, и не найдёшь могилки.
– Спасибо тебе, Тоня. Если я не очень тебе докучаю, от дел не отрываю…
– Что ты, Валера. Всех дел всё равно не переделаешь. Я уже корову подоила, на выгул отправила, кролей покормила, свеклу и морковь прополола. Я ж яичек свеженьких, как обещала, собрала – и сейчас поешь, и собой возьмёшь.
Они позавтракали, болтая о том, о сём. После тех минут на огороде Рябухин избегал смотреть на Антонину, ему казалось, что все мысли написаны у него на лице. Поэтому он нахваливал её стряпню, уткнувшись в тарелку.
Собрались на кладбище. Тоня переоделась в платье, длинная юбка которого почти полностью скрывала ноги, повязала платок, нарезала цветов.
– Я одежду твою постирала, скоро высохнет, можно будет отутюжить и надеть. А сейчас возьми вот рубашку чистую, носки и кроссовки, не босиком же тебе идти. А то туфли твои все запылятся по дороге.
Так и пошли.
Сельское кладбище пряталось среди старых лип и елей возле церкви. Тоня уверенно шла между надгробий и оградок, остановившись у одной, перекрестилась, поклонилась.
– Вот, Иван Степаныч и Лизавета Егоровна, внучок ваш приехал, – проговорила она и стала расставлять цветы в банки.
Рябухин отметил, что могилы деда и бабушки ухожены, засажены цветами, металлический заборчик и лавочка свежепокрашены. Тоня поняла его безмолвный вопрос: – Так я, Валера, присматриваю. Меня мама твоя, Ирина Ивановна, когда была в последний раз, попросила. Видно, чувствовала, что не доведётся больше приехать. Я и до этого приходила, на все праздники большие, убиралась. И ей отписывала, что да как.
– Ты что, переписывалась с моей мамой? – Рябухин был удивлён. – Она никогда об этом не говорила.
– Да что рассказывать? Деревенские новости? Тебе не до этого, а Ирина Ивановна всем интересовалась, кто жив, кто помер…
Тоня вздохнула.
– Ты тут, Валера, посиди, со стариками своими, а я пойду ещё одну могилку проведаю. – Только тут Рябухин обратил внимание, что часть цветов она держала в руке. – А потом мы с тобой в храм сходим, свечки поставим за упокой. Я тебя с батюшкой нашим, отцом Никодимом, познакомлю.
Валерий Павлович посидел на лавочке, взглядываясь в родные лица на фотографиях, поправил цветы, заботливо расставленные Тоней, и пошёл искать свою провожатую.
Антонина стояла перед надгробием, склонив голову. Рябухин прочитал: «Сенцов Николай Петрович» и две даты через тире. Лицо мужчины на овальном медальоне показалось ему смутно знакомым.
– Николай. Бог мой, да это Колька? Тоня, это наш Колька? – Рябухин вспомнил Кольку –атамана, заводилу и забияку, предводителя всех их детских шалостей и игр. Крепкий, белобрысый, всегда загорелый, с облупившимся носом, Коля был бесстрашным, немного бесшабашным, но добрым и верным другом.
– Да, это наш Колюшка – дорогое моё горюшко, – Антонина провела рукой по фотографии. – Отбегался, родимый.
Голос её был ровным, спокойным, глаза сухими, но что–то в её словах заставило Рябухина подойти и обнять женщину за плечи, выражая сочувствие и поддержку. Тоня не отстранилась. Молча постояли, так же молча двинулись к церкви.
– Ты мне расскажешь о Коле? – Валерий Павлович вдруг понял, что немного ревнует Антонину к её давно умершему мужу.
– Расскажу, чего ж не рассказать, коли просишь. Вот помянем его за обедом, и расскажу.
Рябухин подумал было, что собирался в полдень уезжать, но решил, что обед и рассказ о старом друге стоят пары часов задержки.
В прохладном полумраке храма тихими тенями скользили две монашки, украшая иконы ветками и цветами. Отец Никодим, приятный мужчина средних лет, с мягкой шелковистой бородой, радостно приветствовал Антонину, перекрестил их и благословил.
– Непременно приходите завтра на утреннюю литургию, – обратился он к Рябухину. – Великий праздник у нас, День Святых апостолов Петра и Павла. Послушаете, как у нас Антонина в хоре поёт.
Валерий Павлович вежливо кивнул, удивившись словам батюшки об Антонине. Он словно увидел её в строгом, тёмном платье, на клиросе, представил, как будет звучать её голос под сводами храма. Подумал, что было бы забавно это увидеть. Они поставили свечи, вышли на улицу.
Летний день входил в свои права. Солнце уже припекало, от земли, обильно политой вчерашним дождём, поднималось марево. Манила к себе река, обещая остудить и тело, и разум. Спускаясь с пригорка в село, вдыхая густой, медвяный аромат трав и цветов, Рябухин ощутил такой покой и блаженство, что мысль о возвращении в город – эти раскалённые бетонные джунгли с плавящимся под колёсами асфальтом – показалась абсурдной и невыносимой.
– А что, Тоня, если я попрошусь к тебе на постой ещё на денёк? – вопрос, как ему показалось, прозвучал непринуждённо, по–дружески.
Антонина остановилась, повернула к нему раскрасневшееся от жары лицо:
– Ты вроде спешил домой. Разве тебя не ждут?
– Нет, до понедельника я совершенно свободен. Могу я устроить себе маленькие каникулы? Погуляю по окрестностям, попробую пробки в доме починить, заборчик поправлю. Вообще, надо дедов дом в порядок привести, приезжать иногда, на рыбалку сходить…
Рябухин говорил, размахивая руками, перечислял неожиданно возникшие идеи, казавшиеся сейчас такими важными, насущными, не замечая, как бледность сменяет румянец на лице Тони, как блестят её глаза и подрагивают пальцы. Но голос её был спокойным и ровным:
– Конечно, оставайся, Валера. Гости, сколько хочешь. Я буду рада.
4.
До обеда, оставив Антонину хозяйничать, Рябухин провозился в старом доме. Распахнул все окна, впустив свежий воздух, в амбаре нашёл инструмент и поправил покосившийся забор и калитку. Несмотря на офисную должность, навыки, полученные ещё в детстве, не забылись, и дело спорилось. Щиток с пробками весь прогорел и требовал полной замены. Зато нашлась коса, и Валерий Павлович, вспоминая уроки деда Ивана, выкосил лужайку перед крыльцом. Притомившись, присел на завалинку, вытянул ноги, удовлетворённо оглядел свою работу. Дом как будто помолодел, ожил. По тропинке спешила Антонина, помахала рукой, позвала к обеду.
Нагулявший аппетит Рябухин не отказался ни от наваристого борща, ярко-красного, с оранжевыми крапинками жира, ни от гречневой каши с тушёной крольчатиной, ни от рюмки вчерашней хреновухи.
– Честно скажу тебе, Тоня, что давно я так вкусно не ел. Никакие рестораны с твоей стряпней не сравнятся, – нахваливал он хозяйку. Потом поднял рюмку, помолчал, вздохнул:
– Давай помянем Николая.
– Царствие небесное, – отозвалась Тоня и перекрестилась.
– Расскажи мне о Коле, ты обещала.
– После школы отслужил Николай в армии, а когда вернулся, где-то полгода спустя, как деда твоего, Иван Степаныча, схоронили, посватался ко мне. Вскоре и поженились. Потом сынишка родился. Коля сначала в колхозе работал, на тракторе, потом техникум закончил заочно и в райцентре устроился механиком. Неплохо зарабатывал, руки–то у него были золотые. Он и грузовую машину мог починить, и иномарку. Клиенты со всего района приезжали. А времена–то какие были – часто вместо денег бутылкой расплачивались. Выпивать стал, мог и в драку ввязаться – норовом был крут, не сдержан. Иногда и я под горячую руку попадала…Нет, ты его не осуждай, я давно простила и забыла. Колюшка–то, он по–своему добрый был и хозяин хороший, и меня любил, и сынишку. Машину купил, подержанную, но сам её до ума довёл. Скорость любил, прокатиться с ветерком – ну и докатался. Дождь шёл, скользко, стемнело уже, а он выпивши, вот с управлением и не справился, вылетел на встречную, а там – КАМАЗ гружённый. Как–то так, Валера…
Антонина замолчала, краешком наброшенного на плечи платка вытерла набежавшую слезу.
Рябухин тоже молчал. История была такая типичная, неказистая – сколько таких Колек по России топили тоску по несбывшимся мечтам юности в палёной водке и дешёвом вине. Но это был не какой-то абстрактный деревенский выпивоха, а товарищ по детским играм, свой, родной. Оттого рассказ вызывал одновременно и грусть, и невольное чувство вины за свою – сложившуюся и удачную – жизнь, и горечь безысходности, потому что помочь таким Колькам никто не мог.
– А что мы с тобой, Валера, всё о грустном? – Антонина тряхнула своими роскошными волосами, её зелёные глаза блеснули – то ли от слёз, то ли от хреновухи. – Ты мне ещё ничего о себе не рассказал, как живёшь, чем занимаешься?
После печальной истории о Николае Рябухину было как-то совестно говорить о себе – настолько велика была пропасть между его миром и миром, с которым он столкнулся здесь, в Колокольцево. Хвастаться не хотелось, не тот случай.
– Да что и сказать, Тонечка, живу, как все: дом, работа. После института пошёл в аспирантуру, сейчас тружусь в одной фирме, просиживаю в офисе штаны, – он попытался пошутить, – иногда мотаюсь в командировки. Ничего выдающегося.
– А семья? – Тоня принялась убирать со стола, стояла к нему спиной и выражения её лица в этот момент он не видел.
– И семья у меня самая обычная, жена и дочка – студентка, первый курс закончила. Сейчас с подружками отдыхает на каникулах, а жена в санатории.
– Что, неужто болеет?
– Нет, что ты, просто приводит себя в порядок, ну, ты понимаешь, всякие женские штучки…
– Да, конечно, понимаю, – кивнула Антонина, в чей арсенал «женских штучек» входили чистая колодезная вода, свежий воздух да баня. Она и волосы–то ещё ни разу не красила, щадила её седина. Правда, недавно сын стал привозить ей из города красивые баночки и тюбики с кремами, которые она аккуратно расставляла на комоде в спальне.
Словно услышав её мысли, Рябухин вдруг вскочил с вопросом:
– Тоня, а баня ваша цела? Я, когда сюда ехал, всё вспоминал, как меня дед веником берёзовым охаживал!
– Конечно, цела, что ж с ней станется.
– А можем мы её затопить, а? Я сам всё сделаю, и воды натаскаю, и дров. Так хочется в настоящей русской баньке попариться!
– Да чего ж не затопить–то, затопим. Сегодня ж суббота – банный день. У меня и веники припасены, и берёзовые, и дубовые, и даже полынные. Дрова там, у бани, под навесом лежат, сын в прошлый раз наколол. Пойдём, я тебе баню отопру, возьмёшь вёдра да с реки воды принесёшь.
Банька, почерневшая от времени, но крепкая, стояла над рекой, щурясь небольшими закопчёнными оконцами. Под навесом были аккуратно уложены дрова. Пока Антонина растапливала стоявшую в углу печь — каменку, Рябухин натаскал воды, разлил по двум большим деревянным бочкам, стоявшим в парной, и в котёл на печке. Из трубы потянулся дымок. День потихоньку клонился к вечеру. С пригорка спускались коровы, подгоняемые пацанёнком, видимо, внуком Семёновны. Пока Тоня встречала Бурёнку, доила её и занималась прочими домашними делами, Валерий Павлович следил за печкой, подбрасывал дрова и опять ощущал покой и умиротворение – как в детстве. Любовался прочно сколоченными деревянными полкАми вдоль стены, заботливо связанными вениками, развешанными под потолком в предбаннике пучками полевых трав. Чистотел, зверобой, мята – вспомнил он названия, которым учила его бабушка. Жужжала, билась о стекло случайно залетевшая муха. Время, казалось, замедлило свой бег, повседневная деловая суета забылась…
Пришла Антонина, неся стопку полотенец.
– Ох, какой жар-то у тебя, хорошо протопил! – она налила воды из бочки в большой деревянный ушат, замочила в нём пару веников. – Знаешь, если веничек подержать в холодной воде, а потом прогреть в парной, у печки, то листочки не потеряют своих полезных свойств, будут упругими. Это меня ещё отец учил.
– Хорошая баня – большая наука, – поддакнул Рябухин и, заметив, что женщина собралась выйти, остановил её.
– Ты куда, Тоня? А кто ж меня этими веничками будет охаживать, а?
– А не боишься, что отхожу как следует? – усмехнулась Антонина. – Чай, не привык ты в городе к такому.
– Волков, вернее, волчиц бояться…– отшутился Валерий Павлович.
– Ну, тогда скидывай портки, да ложись на полкИ, – Тоня подхватила его шутливый тон.
Рябухин быстро разделся в предбаннике, повязал вокруг бёдер полотенце и устроился в парной. Антонина возилась за дверью, потом вошла, нет, вплыла, гордо неся своё крупное белое тело, едва прикрытое какой-то тряпицей. Волосы она подобрала, закрутила высоко на затылке, обнажив длинную нежную шею. Не глядя на Рябухина, стала возиться у котла с водой, наполняя большую лохань, потом колдовала над вениками, выплеснула на камни какой-то травяной настой, аромат которого тут же растёкся по парилке. А он не мог отвести глаз: покачивались в клубах пара её налитые, тяжёлые груди, обнажалось крутое бедро, плавно скользила рука.
– Ну, готов? – войдя в роль банщицы, Тоня потрясла вениками, от которых шёл приятный, терпкий запах.
Рябухин растянулся на полкЕ, пытаясь стыдливо прикрыть ягодицы. Но Антонина решительно сдёрнула полотенце, окатила его тёплой водой из ковша и начала священнодействовать. Сперва она опахивала его вениками, нагоняя в сторону полков горячий воздух, потом поднимала к потолку и встряхивала ими, давая наполниться жаром, а после резко прижимала то к ступням, то к пояснице Валерия Павловича. Тот пытался краем глаза следить за её движениями, но потом прикрыл глаза, расслабился и отдался колдовскому процессу. А Тоня то медленно поглаживала вениками вдоль тела, от макушки до пяток, то начинала похлёстывать ими, то крепко прижимала к коже, как горячий компресс. При этом она что-то негромко напевала:
– Мне кукушка голосила
своё вечное «ку-ку».
А я баньку затопила
и поддам ещё парку…
Наконец, протянув пару раз листочками, опять окатила его тёплой водой.
– Вертайся на спину, – скомандовала Антонина, и Рябухин, уже не стесняясь, подчинился.
В парной царил полумрак – закатное солнце едва пробивалось через маленькое окошко, и в нём тела расплывались, теряли свои очертания. В этом банном ритуале их нагота казалась естественной, какой-то первородной и рождала чувство родственной близости, которой чужда похоть.
Веники вновь взлетали и опадали на размякшего, разгорячённого Рябухина, откуда-то издалека звучал мелодичный женский голос:
–У кого какая баня –
У меня с белой трубой.
У кого какой залетка,
А мой самый дорогой…
Последний раз с оттяжечкой прошёлся по телу веник, и Антонина устало отбросила его в сторону и собралась зачерпнуть холодной воды из бочки.
– А давай в речку, Тоня, как в детстве, – предложил Рябухин и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь бани.
Взявшись за руки, они побежали по траве к мосткам и с разбегу прыгнули в тёмную прохладную воду, в которой уже отражались первые звёзды. От горячей кожи шёл пар, а может это туман растекался над рекою. Как две большие светлые рыбы, они барахтались в воде, соприкасаясь то руками, то ногами, и смеялись, сами не зная чему.
Остыв, вернулись в баню, и теперь уже Рябухин орудовал вениками, лаская ими мягкое женское тело, которое угадывалось в темноте.
К реке не пошли – уже совсем стемнело, окатились из бочек, сначала холодной, потом тёплой водой. Завернувшись в простыни, уселись на крылечке. Оказалось, Тоня предусмотрительно захватила термос и пару чашек. Молча пили травяной чай – казалось, любое неосторожное слово разрушит то состояние родства и единения, которое возникло между ними. Откуда-то из-за реки серебряной флейтой запела иволга. Рябухин нежно провёл рукой по спутанным влажным волосам, рассыпавшимся по Тониным плечам, притянул её к себе и поцеловал. Она вздрогнула, но не отстранилась, прижалась к нему и ответила на поцелуй. Потом просто и тихо сказала:
– Пойдём в дом, Валера, зябко уже…
5.
Рябухин проснулся с ощущением какого-то безграничного счастья, которым была наполнена, казалось, каждая его клеточка. Рука и плечо ещё ощущали тяжесть женского тела, но кровать рядом была пуста. Он хотел уже обидеться, но вспомнил, сколько дел с раннего утра у сельских жителей.
Рябухин потянулся, зарылся лицом в подушку, от которой пахло Тоней. Пахло не дорогими духами и химическими отдушками, а естественной плотью и свежестью.
Быстро одевшись, сбежал вниз. Антонина хлопотала на кухне, по которой витал аромат свежей выпечки и парного молока. Валерий Павлович подошёл сзади, обнял её и чмокнул в мочку уха, выглядывающую из-под медных завитков.
– Ой, щекотно, – засмеялась Тоня. Потом развернулась, встала на цыпочки и как-то по-домашнему, легко и просто, поцеловала его в губы.
– Садись, завтракать будем, а потом в храм пойдём, на праздник.
Рябухин был готов идти хоть на край света, лишь бы потом вернуться в кровать, хранящую их тепло.
Он с аппетитом поел, умылся и побрился. Тоня стояла рядом, держа чистое полотенце, как будто это было привычно – ухаживать именно за ним, этим городским мужчиной.
Стали собираться в церковь. Рябухин надел брюки и рубашку, чистые, отглаженные. Сразу почувствовал себя каким-то нездешним, чужим. Чтобы стряхнуть это ощущение, ослабил ворот, закатал рукава. Стало легче.
Антонина, в светлом платье, мягко струящемся по её фигуре, повязывала у зеркала легкий кисейный шарф и поглядывала в отражение на Рябухина. Показалось, что в её глазах какой-то вопрос.
– Тоня, всё хорошо? – Он нежно прикоснулся к её плечу. – Ты так странно на меня смотришь.
– Да вот всё хочу спросить тебя, Валера. Ты почему после похорон Иван Степаныча больше не приезжал?
– Сам не знаю, Тонечка. Я ведь деда очень любил, наверное, больше родителей, страшно переживал его смерть. Даже свалился после похорон с температурой, недели две проболел, врачи сказали – на нервной почве. А потом как–то закрутилось, учёба, работа, семья, дела… Мать звала всё время с собой, а я не мог, не хотел без деда сюда ехать, боялся, что опять заболею от горя.
Антонина, не поворачиваясь, печально смотрела на него через зеркало.
– А ты помнишь тот день, когда дедушку твоего хоронили?
– Не знаю, смутно как-то. Я же тогда впервые выпил самогона, на поминках. Мне даже плохо стало, пришлось уйти из-за стола. Да и что вспоминать, столько лет прошло.
В церкви зазвонили колокола, созывая прихожан. Тоня поправила шарф, спокойно сказала:
– Да и то, правда, что старое вспоминать. Пойдём, Валера, не опоздать бы…

Под праздничный перезвон к церкви стекались люди. Народа было много, видимо, приехали со всей округи. Пахло воском и ладаном. Отец Никодим по-отечески приветствовал входящих, перебрасываясь словом-другим со знакомыми. Антонина шепнула Рябухину:
– Ты, Валера, найди себе место, а я пойду туда, – она махнула рукой в сторону клироса, где уже собрались монашки, певшие в хоре.
Скоро все стихли, началась служба. Отец Никодим читал громким, густым баритоном. Рябухин был хоть и крещёным, но молитв не знал и сейчас просто стоял, думая о своём.
Запел хор. Тонин голос, самый мелодичный, сильный, взлетал под купол храма и парил под его сводами. Лицо её было каким-то отрешённым, одухотворённым, полные, чётко очерченные губы, которые он ещё несколько часов назад иступлённо целовал, выводили слова песнопений легко и привычно. Что-то было во взгляде её зелёных, с поволокой, глаз, что ему не удавалось прочесть, какая-то невысказанная боль. Рябухину казалось, что она поёт только для него, что вокруг нет никого…
И в какое-то мгновение что-то произошло. Он будто очнулся, стряхнул с себя морок, почувствовал неловкость от того, что стоит здесь, среди этих людей, внимающих батюшке, что застрял в этой глуши, повёл себя, как капризный ребёнок, что вселил какую-то надежду в сердце простой и открытой женщины, которой не сможет дать ничего, кроме этой случайной ночи. Он вспомнил, что сын Антонины работает на том самом заводе, который два дня назад продали московским бизнесменам, а, значит, скоро всем грозит увольнение. Как после этого смотреть в глаза его матери? Да и вообще, что сказать ей на прощание? Поблагодарить? Отделаться шуткой? Пообещать вернуться и опять пропасть на двадцать лет?
При этой мысли сердце Рябухина вдруг замерло, а потом ухнуло вниз, как на американских горках. На лбу выступила испарина. Он тихо, стараясь никого не задеть и шёпотом извиняясь, стал пробираться к выходу, а, оказавшись, на улице, бегом бросился вниз, к деревне.
В своей комнате собрал портфель, достал из шкафа пиджак. Телефон лежал в спальне у Антонины, на комоде. На глаза попались семейные фотографии в простых рамках. Вот молодые Колька и Тоня держат на руках щекастого крепыша в смешной панамке. Вот этот же малыш, но уже первоклассник, с букетом астр и портфелем. А вот…Рябухин взял фото, подошёл с ним к окну, к свету. На него смотрел молодой темноволосый и темноглазый мужчина, высокий, с солдатской выправкой. На него смотрел он сам, только на двадцать лет моложе. На обороте надпись: Сенцов Валерий Николаевич. Тёзка, значит… Не мог у рыжеволосой Антонины и белобрысого Николая родиться кареглазый брюнет. Руки отчего-то сразу вспотели. Значит, он прав и ему не привиделось то, что он вспомнил там, в церкви.
Потрясённый своим открытием, Рябухин спустился вниз, плотно закрыл дверь Тониного дома и пошёл к машине. Над деревней вновь поплыл колокольный звон, возвещая окончание службы. Когда Антонина выбежала на крыльцо церкви, она лишь заметила, как по дороге на большой скорости уносится прочь красивая чёрная иномарка…
Он остановился среди полей, у какой-то заброшенной деревеньки. Съехал на обочину, выключил двигатель, откинулся на сидении и прикрыл глаза. Прогнать эти воспоминания нельзя, их теперь он будет переживать раз за разом, пока не решит, что с этим делать.
В тот пасмурный осенний день, когда хоронили деда, Валерка Рябухин, подражая деревенским мужикам и стараясь казаться взрослым, рюмку за рюмкой вливал в себя самогон, не чувствия вкуса и почти не закусывая. Первая смерть близкого человека, которого он не то, что любил – боготворил, потрясла юношу. Ему хотелось плакать, кричать, бить кулаками в стену от бессилия и боли, но вместо этого он сидел со всеми, пил и слушал, как чинные поминальные речи сменяются шумом, гвалтом, пьяным смехом. Когда попытался встать из-за стола, почувствовал, что пол качается под ногами. Всё было, как в тумане. Шатаясь, вышел из дома и чуть не упал в большую лужу. Моросило, и он стоял, размазывая по лицу слёзы, смешавшиеся с дождевыми каплями. Она возникла из темноты, стройная, но крепкая, как молодая берёзка, его подружка детства, Тонька-певица. На похоронах они успели обменяться несколькими фразами. А сейчас просто стояла рядом, готовая в любую минуту подхватить и не дать ему упасть.
Чувствуя её молчаливую поддержку, он тихо завыл, уже не стесняясь слёз.
– Ты поплачь, Валера, поплачь, сразу легче станет, – приговаривала Тоня, гладя его по волосам.
– Я не хочу туда, не могу, – шептал он сквозь рыдания. – Уведи меня отсюда.
Поддерживая норовящего то и дело упасть Валерку, Тоня отвела его на сеновал. Расстелила телогрейку, снятую с крюка, уложила юношу, присела рядом, слушая его сбивчивые рассказы о дедушке.
– Ты одна меня понимаешь, Тоня, – он притянул девушку к себе. – Ты такая…такая красивая, такая хорошая, добрая. Я люблю тебя, Тоня.
– И я люблю тебя, Валера, давно, лет с десяти, наверное. Для меня каждый твой приезд был, как праздник, – услышал он тихое признание. Повалил её на душистую, колкую траву, приник губами к нежному рту…
Утром он проснулся один, голова гудела, во рту пересохло. Произошедшее ночью показалось сном. Его уже хватились, мама причитала и торопила с отъездом – отцу надо было срочно вернуться в город, на работу. А дома он слёг с высокой температурой, бредил, впадал в беспамятство. Выздоровев, решил, что рыжеволосая девушка на сеновале ему просто привиделась. Так будет проще. И решил больше не приезжать в Колокольцево….
В машине было жарко и душно. Рябухин включил кондиционер, нашёл любимую радиостанцию. Тренькнул телефон, это пришла смс-ка от жены, напоминающей, что завтра её надо встретить из санатория. Он возвращался в Москву, возвращался к своей привычной, выстроенной и выверенной жизни. И ещё не знал, что теперь, закрыв глаза, он всякий раз будет видеть медный завиток над розовым ухом, слышать звонкий смех и чувствовать неповторимый запах её тела. Как с этим жить, он тоже пока не знал…
******
Почитать обсуждение рассказа на мастер-классе Анны Даниловой можно здесь: http://pisateli-za-dobro.com/recenzii/83-master-klass-anny-danilovoi-razbor-rasskaza.html
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.