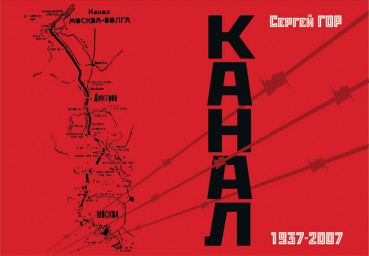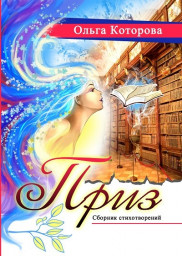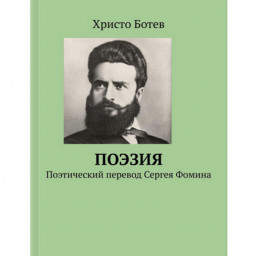Три коронационных платья или приключение мерлиновских шалей
Коронационное платье Александры Фёдоровны
Холодный шёлк, капрон и кружева
смотрелись раньше просто бесподобно!
Теперь всё это напускная мишура
и я ношу лишь то, в чём мне удобно.
Года меня одели в кашемир,
чтобы хранить тепло, любовь и нежность.
Оденут в бархат, полюблю весь мир
и с покаянием приму холщовые одежды...
Сегодня я одета в кашемир.
Хельга Мон
***

Ещё исстари было известно, что самые дорогие ткани — самые тонкие, лёгкие и… приятные на ощупь.
Технологическая справка. Толщина волокна ткани.
Викунья — 10–12 микрон.
Кашемир — 14–15 микрон.
Мериносовая шерсть — 16—20 микрон.
Обычная шерсть — 25—40 микрон.
***
Основное свойство кашемира — его ни с чем не сравнимая мягкость. По ней, в прошлые века определяли подлинность привозимого товара. Иногда, правда, возникала проблема, — с чем такую ткань сравнить. Ведь кашемир стоил баснословно дорого!

Эту заморскую диковинку делали из вычесанного козьего пуха — подшёрстка, который вырастает между остальными волосами. Богатые и привередливые покупатели знали, за что они отдают «сумасшедшие» деньги, ибо чем тоньше было волокно, тем больше в нём микроскопических воздушных полостей. Именно они и удерживают тепло!
***

Кашемировая шаль 19 век
Где-то там, в далёкой Индии бродят по горам местные породы коз. Их не стригут как овец, а вручную тончайшими гребешками вычёсывают пух. Затем, долго и тщательно отчищают его, отделяя от волокон грубой шерсти. После чего сортируют по длине и толщине. Лишь с марта по май, кашмирские козы линяют, и тогда на их коже появляется смесь грубой шерсти и тонкого подшёрстка.

Кашемировая шаль. Индия
Не раньше не позже эти животные линять не желают, поэтому изготовителям ткани только и остаётся, что ждать в течение года, чтобы потом приступить к изготовлению уникальной продукции по заранее оплаченным заказам.
Историю появления в Российской империи своего «Мягкого золото» или «Алмазного волокна» я и хочу вам сегодня поведать, но сначала — загадка о платьях трёх цариц… одинакового фасона!
— Дядь Саш, ты помнишь наш разговор о немецких игральных картах, фирмы «Дондорф» и прототипах, изображённых на них (1) — на одном дыхании «выстреливает» моя племянница Екатерина, быстро-быстро листая сайты в своём планшете.
— Ну, — бормочу я, продолжая стучать по клавиатуре.
— Не «ну», а давай дальше.
— Дам, королей и валетов, мы с тобой почти всех обсудили, мелкие карты: шестёрки — десятки, лиц не имеют, а тузы, всех мастей — это — изображения щитов, в окружении древнерусского оружия и доспехов. Рубашка этих карт выполнена в виде стилизации под ковровый узор. О дополнительной карте с изображением пеликана с птенцами и девизом: «Себя не жалея питает», означающей, что доходы от продажи этой колоды, пойдут на содержание детских приютов, тоже обсуждали, — всё так же, не отрываясь от экрана, говорю я, надеюсь, что на этом любопытство моей любимой родственницы иссякнет или хотя бы будет перенаправлено во Всемирную паутину.
— Да с картами, более или менее всё понятно, хотя если поковыряться, то загадок там ещё полным-полно. Но я не об этом.
— А о чём? — вздыхаю я, нажимаю на клавиатуре «Enter» и поворачиваюсь к девушке. Но вижу не её «хитрющее» личико, а такой же, только уменьшенный жидкокристаллический экран, демонстрирующий коронационное платье Александры Фёдоровны. — Сначала надо снять с августейшей особы все размеры, затем изготовить выкройки. И не дай бог ошибиться. Враз под топор палача угодишь! И такое, почти случилось. Именно с платьем Александры Фёдоровны.
Его кроили в Сант-Петербурге, а вышивку делали Московские мастерицы. Вот оно и путешествовало с курьерской государевой службой туда-обратно. И так уж вышло, что где-то горячим утюгом, маленько того. В общем, чтобы не лишиться головы или, как минимум, не угодить в острог на долгие годы, пришлось сильно покумекать, как скрыть испорченные детали.
— Дядь Саш, не уклоняйся от главного! Почему фасон одинаков? Смотри сюда. Вот даты коронаций: Первая в 1856 году. Вторая – в 1883 году. И наконец третья – в 1896! Неужели ты думаешь, что все эти годы женская мода на Руси-матушке не менялась? Тем более, в высших кругах, приближенных к самому императору?!
— Эх, Екатерина! Не читаешь ты мои рассказы. А жаль. В одном из них я писал, о чём-то подобном.(2)… Как поётся в одной песне, не всё могут короли, а тем более царицы. Не было у идущих к алтарю невест выбора! И виной тому указ императора Николай Первого. Однажды в далёком одна тысяча восемьсот тридцать четвёртом году, он взял, да и ввёл обязательную парадную униформу для всего императорского двора. Не исключая и парадное женское платье. Отныне оно именовалось «офранцуженный сарафан».
А раз царь-батюшка повелел в этом «форменным» наряде появляться на всех торжественных мероприятиях, включая и свадебные, то прошло двадцать два года, и на коронации его сына Александра Второго было предложено предстать перед собравшимися в «русском историческом наряде». Том самом, времён незабвенного царя Алексея Михайловича, позже «увековеченном» на картах фирмы «Дондорф».
Однако новый император от этой идеи решительно отказался. Предпочёл старинному кафтану военный мундир, его супруга Мария Александровна – пришла с «стандартном» придворном платье, то есть в том самым «сарафане». Ну а раз так поступает царская семья, то это уже церемониал, порядок и традиции. Надеюсь, теперь понятно поэтому три коронационных платья, так похожи?
— Не-а, — племянница увеличила изображение, пытаясь рассмотреть детали. Наконец, отложила планшет в сторону и недовольно буркнула, — Могли бы и кашемировую шаль надеть, ведь в деньгах же, разве что не купались. И красиво, и тепло, и престижно.
— Полагаю, что могли. Что им стоило потратить на это тончайшее индийское изделие каких-то там двадцать тысяч рублей. Если вся корова, целиком стоила в девятнадцатом веке, всего-то тридцать рубчиков. Вот и выходило что одну такую накидку можно было легко сменять на целую деревеньку, со всеми крепостными, в придачу.
— Ой, неужели настолько дорого? — удивлённо округлила глаза Катюша. А сейчас на маркетплейсах можно, правда, тоже не дёшево, но всё же, — девушка, вдруг осеклась, захлопала ресницами и прошептала, — извини, пожалуйста, не буду больше тебя перебивать. Только можно, я диктофон включу, девчонкам в группе дам послушать, если ты, конечно, не против?
Я кивнул и продолжил:
— Известный тебе Наполеон Бонапарт, захватив Египет, отправил своей дражайшей супруге Жозефине небольшой подарок — импортную кашемировую шаль. Местные купцы прямиком из местечка Кашмир доставили. Ну а та возьми, да и дай своей сестре эту вещицу маленько поносить. Через некоторое время попросила родственницу мужнин подарок вернуть, а та ни в какую. Мол, не наносилась ещё. Потом, как-нибудь, наверное, верну. Так вот, обиженная на это Жозефина, написала странствующему супругу письмо, в котором, слёзно просила, прислать сюда войска, да и силой астрономически дорогую вещицу законной хозяйке вернуть!
Ну а наш, русский, граф Шереметьев записал в своём дневнике: «Вынужден отказать супруге в покупке этакой вещицы, ибо стоила она — три моих годовых дохода!». Считалось крайне неприличным даже самому состоятельному жениху подарить шаль своей невесте.
— А отец мог дочери или жене подарить? — нарушила свой «обет молчания» племянница.
— Дочери, если средства позволяли, мог. Но только в качестве приданного. Супруге, наверное, тоже мог, если она уж сильно и очень убедительно его об этом просила. Один такой щедрый папенька, в нашей империи отыскался. Однажды взял, да и подарил доченьки кашемировую шаль, в качестве приданного. Её сегодня можно увидеть в одном из музеев Петергофа.
Звали этого отца Николай Первый, самодержец богатейшего государства, а доченьку величали Ольга Николаевна и выходила замуж за Карла Первого, короля Вюртембергского.
А теперь давай оставим в покое коронованных персон и перенесёмся в наш провинциальный город Пенза. Именно там, после одной романтично-детективной истории и начали производить русский кашемир.

Пенза. Дом Колокольцова
До настоящего времени в этом областном центре сохранился дом Аполлона Григорьевича Колокольцова. Наследника богатого и древнего дворянского рода. Был он женат и счастливо жил в этом доме, вместе с любимой супругой Еленой, воспитывая аж пятерых наследников. И всё в этой семье было хорошо, до того момента, когда в городе не был расквартирован драгунский полк!
И стоял этот полк в городе совсем недолго. Однако на балах в доме хлебосольного Аполлона Григорьевича, совсем не старый, и очень импозантный полковник побывать успел! И мало того, сумел очаровать и умыкнуть, ловелас этакий, хозяйку, — хорошо хоть малолетних ребятишек с собой не забрал. И стала некогда добропорядочная женщина вести жизнь кочевую, походную, палаточную. Ибо в Москве была у полковника венчанная супруга, с коей встречаться ну никак было нельзя.
Колокольцев не находил себе места. Продал в казну, буквально за гроши, свой великолепный дом, удалился в своё малюсенькое имение. По размерам примерно такое, как у помещика Дубровского, в его одноимённом произведении Пушкина. Кстати, должен тебе сказать пару слов о поэте. Кроме законной полковничьей супруги, той, что в Москве, была у бравого командира драгунов ещё и дочь. Так вот, эта барышня была подругой… Натальи Пушкиной!
Прошли годы и старшей дочери Аполлона Григорьевича замуж собираться. Но, кто же возьмёт такую в жёны, коль её маман в бега от супруга подалась. Да и приданного за ней, скажем так, совсем маловато. В общем, засиделась в девках Наденька, аж, страшно подумать, до двадцати трёх лет. Муж ей достался, почти что старик… тридцатилетний коллежский ассессор, по фамилии Мерлин. Большой любитель заложить за воротник и почти всегда безработный.
Прожили они пару лет, после которых супруг взял, да и в одночасье представился. Оставил бедной вдове, деток малых, да долгов многих. Имение заложено, перезаложено, и всё, что есть у вдовы, — это маленькая кашемировая шаль, от беглой матушки, чудом, оставшаяся.
Купцы заезжие, прознав об этом, предлагали ей шаль ту продать и на вырученные деньги все долги разом-то и погасить! Да ещё и на пансионы для деток, деньги останутся. Но Надежда, вопреки здравому смыслу поступила иначе. Пригласила к себе в дом, несколько крепостных девок и велела им шаль дорогую разобрать по волоску и установить, каким образом она сшита. После этот приём получил называние «обратная технология».
Раздербанили по волоску чудо индийское. Узнали, что да как, но в Пензенской губернии, да и во всей России не водятся гималайской или тибетской козы! А привозить оттуда их пух и дорого, да и вряд ли кто из тамошних, сие сырьё продаст.
Однако выход нашли. И весьма оригинальный. В степях Западной Сибири тогда ещё водились вигони и сайгаки! Их пух был не хуже козьего. Всего из пятнадцати граммов можно было изготовить нить длиной… почти что в пять (!) километров. И была эта нить, в пять раз тоньше волоса!

Вигони
Однако возникла другая проблема. Гребни! Чем такие тонкие нити вычёсывать? Самые тонкие железные гребни опускала в раскалённое льняное масло, но всё равно нужной толщины достигать не удавалось. И тогда кто-то из заезжих купцов предложил Надежде гребни из… бивня мамонта. И дело пошло, только они могли расчесать тончайшую нить.
Крепостным девушкам, занятым на этом производстве, категорически запрещалось заниматься домашними и полевыми работами. Они были обязаны беречь пальцы. Их труд этот был чрезвычайно кропотливым, можно сказать, ювелирным. Работали мастерицы ровно десять лет. После чего каждая из них получала вольную и солидные деньги на приданное. Ибо за эти годы они полностью… теряли зрение!

В двадцатых годах позапрошлого века колокольцовские шали стали необходимой принадлежностью туалета, в высшем обществе. Отныне жёны, князей, графов и баронов могли позволить себе сшить из этой ткани не только шали, но и верхнее платье, и даже халаты.
Изделия фабрики Н. А. Мерлиной стоили в среднем, около двух тысяч рублей и были отмечены золотой медалью. Шаль, выработанная в Саратовской губернии на фабрике статского советника Д. А. Колокольцова, была приобретена для царского двора за пять тысяч пятьсот рублей. Ну а сегодня колокольцовские, мерлиновские изделия хранятся в фондах Государственного исторического музея, Эрмитаже, Русском музее.

А то, что ты увидела в интернете это уже новое поколение шалепроизводителей, так сказать — массовое, машинное производство, соответственно качество уже совсем не то, как, впрочем, и сырьё.

— А что же стало, с Еленой Колокольцевой, ну той, которая удрала с полковником? — неожиданно поинтересовалась племянница.
— Скажу честно. Ей повезло. Полковник взял, да и «позабыл» её, сильно постаревшую, где-то на берегу Азовского моря. Взрослые и разбогатевшие дети оплатили её поиски, увенчавшиеся успехом. Привезли домой и… помирили… с уже седым и немощным Аполлоном Григорьевичем.
По всей видимости, эти старики писали мемуары и, наверное, печатали их за счёт своих богатых детей и внуков. Но я их, увы, не читал. Поищи. Может быть, во Всемирной паутине отыщутся.
1— см. рассказ А. Ралот «Дама Пик и другие прототипы»
2— См. Рассказ А.Ралот «Всех моих подданных надобно обрядить в мундиры или «война в кружевах».
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.