Души прекрасные потёмки
Души прекрасные потёмки
роман
* * *
…Как всё-таки богат наш язык! «Прикован к постели», — да, действительно прикован. И любые кандалы по сравнению с этим – просто детские штучки.
Я, Борис Петрович Силин, восьмидесяти двух лет, — старое беспомощное бревно. Или, как говорит моя Надя, — «Кактус». Почему кактус? Потому что мне «тоже нет жизни без горшка». И это – грустная правда.
Нет, я не инвалид, а просто старый и больной мужчина, что не помешало Наденьке вчера выйти за меня замуж. Но, пожалуй, «выйти замуж» — это громко сказано. Просто приехала дежурная «Мендельсоня», которую мы пригласили на дом (жених, понимаете ли, не в состоянии доползти до ЗАГСа, а жениться приспичило!), быстренько заполнила всё, что надо, и – «Желаю счастья и долгих лет жизни вашей семье!» Хотела по привычке сказать «молодой семье», но запнулась; и вышло: «Вашей м-м-мо… семье». Но ничего, всё равно довольно миленько поздравила.
Напрасно я переживал. Надя – той хоть бы что: «А пусть думают, что хотят». А мне почему-то было неловко. Всё-таки странный у нас брак, любой скажет.
— Они всякое видали! – отрезала Надя.
И действительно, никаких эмоций у представительницы власти я не заметил. Мелькнула искринка в глазах, когда Надя протянула ей на прощание деньги, — и тут же погасла. Ну и до свидания! Зато теперь Надежда может быть уверена, что жильё Кактуса (то есть моё) перейдёт к ней без всяких «но». Жена есть жена, что ни говори.
Она ухаживает за мной уже третий месяц. И не просто так, конечно, а «с правом наследования». Как иначе мог я кого-нибудь заманить сюда: кормить убирать, стирать…
«Наследовать» за мной некому – вот и решился. Не заберу же я свою однокомнатную на тот свет?..
Разные люди приходили, когда я дал объявление (точнее, соседка дала. Сам-то я что могу?). Первые две женщины мне не понравились; третьей – не подошёл я. Потом пришла молодая пара, жена – с «пузиком». Этим отказал сразу, без разговоров. Им долго ждать некогда, пока я сам жилплощадь освобожу; возьмут и «помогут», как пить дать!
Не думал я, что на мою развалюху столько людишек послетается. Соседке на пятый день всё это до смерти надоело. Хоть я и заплатил ей, но надо ж и меру знать! Принять, поговорить, показать… И она наконец сказала:
— Вот что, Борис Петрович! Ещё завтра подежурю – и всё. Если не выберете, ищите другого «представителя». Некогда мне!
А кого я буду просить, кому нужен? Вот так и вышло, что остановил я свой выбор на Надежде. Зато теперь думаю, что это даже и лучше.
Надя – женщина ловкая, сноровистая. Характер, правда, — ох и крут! А язык – ну точно как бритва. Сам-то я, если и соберусь пройтись хотя бы до окошка – иногда так хочется на белый свет, на людей глянуть; пусть даже и с девятого этажа, – так полчаса ползу. Так что без помощницы никак мне по-человечески устроиться не удастся. Уж что-что, а желудок у меня работает исправно, и аппетит – дай Бог молодому.
А Надя достала где-то больничную «утку», облегчила мне процесс. С горшком ведь намного проблемнее; бывает, и встать не успеешь…
Помню первое впечатление от Нади: назвал про себя «языкатой чертовкой». Высокая, жилистая, сухопарая; не говорит – а приговор выносит. И смотрит как на рентгене. Но деловая и чёткая, без болтовни. А главное – некуда ей деваться. Этого она не сказала, но я сам почуял. Позже узнал, что прав.
Надя соглашалась остаться не только с «правом наследования», но и с правом постоянного проживания, что меня очень и очень устраивало: стал бояться ночей. А вдруг именно ночью соберусь умирать?..
Вещей у неё было совсем чуть-чуть, один только чемодан. Спать пристроилась на раскладушке, в углу. Хотела бы в кухне, но я попросил здесь: мало ли что, а ну как не дозовусь?..
Она сказала, что это разумно. Разве я мужик теперь? Так и выдала, ведьма прямая. Могла бы и промолчать. Но Надежда в принципе не понимает, что такое чувство такта.
— Это лишнее, Борис Петрович, — удивилась она, когда я сказал про свою обиду. – Что думаю, то и говорю. Запомните! Зато и тайных мыслей не имею.
Что ж, и это верно. Вся на виду, какая есть. Не то, что моя первая жена, царство ей небесное. Та, бывало, губочки надует – и молчит часами. Догадайся, мол, сам. Терпеть я этого не мог! Три года всего только и прожил с ней, больше не захотел.
С тех пор по-настоящему ни разу не женился, хоть женщин имел множество. А зачем?..
Был, правда, один фальшивый брак, но это ж разве женитьба? На Надьке только и пришлось. Просто она практичная тётка, вот и всё. Разузнала чуть ли не на второй день, как и что, и начала хлопотать. Потом оказалось, что много времени зря потеряла, и не такой я уж и одинокий, как рассказываю.
Кричала на меня. Ну да, есть у меня сын от первого брака. И что?!!! Я от него официально отказался ещё тогда, при разводе. Документально! Бывшая супруга сама попросила; потом отчим (её второй муженёк) пацанёнка моего усыновил. Мне это подходило: ну на кой мне эти алименты?! Пусть приёмный папа и кормит.
Откуда Надежда разузнала про эту историю? Я ведь сыночка своего так больше ни разу и не видел. Зачем? Отрезано – так отрезано, и нечего слякоть разводить. Но Надя волновалась:
— Не понимаешь ты ничего! Сейчас народец ушлый, палец в рот не клади!!
И поставила условие: женись – и точка. Или сегодня же попрощаемся. А я ведь привык к ней! Вот и пришлось…
* * *
Всю жизнь окружали меня женщины покорные, бесхребетные, начиная с матери. Такая, как Надька, — впервые мне встретилась. Если б не нужда…
Не должен мужик допускать, чтобы баба им командовала. И отец мой так считал, а его было за что уважать. Помню я его хорошо: мне уже тринадцать было, когда он пропал.
Перед войной он занимал большой пост, и жили мы отлично. Имели даже отдельную квартиру; мать не работала нигде, но по дому возилась целыми днями. Любил отец порядок: чтобы и сготовлено, и убрано, и выстирано всё было вовремя и «как надо».
Она и старалась, понимала своё счастье. А главное – не терпел отец никаких возражений, даже в мыслях. Матери бы и в голову не пришло ему перечить!
И всё-таки жалел я её. С одной стороны – покорная до тошноты; а с другой – умная она была. И очень, очень добрая. Другой такой, как она, я вообще никогда не видел.
А может, я зря думал, что она была безвольная?.. Ведь тогда, в эвакуации, если б не её железная выдержка, не выжили бы мы с ней. Отец вдруг почему-то перестал писать, и мы не знали, что и думать. Конечно, о самом худшем старались не говорить; ведь он на фронт не призывался, имел временную «бронь». А потом мама встретила на рынке (ходила менять обручалку на хлеб) старую знакомую из нашего города. Кажется, это она и рассказала матери, что отец сошёлся с молоденькой певичкой, дочерью какого-то генерала. Поэтому можно его и не ждать.
Мне мама ничего не сказала; только ночами плакала часто и много. Я удивлялся: слёзы для неё – редкость; но она отнекивалась и отмалчивалась. Я случайно подслушал, как она делилась с нашей хозяйкой, тёткой Далилой, — настоящей богатырихой внешне, но очень сентиментальной изнутри.
— Ничего, Марина! – басила она «шёпотом», аж стены гудели. – Ничего! Ты женщина красивая; не то, что я, — скала крымская. Твоё счастье впереди, дай-то Бог только, чтоб война кончилась. Вернёшься домой – и начнёшь новую жизнь, голубка!
Но когда война и в самом деле кончилась, «вернуться домой» у нас с мамой получилось плохо: наш дом разбомбили, и мы приехали к пустырю, который не совсем очистили от обломков…
…Нам дали крохотную комнатёнку в коммуналке, почти чулан, невозможно тесный для двоих. Но вскоре я остался в нём один, не прошло и года: маму убило током на работе. Чего она полезла к этому щиту?.. – так и осталось непонятно.
К тому моменту я уже был вполне взрослым восемнадцатилетним парнягой, заканчивающим среднюю школу. Планировал идти работать на завод; обещали неплохой заработок. Но сначала решил всё-таки поискать отца: а вдруг?..
Это, к моему большому удивлению, оказалось совсем не трудно (а мама твердила, что невозможно!..); я нашёл дом, в котором он теперь жил, — не хуже нашего прежнего! – но его самого не застал. Зато поговорил с его новой женой, хорошенькой и заносчивой стервочкой в дорогом халате.
— У нас – маленький ребёнок, вам понятно? – пояснила она злым голосом. – А вы, молодой человек, уже вполне зрелый. Я, конечно, передам мужу, что вы заходили, но не думаю… В его планы не входит встречаться с вашей мамой, поймите!
И тогда я объяснил, что мамы давно нет. А она рассердилась:
— Тем более не надо было приходить сюда! Что за бесцеремонность? Сами, сами решайте свои проблемы, не смейте попрошайничать у нас!!
Я чуть не ударил её. Хотя, признаюсь, доля правды в её словах была. Я ведь и в самом деле рассчитывал на материальную поддержку, а не на отцовскую любовь.
Не знаю, сказала она ему о моём визите или нет, но мы с ним так никогда и не встретились… Я тогда, глядя на молодую избранницу отца, невольно подумал: «А ведь она совсем не похожа на такую бессловесную и безропотную, которая могла бы угодить моему папочке. Чем же она взяла его?..»
А потом, спустя годы, когда жизнь подучила меня как следует, я всё понял и ещё раз восхитился своим родителем.
Ведь война – это война. Первыми сгинули те, кто не умел (или не хотел) подумать в первую очередь о себе. А он – и умел, и хотел.
И в мясорубке этой не был, и жив-здоров остался, да ещё и благополучен. Мы с мамой, наверное, тогда потянули бы его на дно; а новый родственник – влиятельный тесть – оказался спасательным кругом. Прав, выходит, был мой отец. Прав!
…Подоспели выпускные экзамены, и первым было сочинение. Я всегда их писал неплохо, поэтому почти не волновался. Из предложенных тем выбрал Пушкина – это я знал лучше всего – и, довольный собой, наваял приличный текст. Всё в меру, всё как положено; удачно ввернул несколько цитат. Сдал одним из первых, не сомневаясь, что на твёрдую «четвёрку» могу рассчитывать.
Вечером в мой «чулан» кто-то тихонько постучался. Было уже довольно поздно, и я чертыхнулся: «Кого это там…» Но, открыв дверь, изумился: на пороге стояла Софья Михайловна, наша учительница литературы. Она быстро приложила палец к губам и прошмыгнула в комнату без приглашения.
— Силин, — зашептала она почти беззвучно, едва я прикрыл за ней дверь. – Беда, Боря.
— О чём вы, Софья Мих… — она моментально зажала мне рот своей потной горячей ладонью.
— Тихо!!! –зашипела яростно. – Сядь!!
Я покорился. Что произошло?..
— Силин, — волновалась она. – Ваша дверь в коридоре, к счастью, была открыта. Меня никто не видел, я надеюсь. Обратно тихо-тихо выведешь меня сам, ладно?.. У тебя нет случайно шляпки с вуалью?.. Мама не носила? Когда-то это было модно… Надо, чтоб меня не узнали, даже если увидят. Понимаешь? – надо!
Она была встревожена не на шутку, и её страх невольно передался и мне.
— Хорошо, — зашептал я в тон ей, еле-еле слышно. – Что случилось?
Она осторожно вынула из сумки какие-то листки, положила на стол.
— Смотри, Боря!
Это было моё сочинение. Ну и что?.. Она ткнула пальцем:
— Читай вот тут.
Я пробежал глазами: «Пока надеждою горим, … мой друг, отчизне посвятим…»
Ну, цитата. И что?
— Читай ещё раз!!! – приказала она.
Я вчитался и охнул: «… мой друг, отчизне посвятим души прекрасные потёмки». Мне стало жутко. Да за такие слова, покажи она их кому-нибудь!.. Я схватился за голову.
— Силин, успокойся! Слышишь, Боря?.. – шептала она мне прямо в ухо. – Никто не видел, никто. Я только. Проверять будем завтра с утра вместе с Анастасией Георгиевной.
…В ушах шумело. Как, как, как я это умудрился написать?! Это виноват Васька Духовный, будь он неладен!!! Твердит, как попугай, по триста раз на день: «Чужая душа – потёмки». На всё у него один ответ, про эти самые потёмки! Это он меня сегодня «дёргал» на экзамене:
— Дай списать!!
Я его, конечно, послал; а он изрёк язвительно: «Чужая душа – потёмки! Друг называется!» А какой я ему друг, идиоту безграмотному?! Не хватало ещё самому завалиться из-за этого недоумка! Он ведь и списывать как следует не умеет; скатает слово в слово, а мне – потом отвечать?!
Разозлился я не на шутку, вот, видно, и написалось: «прекрасные потёмки» вместо «души прекрасные порывы». А тут ещё – про отчизну… В одной связке!!
Я дико глянул на Софью Михайловну: меня могут посадить?.. Господи!..
— Боря, я уже придумала, — она деловито присела рядом. – Замарывать не будем, слишком грязно выйдет. Надо просто переписать этот лист. Сейчас! Я подожду.
Переписывать пришлось много, и мы на всякий случай плотно занавесили тряпками моё маленькое окошко. Мало ли… Пусть с улицы никто не увидит света в час ночи.
Я писал, а она – диктовала. По слову, по буковке. Заодно и указала мне на три ошибки, которые я допустил. Я окончательно успокоился, и уже с интересом взглядывал на неё.
Она мне всегда нравилась: молодая, интересно рассказывает. А она ещё и друг хороший… Ведь и сама рискует! Я бы, например, вряд ли смог. Но наконец мы справились, и она ушла. Шляпки с вуалью, к сожалению, у меня не нашлось, и пришлось обойтись большим маминым платком: Софья Михайловна укуталась в него по самые брови, и я тихонько проводил её до двери внизу. Потом сообразил:
— Софья Михайловна, ночь всё-таки. Давайте я вас до дому доведу.
— Нет-нет! – испуганно отказалась она. – Да и близко мне, сам знаешь…
Да, знаю. Она к нам забегала иногда (моя мама неплохо шила на дому), и один раз я помог ей донести большую сумку с тетрадками. Софья Михайловна, как и многие учителя, часто дорабатывала дома после уроков. Не всё ведь успеешь в школе!
Итак, она исчезла в темноте, а я ещё немного постоял, подышал. Всё думал: «Надо же, какая! Спасла меня…»
Через три дня вывесили список с оценками, и у меня оказалось «отлично». Я купил бутылку вина, полкило конфет и вечером отправился к Софье Михайловне. Признаюсь: имел грешную мысль. Раз спасла – значит, нравлюсь я ей. Иначе тогда зачем?.. А раз так – почему бы и нет?
Но она, к великому моему разочарованию, ничего не взяла, а наоборот, даже обиделась и расстроилась. К тому же – испугалась:
— Боря!!! Уходи, уходи и всё уноси. И никогда больше; ты понял?! Никогда!!
Она захлопнула дверь. Да кто их поймёт, этих баб?! Ведь тогда ночью – голова к голове, локоть к локтю. И шептались, как влюблённые…
Ну и шут с ней. Вернулся домой, а потом меня осенило: взял снова свои подарки и постучался в соседнюю комнату к Лидке, симпатичной молодой вдовушке с двумя детьми.
— Лидочка, разделите радость, а то мне не с кем!
— Заходи, соседушка, заходи! – вот здесь мне были всегда рады.
* * *
Лидочка давно заглядывалась на меня; я ж не слепой, всё замечал. То плечиком в коридоре заденет, то маме скажет (громко, чтоб я слышал):
— Ой, Марина Дмитриевна, а сыночек у вас! Берегитесь поклонниц; с руками оторвут.
Мне было приятно, что скрывать. Но всерьёз я Лидочку не воспринимал. Да и то: одиноких баб после войны – хоть пруд пруди; такую можно «штучку» отхватить!
Но когда мама умерла, почувствовал я сразу, как мне нужна женщина. И не для постели, нет; хотя и об этом потихоньку начал мечтать, что скрывать? А для другого: только женщина может создать то, что мы называем уютом. И Лидочка – тут как тут:
— Боря, может, тебе чего-нибудь постирать надо? Или погладить, зашить? Ты не стесняйся, я ведь понимаю…
Я сначала отказывался, а потом у меня появилась одна просьба, вторая… Лидочка тут же откликалась, и наши отношения стали почти семейными. В конце концов она даже иногда стала варить обед для меня.
— Всухомятку, Борис, питаться вредно! – категорически заявила она, вручая мне очередную кастрюльку с супом. А готовила она, надо сказать, исключительно, и я втянулся. Чтобы не быть нахлебником, старался и я в свою очередь помочь Лидочке, чем мог, даже возился иногда с её семилетними дочками-близняшками, когда она просила.
Но с вином и конфетами пришёл я впервые. А Лидочка мгновенно засуетилась, ловко прикрыла стол свежей скатёркой:
— Ну что ж, гулять так гулять!
Мы замечательно посидели: Лидочка подрезала ещё и колбаски, и огурчиков. Хвасталась: «Сама солила!» Выпила пару рюмок, разрумянилась, разоткровенничалась. Я брал её за руку, вздыхал и поддакивал, и кончилось тем, что она, суетливо уложив девочек, пришла ко мне в комнату…
Может, если б я был трезвый, то не позвал бы её к себе: ведь у меня никогда не было женщины. Засмеёт ещё… Но всё получилось на славу, и она благодарно прижималась ко мне:
— Спасибо, родной!..
Я подумал тогда: вот война проклятая! Таких, как Лидочка, — полстраны. Что же это за дикость, когда не мужик бабу благодарит, а наоборот?..
Вот так и стали мы настоящими любовниками, и вся квартира сразу об этом узнала. Но отнеслись не осуждающе, а с пониманием, даже с юмором. А, может, и с завистью: в нашей квартире проживало ещё несколько вдов.
Лидочка прибегала ко мне каждую ночь и говорила, что у неё – «медовый месяц». Между тем я уже получил аттестат и поделился планами с любовницей:
— Хочу, Лидуха, на завод устроиться.
И она тут же дала дельный совет, за что я всегда был ей благодарен:
— Боренька, не глупи. Давай-ка лучше на курсы шофёров, я помогу. Знаю хорошее место! Тебе ведь вот-вот в армию, дурачок! А там шофёр – не последний человек.
Я удивился: как же сам не подумал? Конечно, только шофёром!
Лидочка помогла, как и обещала; я быстро освоил и грузовик, и легковушку (наверное, имел природные наклонности?). Вскоре принесли и повестку из военкомата и назначили день для медкомиссии. Оставалось недели две, не больше, — и придётся покинуть всё родное и привычное. А как там сложится, кто ж его знает? Мне было явно не по себе.
Чуткая Лидочка сразу уловила моё настроение, ласкалась и угождала больше прежнего:
— Ничего, Боренька, у всех так бывает; что поделаешь? А я буду тебя ждать…
Я чуть было не ляпнул: «Зачем?» Она думает, что ли, что я женюсь потом? Но вслух, однако, сказал:
— Спасибо, дорогая.
Хорошая она всё-таки баба, чего там. Вон сколько для меня сделала! Чем бы отблагодарить её на прощание, а?
И тут меня осенило: можно, можно отблагодарить. Попробую, а вдруг?..
Дело в том, что самой старой (во всех смыслах) обитательницей нашей огромной квартиры была древняя тётка по кличке «Шершела». Она почти ни с кем не общалась, а так только, в случае необходимости, ну или там «доброе утро» — «добрый вечер». Вежливая до неприличия, она презирала всех нас столь откровенно, что её почти ненавидели, несмотря на то, что старуха вроде никому и ничего плохого не сделала. Поговаривали, что именно ей когда-то принадлежала вся квартира, но точно никто не знал. Шершела жила здесь всегда, вот и всё.
Свою кличку она получила тоже давно, за смешную и странную привычку потихоньку напевать «Шерше ля фам, шерше ля фам», что бы она ни делала: возилась ли у плиты на нашей кухне или мыла в свою очередь «места общего пользования».
Она вообще частенько говорила по-французски, нимало не смущаясь тем, что её никто не понимает. Казалось, что это даже доставляет ей немалое удовольствие: окатит презрительным взглядом, прокартавит что-то со скептической улыбкой – и выплывет из кухни. И опять мурлыкает из коридора: «Шерше ля фам!!»
— Ух, Шершела проклятая! – Лидочка ненавидела бабку за то, что та занимала самую лучшую комнату, на целых три окна. – Мой муж жизнь отдал за нас всех, и за неё – в том числе! Так какого чёрта она одна в таких хоромах, а я с двумя детьми в этой клетке маюсь?!
Комната Лидочки была не такая уж и маленькая, с моей – не сравнить, но до бабкиной, конечно, далеко.
Я частенько думал: а как это Шершела до сих пор проблем не имела? Кто она на самом деле? И не боится, стерва старая, по-французски каркать! Может, за ней стоит кто-нибудь; невидимый, но могучий?
Да, Шершела была настоящей загадкой, и я её не любил за то, что не мог до конца понять. Мне, простому рабочему парню, сироте, которого здесь все уважали, она сухо цедила «Вы» и «молодой человек». Брезговала, просто брезговала, как и всеми остальными. К тому же, больше, чем другими, — в этом я был даже уверен.
Ну ничего, ведьма старая! Заодно и будет приятный сюрприз Лидочке, которая уж надоела всем, бесконечно оббивая разные пороги, чтобы ей дали комнату побольше: «У меня муж – герой!!» Ей терпеливо обещали:
— Как только в вашей квартире что-нибудь освободится – решим вопрос! Или ещё одну комнату получите, или дадим одну большую.
«Что-нибудь освободится» — это значило: «кто-нибудь умрёт». А иначе как?..
Но ждать, пока умрёт Шершела, было так же нереально, как надеяться на Второе Пришествие. Шершела была вечна, как наша коммуналка.
И я решил действовать: подошёл к шофёру одному, Сан Санычу, и как бы невзначай, к слову, поведал: вот, мол, соседка у меня – вражина явная, а хоть бы что! Куда только власти смотрят?! И про французский её рассказал; ну, и досочинил кое-что для верности. А может, и угадал: кто ж его знает, что она там бормочет не по-нашему? Может, смеётся над нами, честными людьми, прямо в лицо; а мы, дурачки, и не догадываемся? Живём с ней рядом, здороваемся; а потом – ещё и в соучастники запишут, как пить дать…
Я частенько беседовал с Сан Санычем, а он всегда очень внимательно слушал. И вопросов никогда не задавал, и глаза делал равнодушные, но я знал: вычислил я его правильно. Знал!
Но прошло, однако, уже целых шесть дней, а за Шершелой никто не приходил. Неужели я ошибся в Сан Саныче? «Ну, ничего, — думал я. – Не навек же я в армию ухожу. Вернусь, бабуся, и рассчитаемся. За всё ответишь».
…Последнюю ночь мы с Лидочкой провели без сна: казалось, она хочет сполна насытиться на будущее. Совсем меня замотала. А утром – даже разрыдалась, провожая. Я осторожно обнимал её в коридоре, куда высыпали все наши жильцы («Попрощаться!»), а сам с опаской думал: «Сейчас ещё завоет «на кого ж ты меня покидаешь», что ли?»
Но она в конце концов взяла себя в руки, и я смог спокойно проститься и с другими. Жал руки, крепко целовал, а сердце щемило: ведь это дом мой родной, как ни крути. И Шершела пришла, что удивительно. Подошла ко мне последняя, неожиданно перекрестила:
— Боря, вернитесь благополучно. Как сыну родному желаю вам: останьтесь живы и здоровы.
И, резко развернувшись, ушла к себе. Все только рты пораскрывали!.. А Лидочка сказала:
— Говорят, у неё сына во время революции убили. Белого офицера…
И мне стало страшно, невозможно гадко: что же я наделал, скот?! Что я знаю о ней?..
Но ведь до сих пор ничего не случилось, так? Значит, и не случится; нечего на стену лезть…
С этими мыслями я и вышел из нашего подъезда, бросив прощальный взгляд на своё маленькое окошко. За комнаткой присмотрит Лидочка. Обещала…
* * *
Служить я попал в мотострелковую часть, стоящую в небольшом симпатичном городке. И с первого же дня подумал: «Эх, скорей бы отсюда!» Не знаю, как другие, а я терпеть не могу, когда мной командуют.
Я немного поосмотрелся и, помня Лидочкино наставление, набрался смелости и пошёл прямо в кабинет к командиру части.
Браво отрапортовал, спросил, могу ли обратиться «по военному вопросу».
— По какому? – усмехнулся полковник. Был он подтянутым и строгим; приятно посмотреть. Глядя на него, я сразу успел многое понять: аккуратен, педантичен, умён. То, что нужно. И возраст уважительный: пятьдесят два года.
Я чётко и ясно, экономя слова и не размазывая мысли, объяснил, что я водитель, причём – неплохой; а если надо, — то и починю машину в два счёта.
— Хорошо, сынок, — полковнику явно понравилась моя деловитость.
Нахрапистость и сметливое нахальство хорошему шофёру нужны как воздух, и мой новый начальник это с ходу оценил.
— Да ты присядь, присядь! – пригласил он. – В ногах правды нет. Ну-ка, давай поподробней: кто ты, откуда?
Мы поговорили совсем немного, но понравились друг другу окончательно.
— Ладно, Борис, беру тебя своим личным водителем. Не подкачаешь?
О такой удаче я даже не мечтал! Шёл сюда, думал: расскажу, что я умею; может, учтут и не будут со всеми вместе гонять. Ну хоть иногда… А здесь! У меня даже дух перехватило!!
— Спасибо, товарищ полковник!!! Вы не пожалеете!!!
— Ну-ну-ну, спокойнее, Силин. Спокойней! Водитель должен уметь контролировать свои эмоции. Ты меня понял? Чёткость и неболтливость – это всё, что мне от тебя нужно. И ступай прямо сейчас в гараж, осмотри свою «лошадку». С этой минуты ты подчиняешься только мне; усвоил?
Я бросился в гараж, не чуя под собой ног от радости, и провозился там до самого вечера. Машина командира части была в полной исправности, но я нарочно долго мыл её и вылизывал. Заодно и узнал, что прежний водитель только-только ушёл на дембель. А тут – я…
Я даже помолился мысленно, хоть и не умел. Вот так я и пристроился. Как там говорится? – «чтобы служба мёдом не казалась»? А мне как раз и была она самым настоящим мёдом.
Правда, товарищи мои тут же стали меня сторониться и ненавидеть. От зависти, конечно! Ведь для меня единственная команда «подъём!» имела значение, да и то – не всегда. Только и было солдатского в моей судьбе, что еда – по расписанию, вместе со всеми. А остальное существовало где-то в стороне, параллельно. Главное, что машина полковника всегда сияла у меня как новый самовар и работала как часы.
Я не жалел для этого времени (кстати, а куда ещё я мог бы его девать?). В любой момент дня и ночи я готов был везти своего командира куда угодно и ждать, сколько потребуется.
— Молодец, Силин! – то и дело хвалил он меня. «Чёткость и неболтливость!» — я затвердил это, как дважды два четыре. Я был нем, как китайский болванчик, и никогда не позволял себе ни одного слова, пока полковник сам что-нибудь не скажет. Я сливался с машиной в единое целое, видел только дорогу и ничего больше. Ездил так, как будто не человека возил, а ящик с хрусталём; но при этом – быстро и уверенно.
— Ох и жаль, Силин, что ты всё-таки уйдёшь на гражданку! – сказал как-то командир части, и это было для меня наивысшим комплиментом.
В армии я возмужал, поправился. Очень даже нравился самому себе, хотя товарищи по казарме по-прежнему воротили нос:
— Ишь, морду отъел, жополиз!
Но меня это совершенно не волновало, как и все их марш-броски, стрельбы и наряды вне очереди.
К тому же – то ли от скуки, то ли от избытка свободного времени – закрутил я «любовь» с нашей медсестрой. Она млела и таяла от моего внимания: в свои двадцать четыре до сих пор была не замужем, несмотря на наличие вокруг себя целых охапок свободных мужиков.
Была она здоровенная, как шкаф, и такая же широкая. Чем-то напоминала мне тётку Далилу из детских военных лет; тоже была слезливая и жалостливая. И покорная до безобразия.
Вообще-то покорность в бабах мне нравилась всегда, но не такая полная апатия, как у сержанта медицинской службы Куропаткиной Светланы.
Нет, как знаток своего дела она была хороша: грамотная, ловкая и чуткая. Но как любовница – надоела быстро. Вечно требовала, чтобы я в сотый раз повторял, что люблю её. Однажды я не выдержал и наорал на эту дуру. Пригрозил: ещё раз пристанет насчёт «ты меня любишь?» — будет искать другого попугая.
С тех пор вопрос этот, готовый снова и снова зазвучать, замирал у неё на губах, и она компенсировала это тем, что сама без меры нашёптывала мне, пока я совершал очередной акт любви:
— Я тебя люблю, люблю, люблю, люблю!!!
Это мешало, но, разойдясь, я уже просто не слушал Светку.
Так бы это всё и тянулось до самого дембеля (не дольше! Хотя Светка почему-то была уверена, что я женюсь), если бы не одно «но»: она забеременела. Сказала мне о «радости», томно вздыхая и прижимаясь к плечу могучей грудью.
— Ох, ё… — я, не сдержавшись, выдал нашу национальную фразу, обозначающую в данном случае что-то вроде: «Это мне неприятно».
— Боренька, я думаю, будет мальчик! – Светка явно не уловила подтекст сказанного. И тут я ляпнул:
— Я разве не говорил тебе, что у меня жена и двое детей? Девочки, близнецы!
(Наверное, про Лидку вспомнил).
Она мгновенно побелела, замерла, по-совиному, не моргая, уставившись на меня.
— Н-н-нет… — она всё ещё отказывалась верить.
— Не нет, а да! – психанул я.
Хлынул океан слёз вперемешку с надоевшим до зубной боли «люблю, люблю тебя!!» Но я решил быть твёрдым. И так уже хотел с ней порвать, так что надо поставить точку.
— Светлана, истерика не поможет! Реши, пожалуйста, этот вопрос, — и давай расстанемся.
Она молчала, смотрела в сторону и только всхлипывала. И я ушёл. Всё! Сюда – больше ни ногой. Потерплю как-нибудь (или, может, в городке кого-то присмотреть?). До дембеля…
…На другой день меня вызвал командир части. Я удивился, ведь знал, что никакой поездки сегодня быть не должно.
Он встретил меня разгневанный:
— Что, кот блудливый, наделал делов?!
Я никогда не видел нашего полковника таким злым. Сдержанность и выдержка! – вот чем он выгодно отличался от всех остальных наших командиров. А тут…
— На хрена нам в части такие дела?! Что глазками хлопаешь, Силин? Не понимаешь?! Я объясню! Куропаткина вчера мне всё рассказала, обещала в военную прокуратуру пойти с жалобой!!! Ты зачем меня так подставил?
Вот тебе раз!.. Я ожидал, конечно, чего угодно, но что Светка на такое решится… Да-а-а, в тихом омуте… И я с перепугу забормотал какой-то бред, что-то вроде «я к ней хожу только по вопросу здравоохранения…»
— Чего-чего?! – прищурился полковник. – Ты чего несёшь? Какого здравоохранения?!
И заорал так, что звякнули стёкла:
— Не здравоохранение у тебя, а сплошное ЗДРАВООХЕРЕНИЕ! Зажрался, кобель!!!
(Ну, насчёт кобеля мог бы и помолчать… Ему почему неболтливый шофёр подходит, а? А потому что есть у него к кому наезжать по личным делам, есть. Такая фифочка – пальчики оближешь; я и сам бы не против был с ней покувыркаться. Молоденькая, сладенькая. А полковница старая и в ус не дует!)
Всё это я понял в долю секунды, но сказать такое вслух – не посмел бы и под пыткой. Я ж парень неболтливый, за то и ценит начальство.
Но полковник и сам, видно, кое-что вспомнил. Он закашлялся, покраснел. Прохрипел:
— Сядь, говорить будем!
И потянулся за папиросой.
— А чего б тебе и в самом деле на ней не жениться? – спустя десять минут он уже великолепно владел собой, как всегда. – Что ты там плёл ей насчёт жены и двоих детей? Врал?
— Нет, не врал, товарищ полковник! – я смотрел измученными глазами человека, которого придушили роковые обстоятельства. – Ждёт меня хорошая женщина, и дочки у неё… Я обещал. Люблю! Дни считаю, чтоб домой…
— Ну ладно, — полковник вздохнул тяжко. – Как мужик мужика я тебя, конечно, понимаю. Но зачем ты ребёнка ей сострогал, а? Вдруг действительно попрётся к прокурору?.. Жениться, конечно, никто не может тебя заставить силой; но внимания лишнего к нашей части будет – мало не покажется. А крайним буду я!!! – он зло стукнул по столу ребром ладони.
В конце концов порешили на том, что я ещё раз попытаюсь по-хорошему с Куропаткиной всё уладить. Ну, может, денег ей дать? Лишь бы шум не поднимала, глупая!
И я снова отправился в санчасть; в первый раз – вынужденно. Пока шёл, обмозговывал варианты, но, увидев Светку, чуть не закипел от негодования: и эта мамонтиха будет мной командовать?!
Начал сдержанно, и она вскинула на меня обнадёжившиеся было глаза: а может?.. Нет, не может! Никак!
Я просил – она упиралась; я начал угрожать – она сказала:
— В общем так, Боря. Есть только два варианта: или ты женишься, или я поднимаю большой шум.
— Не докажешь, сука!!! – допекла ведь, гадина, я аж подскочил. – Мало ли кто тут к тебе шляется, ты под любого готова!
— Нет, Боря, ошибаешься. Докажу, — она уже была абсолютно спокойна. Чем больше я заводился, тем несокрушимей становилась её правота. – А свидетели – вся часть.
У меня в голове что-то как будто лопнуло, и кровь гнева хлынула в глаза. Меня, меня заставить??! Меня???!
И я высказал ей всё, что думаю. А что терять; пусть хоть послушает! И про то, что она на женщину похожа только дыркой между ног, и больше ничем; и что она никому нужна не была и не будет до самой смерти; и мне – в том числе. Просто пользовался ей как унитазом: надо же куда-то молодому мужику спускать излишки силы! И что никогда я на ней не женюсь, пусть хоть всю страну в свидетели записывает! А вот опозорю я её на славу, всем буду ходить и рассказывать, как она ножищи свои расставляет и глазки закатывает, чуть только ширинку увидит. Любит!
Кричал и видел: делаю больно, смертельно больно. Но получал от этого несравнимое удовольствие. Пусть, пусть почувствует, как нервы мотают.
— Чучело, медуза, туша говяжья!!! – это были мои последние слова, и я вылетел, хлопнув дверью.
Пусть теперь жалуется, гнида! Хоть душу отвёл, и то хорошо…
…А через час на территорию части влетела «скорая»: Светка наглоталась каких-то таблеток и грохнулась без сознания. Хорошо, что случайно зашёл рядовой Пяткин: нечаянно поранился ножом в наряде на кухне.
Куропаткину увезли. Кажется, её откачали. А, может быть, нет?.. Но я ничего больше о ней не слышал, а спрашивать не стал. Зачем? Мало ли…
Вскорости к нам прислали другую медсестру, которая всем сообщала, что сержанта Куропаткину перевели в другую часть по её просьбе. Ну и отлично!
Новая медсестра меня нисколько не привлекала, потому что имела два существенных недостатка: была замужем и в возрасте.
* * *
На гражданку я уходил с самыми радужными надеждами. Полковник, помня добро, дал мне лучшие рекомендации. И я, если бы хотел, мог спокойно устроиться в военкомате родного города тем же шофёром. Там, в областной конторе, сам военком – оказывается, однокурсник нашего командира части. Перспектива!
Но прибыл я неудачно: пока вернулся домой, пока праздновал и отдыхал, то да сё, — потерял, оказывается, драгоценное время. Ткнулся по рекомендации – а военком умер; всего-то неделя, как похоронили. Кто бы мог подумать?
Вот она, смерть; приходит, как капризная баба, когда ей вздумается. Военком ведь совсем молодой мужик был, да…
Но не стал я долго расстраиваться; что ж теперь? Попробовал было всё же устроиться, но во всех кабинетах смотрели холодно и разговаривали свысока.
И я догадался, что все «хлебные» места здесь давно заняты; человеку с улицы сюда попасть нереально.
Между тем Лидочка от радости ног под собой не чуяла:
— Не спеши, успеешь наработаться! Найдём хорошее место.
Её подросшие дочки признали меня опять сходу, будто я и не отлучался. «Ишь, невесты!» — нет-нет, да и подумывал я, глядя на них. Они уже не липли ко мне, как когда-то, научившись за это время стесняться, но между нами восстановились всё те же давние дружеские отношения.
К тому же Лидочкино семейство теперь занимало комнату Шершелы… Я просто обомлел, когда узнал; стал расспрашивать. Умерла всё-таки, что ли?
— А кто ж её знает; может, и умерла, — сочувственно сказала Лидочка. – Её ведь забрали в тот же день, как ты уехал. Точнее, ночью. Знаешь, ОНИ ведь по ночам работают… До сих пор ума не приложу, за что ж её?.. Никому ведь не мешала!
Вот оно, самое непостижимое свойство человеческой памяти, — подумал я. Да Лидочка же с ума сходила от ненависти, всё мечтала об этой самой комнате и чтоб Шершелы поскорей не стало! Об этом я и напомнил. А она рассердилась:
— Мало ли что в отчаянье скажешь!
— Подожди, — изумился я. – В отчаянье – это когда один раз, да и то в крике или в слезах; а ты день и ночь твердила, желая старухе смерти.
— Болтала чепуху! – Лидочка упёрлась на своём. – Мне Шершелу жалко, славная она была.
…Так, значит? Славная она была и её жалко, да?.. А мне что ж теперь – последним мерзавцем себя чувствовать?
Я попросил рассказать подробно. Ну, хоть какое обвинение? Может, всё-таки не я…
— Да в ту же ночь было, я ж говорю! – поведала Лида. – Моя ж старая комната напротив как раз, всё хорошо было слышно. А потом оказалось, что и все остальные тоже слышали, только боялись нос высунуть. Сначала к ней громко постучались – знаешь, по-особенному как-то, жуть! Она не сразу открыла; может, одевалась. Они долго там копались, искали что-то; всё вверх дном перевернули. Потом один ко мне постучал; я чуть не умерла со страху! А он говорит: «Идите распишитесь как свидетельница». И Ивана Николаевича привёл из второй комнаты. Тот старенький, трусится весь. Ну ты ж помнишь, какой он боязливый был, царство небесное! Подписали, значит, мы с ним какие-то бумажки, и стоим, ждём. А самый главный и говорит: «Всё, граждане, спасибо. Идите спать. Если нужно будет – вас вызовут». Иван Николаевич сразу уполз, а я стою – не иду, вроде ноги отнялись. А они и внимания на меня не обращают. А Шершела стоит, молчит; глаза как безумные. Они спрашивают: «Ну что, бабка, собралась?» А она – ты представляешь?! – отвечает: «Я с вами, молодой человек, на брудершафт не пила. Будьте любезны говорить мне «Вы». И спокойно так! Ну, знаешь, как она умела. Я думала, у меня сердце остановится! Тот, старший, прямо обалдел, но, однако, говорит: «Прошу Вас следовать за нами». Представляешь?? Она их ЗАСТАВИЛА! До смерти не забуду эту картину; так бы в ноги к ней и упала…
— И что потом?
— Да что потом? Ушли они, и её увели. Она в дверях голову повернула, мне улыбнулась и кивнула. И сказала громко:
— Лида, прошу Вас, раздайте мои вещи соседям по справедливости.
Я хотела кинуться ей вслед, хоть обнять, что ли… Но побоялась. Сам понимаешь. Вот так всё стояла и стояла; они уж и ушли давно, а я не помню, сколько так стояла… Комнату, конечно, закрыли и опечатали. Мне все говорили: «Лида, идите и добивайтесь. Теперь вам отдадут комнату». А я – веришь ли, Боря? – никуда не ходила, будь оно всё проклято. Сами пришли, сами. Сказали: «Переселяйтесь, это ваше жильё теперь». А мою комнатёнку вскоре геологу одному отдали. Он теперь в командировке; вернётся – познакомитесь. Хороший дядька, добрый.
— Ну да, — съязвил я. – И ты добрая. Наверное, ходила к нему по-соседски, да?!
Зачем обидел?! – не знаю. Наверное, хотел закрыться от собственных мыслей. …Да, Сан Саныч; к сожалению, не ошибся я в тебе, друг любезный… И я, значит, спокойно служил, а Шершела… Ужас! Ужас…
— Ты что? – удивилась Лидочка. – Ревнуешь, значит? Ну, ревнуй, ревнуй; мне даже приятно… Так вот, вещи старухины я никому не отдавала; а сложила и храню. Всё думаю: вдруг она вернётся, а? Вернётся – и обрадуется, что всё цело.
— А жить будет где? – спросил я тупо.
— Как где?! С нами, где ж ещё? Родной ведь человек, не кто-нибудь.
Вот какие, значит, метаморфозы: от ненавистной контры до родного человека. Неисповедимы пути…
* * *
— Кактус, проситься надо, скотина!!! «Утка» ведь есть!
Надо мной стояла разозлённая Надька.
— Хорошо, что клеёнка подстелена. А я слышу – закапало, потекло! – не унималась жёнушка. – Ух, чучело на моей шее, чтоб тебя!..
Она принялась подтирать пол, потом заставила меня встать (что с каждым разом было всё мучительнее), промокнула клеёнку.
— Чего у тебя моча такая вонючая, Кактус? – продолжала она язвить. – Как у кота, даже ещё ароматнее. Небось, наблудил в своей жизни, как котяра в марте?
Я молчал, ждал. Лучше не отвечать: а то вообще неизвестно, когда перестанет лаять.
— Ишь, засранец! – она ещё, оказывается, не всё сказала. – Спасибо, что сходил по-маленькому, хрен старый; а не навалил кучу, как ночью!
(Было дело. Заснул – и нашкодил. Я уже почти не чувствую, не всегда успеваю уловить момент; вот и случается…)
— Размечтался, разнежился, стручок перхотный, а я тут – нюхай! Ложись, будь ты неладен!
Меня не надо было просить два раза: ложился я куда охотнее, чем вставал.
— Значит так, ещё раз размечтаешься – будешь в дерьме лежать, сколько я захочу! – решила напоследок Надька.
Ну наконец-то выговорилась, вышла. Возится на кухне, гремит ложками. Значит, скоро кушать даст. Уже хочется.
Правда, будет кормить – ещё придётся выслушать. Знаю я её, раз триста ещё назовёт «засранцем» и «старым ссыкуном». Надо терпеть; куда ж денешься?
Интересно, а если б я тогда всё-таки женился на медсестре? Ухаживала б она за мной?.. Ох, и любила она меня, любила!
Постой-постой!.. Я вспомнил: ведь было мне лет сорок, что ли; и пришло странное письмо от какого-то Бориса Борисовича Куропаткина. Дескать, «давно вас ищу; вы, наверное, мой отец…» Я ведь даже не дочитал, дурак!!! Плюнул, порвал и выбросил.
Вот оно, значит, как: Борис Борисович. Так любила меня, что сына Борькой назвала. Ах, мерзавец я старый, мерзавец… Порвал и не ответил.
А ведь мог быть рядом со мной сейчас сын: Борис Борисович Куропаткин. Мог…
— Усаживайся, калоша; сейчас кормить буду! – закричала из кухни Надька.
Чтобы «усесться», мне нужно десять минут, не меньше…
* * *
…А Лидке я всё-таки про Шершелу сказал. Пусть не думает!.. Ишь, чистенькой хочет быть. Не выйдет, милая. Что ж мне, одному терзаться?
Лидка сначала не поверила:
— Зачем так шутить?..
А потом…
— Ну и гад ты, змей подколодный!!
Надо было, конечно, не говорить. Перетерпелось бы как-то. Хорошо хоть, что Лидка болтать побоится; у самой рыло в пуху.
Но меня она тут же возненавидела. Сначала я думал: позлится и перестанет. Переждал пару дней и ткнулся опять было вечерком к ней в комнату. Выгнала!..
— Я тебя знать больше не хочу, фашист!
Подумаешь, цаца!.. А может, так и лучше? Всё равно ведь, рано ли, поздно ли, – а рвать с ней надо.
В квартире нашей размолвке дивились. Ведь так всё было хорошо! Они уж давно в мыслях нас поженили. Но в душу не лезли, и то спасибо.
Только тётка Магда шепнула мне как-то одобрительно:
— Правильно, Борька. На кой ляд тебе чужие дети? Своих заведёшь.
«Заводить своих» мне пока что тоже не очень хотелось: надо было сначала встать на ноги. Пока меня поила-кормила Лидка, я не очень спешил искать работу, выжидал подходящего случая. А теперь – пришлось.
Я решил, что профессию шофёра бросать не стоит, и сходил на автобазу. Там меня встретили с распростёртыми объятиями: молодой, перспективный, опытный! Но работа здесь не шла ни в какое сравнение с «мёдом» службы.
Дальние рейсы, большие грузы, немалая ответственность, — а зарплата обычная; как у таких, которые в чистеньких конторах сидят и в ус не дуют.
И приспособился я «левачить». Сразу стало повеселее, появились денежки. Появились также и друзья, и подружки.
«Ничего, — думал я, — надо ждать; а там, глядишь, и дочка какого-нибудь начальничка подвернётся, а её папашке нужен будет свой водила…»
Мечты, мечты!.. Но пока я мечтал, произошло в моей жизни событие, которое в корне изменило все мои планы и направило жизнь уже по другому руслу.
Отправился я как-то в рейс. Груз был ответственный, и шёл я осторожно, на средней скорости. Ехать было далеко, и я порядком устал, стараясь попасть на место до сумерек: очень уж я не любил это время суток, как и все шофёры. Доставлю, переночую, а утром – обратно. Не впервой.
Я ехал и подбадривал себя близким ужином, но тут увидел, что навстречу мне бешенно несётся автобус, как-то странно вихляя. Сейчас он мне в лоб!.. На встречной!!
Как я успел увернуться, до сих пор понять не могу!.. Дико крутанул руль вправо и выскочил на обочину, но места не хватило, и я сполз по откосу прямо в чисто поле. Успел, правда, затормозить, и машина моя застыла, подняв зад, как большой жук у входа в тесную норку.
Но машине, которая шла за мной, повезло значительно меньше: я услышал страшный удар; заскрежетало железо и посыпались стёкла; истошно, по-звериному завыли люди.
Я сильно ударился головой о руль, когда тормозил, и в висках гудело. Тронул лицо руками и нащупал кровь. Почувствовал, что разбил нос. Я стал потихоньку выбираться из кабины.
Между тем на месте аварии скапливались с невероятной скоростью новые машины и люди; кто-то всё ещё продолжал вопить, как будто его переклинило. Всё это вместе взятое гудело, шумело, волновалось…
Я подошёл поближе. Господи, сколько крови!!! Автобус-виновник был сильно побит впереди, и погиб водитель. А пассажиры (к счастью, их было совсем немного) отделались мелкими травмами и лёгким испугом. Они уже все выбрались и толпились тут же, громко споря:
— Да не пьяный он был, не пьяный, вы что?! Может, задремал на минутку?..
(Позже выяснилось, что у шофёра за рулём случился инфаркт, и он умер ещё до столкновения. Вот почему автобус так странно вихлял!..)
А вот во встречной легковушке – погибли все: двое мужиков впереди (водитель и пассажир), и две женщины – сзади. А ещё – маленькая девочка, совсем маленькая. Лет пять-шесть, не больше… Худенькая такая…
И всё это я увидел… Я никогда не наблюдал смерть, никогда и никого не хоронил ещё. Нет, конечно, я видел чужие похороны, и не раз; но никогда даже близко не подходил.
…Их всех вынимали уже мёртвых, а я стоял, смотрел и не мог уйти. Как же это так, как же?.. Вот ехали люди, смеялись и шутили; может, на праздник какой-нибудь, — вон как разодеты! А у малышки на головке – пышный красный бант… Почему-то этот бант больше всего меня поразил.
Кто-то расстелил прямо на обочине длинную широкую тряпку (где взяли?..) и тела уложили в ряд. Аккуратненько, по росту…
И тут и понял: мы все – мертвецы. Все, все, все!!! И я, и вон тот врач со «скорой», и этот молодой сержантик…
«Выключат» нас всех однажды, как вот этих, строем лежащих, и отправят под землю в ящиках, зачем-то оббитых материей и украшенных цветами.
Это ощущение всеобщей смерти не покидало меня ещё долгие месяцы. Чтобы избавиться, я ушёл с автобазы. Какое-то время нигде не работал (деньги пока были); я бессмысленно слонялся по улицам и часами разглядывал людей: и тот – мёртвый, и этот… А сколько девочек с красными бантиками!!! Уж они – точно… Мне казалось, что вокруг меня не люди, а заводные скелеты, для маскировки прикрытые кожей с мясом, а сверху ещё – одеждой.
Я даже сходил к врачу. Думал, надо мной смеяться будут, а потом – в психушку отправят. Но нет: доктор слушал внимательно, щуря добрые глаза; осторожно задавал разные вопросы. Незаметно для себя я выговорился до самого донышка (целый час почти был на приёме, даже сам удивился!), а потом врач сказал:
— Ничего, молодой человек. Это шок у вас. Пройдёт время – и всё забудется, пройдёт. И попейте вот это; поможет.
Он выписал мне какие-то таблетки, название я потом забыл. То ли они помогли, то ли действительно время лечит, но стал я помаленьку приходить в себя. Так и выздоровел.
Но с тех пор осталось со мной навсегда вот такое: стоило мне хоть немного огорчиться (по любому поводу!) – тут же лезли мысли: мы все мертвецы, хоть расстраивайся, хоть нет. И это, кстати, меня тут же успокаивало. Вот вам и загадки человеческой психики!..
* * *
Итак, с шофёрской судьбой я распрощался навсегда. Но куда теперь? Может, в институт? После армии, я слыхал, туда берут охотно.
Ну а на что я буду жить? Я ж не при папе-маме, как другие… И тут я вспомнил про отца. А что, если его попросить?
Но, с другой стороны, — столько времени ни слуху ни духу, а тут – вот он я? Меня покоробило: вспомнил, с какой гадливостью смотрела тогда на меня новая отцовская пассия…
Однако, воспоминание о родителе принесло свою пользу. В памяти всплыли его привычки, жесты, словечки… И его, всегда непреодолимая, уверенность в себе:
— Запомни, сынок: если хочешь решить какой-то важный вопрос – иди сразу только к первому лицу! Понимаешь? Не к заместителю какому-нибудь, а только к первому лицу! Иди как к равному, если хочешь чего-нибудь в жизни добиться. Сила силу всегда уважает!
Да-да, к первому лицу. Я ведь и в армии тогда – сразу к полковнику. И получилось ведь, получилось!!
Я решил повторить удачный опыт. Правда, шофёром быть уже не собирался (да и не смог бы, наверное), но предложить себя в качестве расторопного помощника – мог на любом уровне.
И я отправился в здание Обкома партии. Конечно, попасть на приём к первому секретарю, да ещё вот так, с улицы, — было нелёгкой задачей. Но я терпеливо объяснил, что мне надо только «к самому», и ни к кому другому. К Завгороднему А. А.
— По личному вопросу! – я был твёрд.
И меня записали на пятницу. В назначенное время, аккуратно выбритый и нарядно одетый, я дожидался в приёмной. Томиться пришлось довольно долго, но меня, наконец, пригласили в кабинет.
— Слушаю вас, — «первый» смотрел равнодушно. – Только коротко и ясно, поняли?
— Я – Силин, — сказал я. – Борис Петрович Силин.
(Я заранее, ещё три дня назад, написал «речь» и вызубрил её как «У Лукоморья дуб зелёный». Говорил спокойно, чётко, с хорошо отрепетированной интонацией: сколько лет, где живу, кто родители, где и как служил).
— Так, — оживился секретарь. – И чего же вы хотите, Борис Петрович Силин?
И тут мне повезло. Вот верьте или нет, но показалось мне, что это мой Ангел-хранитель сам подошёл неслышными шагами к «первому» и что-то шепнул ему на ухо. И секретарь услышал.
— Стоп. Вы сказали – Силин, так? Борис Петрович? А отец – не Пётр Адрианович, случайно?
— Да, — я почуял удачу. – Именно. И работал он…
(Я торжественно назвал старую должность отца, которой тысячи раз хвастался ещё в школе).
— Вот так да! – воскликнул «первый». – Ну что ж, сыну Силина я просто-таки обязан помочь! Ведь мы с твоим отцом…
Он перешёл на дружеское «ты», и я мгновенно это заметил.
— Ох и стержневой характер имел Пётр Адрианович! – заливался «первый». – Ты, я надеюсь, в него? Ведь ты… — он на секунду замялся, — от первого брака, насколько я в курсе?..
— Да, — не смутился я. – Так вышло.
— Да-да, бывает! – успокоил секретарь. – А вот она, жизнь: с ним работал, и с тобой поработаю! Помянем, может, отца твоего? – спросил он вдруг сочувственно.
— Как «помянем»? – я сразу и не понял. – Разве он?..
— Ну, а ты, выходит, не знал? – расстроился Завгородний. – Да он недавно погиб, и трёх месяцев ещё нет… Ехал, понимаешь, с женой и дочкой в гости, а с ними – ещё одна пара семейная, родственники супруги, кажется. И влетели, бедняги, в автобус. Погибли все на месте. Ну хоть сразу – и то хорошо. Без лишних мук… Так что и отец, и мачеха, и сестрёнка твоя, значит…
…Девочка с красным бантом?! Мне стало не по себе.
— Борис, тебе плохо? – он уже вскочил, открыл форточку, налил воды. – Ну-ну, ты ж мужчина!
Он накапал мне что-то в стакан:
— Прими-ка!
Я послушно выпил; в голове что-то забулькало.
«Мёртвый. И он тоже — мёртвый», — подумал я, глядя на Завгороднего. Мёртвый мёртвому дал успокоительного… Что это со мной?! Неужели снова девочка с красным бантом придёт бесцеремонно в мои сны? Сестра… Как хоть звали-то её?..
Очевидно, я спросил это вслух, потому что секретарь с готовностью ответил:
— Светочкой, Светочкой её звали…
Совпадение, конечно; и Светка Куропаткина здесь ни при чём. Но мне стало неприятно.
Зато отлегло от сердца, и я сказал уже более-менее спокойно:
— Спасибо за сочувствие, Антон Алексеевич. Давайте их всех помянем…
Завгородний вызвал секретаршу:
— Зина, организуй нам!
Мы пообщались ещё минут пятнадцать («Извини, Борис Петрович, дела! Сам понимаешь!»), и я ушёл, обласканный и устроенный.
С того дня и началась самая настоящая моя карьера; и первой ступенькой было всё-таки поступление в институт, на заочное отделение. Зачем же время зря терять, скажите?
* * *
…Сессии я сдавал, как говориться, не глядя. Я быстро стал в Обкоме своим человеком, с заоблачной скоростью вступил в партию, не прошло и двух лет.
А всё почему? – а потому что усвоил я, что именно в общении с людьми есть самое главное. Я был одинаково вежлив и любезен со всеми, внимателен к каждому, как к самому себе. Быстро вызнал всё про всех и безошибочно знал, что кому нужно сказать, чтоб меня везде считали отличным парнем и хорошим, душевным человеком. Я улыбался всегда и всем; для женщин – не жалел комплиментов (чем больше – тем лучше; кашу маслом не испортишь); для мужчин – всегда у меня было готово «я вас понимаю» или «я тоже так думаю». Всем без исключения я время от времени торжественно объявлял наедине:
— Давно хочу сказать: я вами просто восхищаюсь! И беру с вас пример. С таким умом вы далеко пойдёте!
По закону больших чисел, кто-нибудь из них, рано или поздно, — «шёл далеко», и старые связи оказывались мне на пользу.
Я по-прежнему жил пока всё в той же «коммуналке», но в перспективе уже маячила отдельная квартира. Если к моменту получения успею жениться и обзавестись хотя бы одним ребёнком – то не однокомнатная, а что-нибудь побольше.
Мне нужно было поторопиться. Лидочка по-прежнему воротила от меня нос, хотя пока ещё ни с кем другим не сошлась.
Да мне было теперь уже всё равно. Вся квартира относилась ко мне уважительно, со значением повторяя гостям: «А вы знаете, где наш Боренька работает?» И лезли ко мне с просьбами.
Я всегда обещал, но соблюдал одно правило, которое внушил мне Завгородний:
— Запомни, Боря. Никаких «своих». За это тебя съедят завистники, дай только повод!
Итак, я обещал, но дальше этого не шёл. «Пока не получается, поймите. Но я держу вопрос на контроле». Вот и «держал», пока не отстанут.
И вообще я всегда слушался Завгороднего: он чем-то напоминал отца. Поэтому, когда он сказал:
— Боря, я хочу познакомить тебя со своей племянницей. Присмотрись… — у меня и мысли не возникло, чтоб не «присмотреться».
Её звали Клавдией. Что мне сразу понравилось – робкая, тихая, боязливая.
— Ей нужен именно такой, как ты, Боря, — был уверен Завгородний. – А то затопчут! Она ж за себя и голоса не подаст.
Не знаю, понравился я ей или потому что «дядя велел», но встречаться со мной Клава согласилась с ходу. Мне подходило, что она всегда была того же мнения, что и я; что моё слово для неё было равносильно приказу. Я ей (для собственного удовольствия) советовал даже, что носить. Любая баба, даже самая распоследняя, взбунтуется против этого; а Клава – нет. Приходила на свидание именно в том, в чём накануне было рекомендовано.
И я решил: женюсь. Подходит! Свадьбу сыграли без шума. Да, собственно, никакой свадьбы и не было, а просто посидели у Завгородних (у них не квартира, а хоромы! И своя кухарка суетится, служит).
А потом я повёз «молодую» в свой дом. Клавдия, тихая и, можно сказать, никакая, почти не обратила на себя внимания. Только Лидка пялилась на неё ненавидяще, и Клава даже спросила меня:
— Боря, а почему Лидия Николаевна на меня злится? Я ж ничего…
— Вот у неё и спроси! – отрезал я. – Нечего мне делать больше, как только бабьи интриги распутывать.
Но на застенчивую мою супругу обижаться было действительно не за что, и Лидка вскоре смягчилась, стала с ней ласкова; хотя на меня по-прежнему смотрела волком. Прожили мы там ещё с годик, и сбылась, наконец, моя мечта про отдельное жильё. Без всяких соседей; а тем более – соседок.
Клавдия к тому времени как раз родила, и я торжествовал: нам дали сразу двухкомнатную! Переехали мы по-тихому, ни с кем не прощаясь. Ну их, сглазят ещё!
Новая квартира была хороша: просторная, с высокими потолками, с балконом. К тому же, не всем такое счастье выпадало: почти вся страна ютилась по коммуналкам.
— Несправедливо это всё-таки, Боря, — сказала однажды Клавдия. – Чем мы лучше других? Многодетных бы с первую очередь расселяли…
…Да-да, я с первых дней заметил, что у моей супруги в голове – идеологический винегрет. Всех ей жалко, да за всех душа болит, да там ещё что-то… Три вагона чепухи и впридачу – тележка с милосердием. Хорошая женщина, но дура…
— Ты что, сомневаешься в справедливости нашей власти? – ехидно спросил я. – Или ты забыла, ГДЕ я работаю и КАКАЯ на мне ответственность?
Клавка испуганно молчала.
— И вообще, ты же знаешь: я терпеть не могу, когда баба лезет со своим мнением. Тем более если она моя жена.
Да, Клава знала. Я гордился тем, что организовал жизнь своей семьи точно так же, как это делал мой отец. Клавке я запретил работать (просила, плакала: она хотела на сцену. Закончила, видишь ли, театральное…); главная её роль теперь была лишь одна: муж (то есть я) должен быть сыт, ухожен, спокоен и вовремя обласкан. А жена – со всех своих скудных сил обязана ценить такое счастье!
Клавка начала запоем читать книжки. Я не возражал: семейной жизни это не мешало. Сыночек наш рос тихим, не капризным; хорошо кушал, много спал, и времени у жены было достаточно. Вот пусть и читает, чего там. Дело хорошее.
Дома всегда был полный порядок, как я и требовал. Я, бывало, задерживался на работе, приходил за полночь. А она всегда ждала; бегала, хлопотала, подавала. И – ни слова против, никогда. Но я часто замечал: глаза красные. Что такое? – книжка, говорит, грустная попалась. Пустяки…
Иногда (редко, правда; что скрывать?) помучивала меня совесть: уж очень я суров с ней… Но, с другой стороны, она же не жалуется, не протестует? И всё у нас хорошо и мирно, любой обзавидуется.
Работа моя нравилась мне всё больше и больше. Увеличивался опыт – увеличилась ответственность. Клава однажды попросила:
— Боря, а расскажи, что ты там делаешь, какие у тебя проблемы?..
Я сначала удивился: зачем ей это? А потом оценил! Ишь, внимательная, заботливая.
— Контролирую я, Клавочка, понимаешь? За каждым нужен глаз да глаз; им только волю дай – сразу распустятся.
— Контролируешь?.. – прошептала Клавочка. – Не про то я, Боря!.. Сам-то ты, лично, ЧТО делаешь?
Вот глупенькая! Я попытался втолковать ей ещё раз.
— Значит, САМ ты ничего не делаешь, — она подняла на меня свои странные глаза.
И тут я сорвался. Живёт на всём готовом, как сыр в масле катается, да ещё и гадости мне говорит?! Мне, крупному работнику!!! Партийцу!!! После тяжелейшего дня!
И я ударил её, не сдержался. Напрасно, конечно: отец маму никогда не бил. Но кто бы это стерпел?! Мать и не заикнулась бы, что отец – бездельник…
…Я ударил её один раз, потом – второй, потом повалил на пол и немного попинал ногами. Но уже не сильно, а так, для собственного успокоения.
Проснулся сын и громко заревел. Я остановился: пусть поднимается и укачивает. Она встала, всхлипывая, и, опустив голову, засеменила к кроватке. А я пошёл спать.
Утром накрыла на стол, как ни в чём не бывало. И я успокоился: осознала, значит.
…А через месяц она мне сказала:
— Я ухожу от тебя, Боря.
Сказала тихо, но спокойно и уверенно, глядя мне прямо в глаза. Вот тебе и новость: я, значит, с работы, а тут – чемоданы собраны. Точнее, один чемодан. Ну и правильно! Здесь – всё моё, кроме её юбок. Но куда?.. А главное – к кому?!
Я почувствовал, как сжимаю кулаки.
— Ударишь, — в милицию пойду, — сказала она вдруг резко. И добавила:
— А отпустишь без шума – даже дяде не скажу, что мы расстались. Тебя ведь за развод из партии в два счёта выкинут. И с работы этой твоей героической – тоже.
Да-да, это я не сообразил! Разводиться-то мне никак нельзя, права эта поганка…
— Так, может, Клава, давай поговорим?.. Ну, признаю, был неправ. Поднял руку на жену… Безобразно поступил! Извини.
Она напряжённо засмеялась:
— Что, струсил?..
И попросила:
— Сядь. Давай напоследок поговорим. Хоть раз в жизни! Не бойся, Боря, я действительно не побегу жаловаться на наш развод, так что останешься при должности и почёте. Я не хочу создавать тебе неприятностей; жизнь сама разберётся. А ухожу я, Боря, потому, что хочу, наконец, вспомнить, что я – человек, а не вещь, — что я – женщина, а не кухонно-прачечно-постельный универсальный агрегат. Что я могу и думать, и разговаривать!
— Так вот, значит, потаскуха, в какую библиотеку ты бегала! – ухмыльнулся я. – Понятно! Нашла себе, значит, душевного кобеля под пару.
— Ты частично прав, Боря. Именно душевного, именно. Помнишь ли ты ещё, что есть такое понятие, или уже нет?.. И ещё тебя объясню, на будущее: самый серьёзный бунт, Боря, — это восстание тихой души. Она долго молча терпит, но когда чаша переполнилась – нет уже ни прощения, ни возврата. Ничего нет.
И она поднялась, давая понять, что больше говорить со мной не о чем. Одела ребёнка и ушла…
Я стоял у окна и смотрел ей вслед: неудобный чемодан оттягивал правую руку, спотыкающийся сынишка тянул левую (он не поспевал за ней; лучше б на руки взяла!). Даже спина её выражала такую ненависть и презрение, что я плюнул и громко выругался. Неблагодарная тварь, и больше ничего. Стоит ли и переживать о такой, как эта?
Поэтому и бумаги о разводе, и отказ от сына (а мой ли он, кстати?..), я подписал легко, по первой же просьбе: испорченные вещи надо выбрасывать, не задумываясь.
…А вот этот сын и искать меня никогда не пытался; не то, что Светкин. Может, и вправду родила его Клавка не от меня, а? Бунт тихой души – явление скользкое…
* * *
— Кактус, я сегодня матрац буду переворачивать, переползай на кресло. Живо!
…О, мука! Она нарочно, что ли?.. Ведь два дня назад переворачивала! (Или три?..). Да-да, ей просто нравится меня мучить!
А больше всего она не терпит, если я хоть что-нибудь ей отвечаю. Только молчать, молчать и молчать. Тем более – никакого собственного мнения. Это её в принципе не волнует, потому что у меня такого мнения быть не должно.
Я теперь – кто?.. Не кто, а что; что-то вроде приложения вот к этому самому матрацу. Только матрац, по мнению Наденьки, гораздо приятнее: он не вякает, когда его не спрашивают.
Иметь какие-то желания мне тоже не безопасно. Да и какие теперь у меня потребности и мечты? – успеть сказать, чтоб «утку» подставила?.. А то опять скандал.
Как же она не понимает, что я ещё, чёрт возьми, жив! Что у меня есть душа и сердце, которые страдают!
Думал ли я когда-нибудь, что больше всего на свете буду хотеть простого человеческого сочувствия? Ну хоть бы разочек спросила, хоть бы когда-нибудь: как настроение, Борис Петрович? Новости бы какие-нибудь рассказала, что хоть в мире делается?.. Газету бы дала! (Ой, нет: очки разбил).
Я уже скоро совсем подниматься перестану. И единственное развлечение – посмотреть в окно! – тоже станет недоступно.
Попросил утром:
— Почитай мне вслух, а?..
Она ведь как раз уселась на свою раскладушку, раскрыла какой-то журнал. Трудно, что ли? Что вслух, что про себя…
…Отказала, обидела:
— Кактус, ты ж глухой. Мне что, надрываться? Мало я на тебя горблю?! Дай отдохнуть!!
Я хотел было сказать, напомнить, что она здесь всё-таки не за просто так, но вспомнил, как она спрашивала:
— А чего ж ты один-то остался? Что, такой хороший – и не нужен никому? Небось, всех разогнал?
Я ничего не ответил: чего в душу лезет? Я ж вот не выспрашиваю… Впрочем, она сама обмолвилась:
— А я тоже ничья, Кактус. С рождения — по детдомам, потом – всю жизнь в чужих кухарках. Так ничего своего и не нажила, кроме болячек… Может, хоть от тебя наконец-то свой угол перепадёт? И исполнится моя шальная мечта: пожить по-человечески, сама себе хозяйка… Телевизор куплю!
Вот так, значит: мечта её – в моей смерти… Наверное, каждый день молится, чтобы поскорее. И на могилу ходить не будет…
Ну почему, почему мне не дано умереть рядом с такими, которые заплачут? Разве ж я не человек? Не убил никого и не ограбил, а если обидел – так что ж? Это жизнь. Разве мало и меня обижали? Если б все мои обидчики вот так улеглись, как я, то на три госпиталя хватило бы. Сколько, сколько мне отпущено ещё этой проклятой жизни?.. Хоть бы, действительно, скорее – и перестала бы душа мучиться, покинула бы разбитое, ни на что не годное, дряхлое тело. Не хочу я быть долгожителем, не хочу. Разве ж я долгожитель? – я долгомученик… Не кричи, Наденька, ну не кричи!!! Встаю уже, встаю; будь ты проклята…
* * *
Клавдия действительно ничего не сказала дяде, и он о разводе не знал (или делал вид?). Я сначала чувствовал себя не очень комфортно, ведь всё по дому – сам; но настроение было бодрым.
О жене вспоминал с брезгливостью: шлюха. Значит, пока я на работе, она… Ещё я мог бы понять, если б лёгкая интрижка или безобидный флирт (ну, как у меня, например. Я ж не святой!), но разбить семью – это предательство.
И я решил, что никогда больше не женюсь. Спасибо, что от Клавки легко отделался! Даже интереснее стало жить: не сковывали больше никакие условности. А женщины – только руку протяни: кавалер я был завидный.
Раздражала лишь бесконечно дурная бабская психология, ведь каждая непременно хотела замуж, и чтобы повыгоднее устроиться. Поэтому я всегда был настороже и никому ничего не обещал. Даже наоборот, сразу ставил условия: хочешь со мной встречаться – никаких проблем мне не навязывай. Тем более, дорогая, про беременность. Не знаю и знать не хочу!
Мне тогда стукнуло уже двадцать восемь; время летело просто незаметно. И тут – одна неожиданная встреча, которая «аукалась» мне ещё долго, спустя годы и годы…
…Было чудное апрельское утро, и я в отличном настроении шагал в свой Обком. И тут – вопль восторга:
— Борька!!! Ты?!
Какая-то женщина повисла у меня на рукаве. Что за фамильярность, кто такая? – незнакомое широкое лицо, но глаза смеются… А впрочем – постой, постой!.. Шурка!!! Ей-богу, она!!! Черногайская!!
— Точно, точно, она самая! Узнал, наконец, чертяка?! А то смотрит, понимаешь, как неродной!
И затарахтела без остановки:
— Борька, это чудо, что мы встретились! Перст судьбы!!! Чего ухмыляешься, — я точно говорю! Я ведь тебя разыскивала, а в коммуналке адрес никто не дал. Говорят, не знаем. Вот жлобы!
И далее, без пауз:
— Мы ж собирается, одного тебя только не пригласили! Юбилей, помнишь? – десять лет как выпустились!
А и точно, я ведь недавно вспоминал: ровно «десятка» в этом году… Одноклассники собираются отметить, назначено через три дня, в воскресенье.
— У Толика Красняна решили собраться; помнишь, где?
Я помнил, конечно. Обрадовался, обещал, что обязательно буду. Пытался дать ей деньги.
— Нет-нет, ничего никто не сдавал, не беспокойся. Договорились, что каждый сам приносит, что не жалко. А хочешь – жену приводи! Хотя вообще-то мы договорились, чтоб только свои…
Я ещё раз твёрдо обещал, весело пояснив, что никакой жены и в помине нет.
— Ну вот и красота! – на прощание мы крепко расцеловались. – Ждём!
И она улетучилась так же внезапно, как и появилась. Уж что-что, а характер у Шурки не изменился! Недаром же мы звали её «Пропеллером»! Ну, немножко располнела, а так – Шурка как Шурка. А мне она сделала комплимент, что я «вот ничуточки, ни капелечки не изменился». Такой же подтянутый и красивый.
Конечно, пойду я на встречу; а как же? Приятно увидеть старых друзей. Она сказала, что все будут? Значит, будет и Иветта…
Да-да, первая моя любовь, Иветта Иволгина. Красивое какое сочетание, правда? И всё в ней было красиво, как у какой-нибудь Василисы Премудрой. Звали её мы все, конечно, попроще: «Ветка».
Но она действительно была как ветка; гибкая, пахучая… И грустная, как птица-иволга. На меня, заноза, — всегда ноль внимания. Долго, долго я за ней бегал – да и плюнул в конце концов. Надо ж и гордость иметь. К тому же она меня однажды оскорбила, и я запомнил: «Скользкий ты, Боря». Не помню, к чему она это сказала; кажется, я кого-то «сдал» завучу…
Точно, так и было! Горохов и Дьяченко разбили стекло в коридоре, а я видел. Завуч пригрозила: «Не скажете, кто конкретно виноват – будете отвечать всем классом!» Очень надо! И я сказал, кто. Сказал открыто и честно, между прочим! А не на ушко в кабинете! При всех! Вот Ветка и облила меня помоями: «Скользкий…»
Да ладно, дело прошлое. Кто теперь это помнит? В воскресенье я собирался как на праздник. Пусть полюбуются! А если ещё и скажу, где работаю!.. Стоп; надо ли? Начнут с просьбами лезть…
«Ладно, там будет видно», — решил я напоследок. Нагрёб из своих запасов чего получше, не поскупился, и отправился на заветную встречу.
Хороший выдался день! Посидели, посмеялись; сколько вспомнили! И Веточка моя пришла… Изменилась, голубушка. Похудела, глаза стали ещё больше и грустнее. Но от этого Ветка только покрасивела. Тень загадочности легла на её смуглые щёки; она улыбалась одними только губами, а глаза – глаза хранили целое море готовых слёз.
Я, конечно, потом подсел к ней, приобнял (когда уже выпил). Она не отстранилась а, наоборот, глянула благодарно. Вино развязало мне язык:
— Помнишь, Веточка, как я любил тебя, а? А ты – нет… А я, Ветка, и сейчас ещё, если честно…
— Брось, Борис, ни к чему это.
Но она меня снова зацепила. Да и как это – ни к чему?! Я свободный человек, между прочим! И, если у неё никого нет… Я спросил об этом.
…Ну вот, отвернулась. Плачет…
— Извини, Веточка, я не хотел сделать тебе больно; извини!..
Я гладил её по хрупким плечам, бормотал какие-то несуразности, которые так любят женщины… Со встречи мы вышли вместе: я твёрдо решил проводить Ветку домой. По дороге она неожиданно разоткровенничалась; то ли вечер был так хорош, то ли уж очень наболело, но поделилась она со мной от всей души. Видно было, что рассказывает это впервые. Она и всегда была замкнутая, не особо разговорчивая.
Вот что оказалось: муж её три года назад получил производственную травму; остался, бедняга, без правой руки.
— Понимаешь, Боря, он делом любимым теперь не может заниматься! Называет себя мертвецом, жить не хочет…
Да, это горе.
— А он у тебя кто? Художник, музыкант? – спросил я сочувственно.
— Нет; почему? – удивилась она. – Слесарь он, очень классный слесарь. Был… — она снова заплакала.
— Давай помогу на работу устроить! – тут же предложил я.
— Да не в работе дело, — она решительно вытерла глаза. – Он сторожем служит!.. Он… ты понимаешь… пьёт он беспробудно. Вот…
— Ты любишь его, Ветка? – мне было очень жаль её, очень.
— Люблю? – переспросила она. – Не знаю; может, и люблю. Благодарна я ему, Боря. Я ему всем обязана. Если б не он… Помнишь, когда отец…
Конечно, я помнил и это. До выпускного оставалось полгода, не больше. Тогда как раз и мама моя погибла… Все шушукались: Степана Михайловича Иволгина арестовали. Веткина мать умерла ещё во время войны, и девушка осталась совсем одна. Как и я…
Но у меня всё же была своя комнатка, а Иволгины жили на квартире. Хозяйка прогнала Ветку на другой же день.
Говорили, что её приютил какой-то пятиюродный брат, седьмая вода на киселе; старше её лет на десять. Так вот, оказывается, за кого она потом вышла замуж! Шустрый «братик», ничего не скажешь…
Но сейчас я не произнёс этого вслух. Обидится! Вот она про него с каким уважением… Спас!
— Лечить пробовала? – закинул я.
— Где там; не хочет, — вздохнула Ветка. – Знаешь, я уже устала его, пьяного, под заборами разыскивать. Один раз, зимой, чуть не замёрз насмерть; спасибо, соседи увидели. Я и рожать от него боюсь, Боря. Мало ли… А так, знаешь, маленького хочется! Ведь и «тридцатник» не за горами…
Тут мы уже пришли, и Ветка, показав мне свои окна, убежала. Я на прощание успел стиснуть её в объятиях, торопливо чмокнуть в губы, шепнуть:
— Веточка моя, я всегда думал о тебе!
Возвращался я к себе долго и медленно; спать совсем не хотелось. Всё думал, думал… Наутро пошёл на работу с больной головой, и целых три дня не находил себе места. А на четвёртый – пошёл к её дому, решил дождаться.
Она увидела – обрадовалась, я сразу это заметил. Тоже, наверное, думала обо мне. Сказала, что муж сегодня дежурит в ночь, и мы долго бродили по городу, болтая всякие глупости. Понял я, что влюбился не на шутку. Полюбил второй раз свою первую любовь; вот ведь какая штука.
Веточка откликнулась на моё чувство, и мы начали встречаться, но её ненормальное, какое-то патологическое чувство вины очень мешало нам обоим.
— Но ты же любишь меня, правда? – спрашивал я в сотый раз, чуть она начинала хмуриться. – Ну не терзайся ты так, не надо! Скажи ему всё – и переходи ко мне. Я сделаю тебя счастливой, Ветка! Обещаю, ты не пожалеешь!
Она и плакала, и смеялась:
— Это невозможно, Борька! Он погибнет без меня, понимаешь? И я себе никогда не прощу.
В конце концов мы даже разругались:
— Он погибнет! – кипел я. – А я, значит, и дальше должен мучиться? Я жить без тебя не могу, пойми, наконец!!
И она сказала, что нам нужно прекратить всё это. Прекратить – и точка.
— Тяжело себя предательницей чувствовать, Борис. Даже если любишь… Тебе хорошо – ты же никого не обманываешь.
И добавила решительно, что больше не придёт. Я, конечно, ещё ходил за ней, клянчил… Но она объявила:
— Борис, он мне твёрдо пообещал взять себя в руки. Неделю уже не пьёт.
Ну-ну, совет да любовь!.. А вот я пришёл домой – и напился. Хорошо, что назавтра был выходной; так целые сутки и проспал. Потом решил: нет так нет. Пусть и дальше нянчится со своим пьянчугой, вытаскивает его с того света. Сама выбрала!
Подружек хороших у меня всегда было предостаточно, и я довольно быстро утешился; по крайней мере, искать и унижаться больше не тянуло. Прошло то ли шесть, то ли семь месяцев, и Ветка сама меня нашла. Стояла возле моего дома, как я когда-то – возле её. Я увидел – чуть сердце не лопнуло; а ведь думал, что всё прошло…
— Здравствуй, Веточка!
Мы поднялись ко мне; я бережно вёл её под руку, нежно поглаживая запястье. Значит, всё-таки решилась? Я боялся спросить, поставил чайник, начал что-то нарезать… Сама всё сказала:
— Борис, он умер. Не пил, не пил, — а недели три назад как сорвался!.. И, пока я на работе, из нашего окна вниз головой…
Ничего себе, ведь пятый этаж!.. Я побоялся даже представить, что она увидела. Бедная, бедная… Ну что ж, земля ему пухом, глупому.
— Веточка моя любимая, всё уже прошло, не плачь! Ты ведь любишь меня, правда, любишь? И мы теперь будем вместе, всегда!
— Если захочешь, Боря, — она смотрела как-то напряжённо. – Есть одно обстоятельство.
— Что ещё, Ветка?! Разве теперь что-нибудь имеет значение, кроме нашей любви? Никаких помех больше быть не может!
…Сюрприз!.. Веточка моя, оказывается, беременна. Четвёртый месяц как… Ах ты, сказка моя со страшным концом!
У меня, наверное, сделалось такое лицо, что Ветка решительно поднялась и молча пошла к двери. А я – автоматически – за ней. У выхода оглянулась в последний раз:
— Прощай, Боря. Счастья тебе.
Прощай-прощай… Нет, Ветка, не побегу я больше за тобой вслед, хоть ты, наверное, и надеешься. Идёшь вниз медленно, считаешь ступени? Напрасно. Можешь идти быстрее. Никогда я не смогу принять чужого ребёнка, любимая. Правильно ты меня поняла. Иди и не оглядывайся.
…Жива ли она ещё теперь? Вряд ли. Наверное, я один из нашего класса дожил до этого никому не нужного возраста? Эх, Веточка; а, может, ошибся я тогда? Ведь бывает, говорят, что чужие дети больше любят, чем родные… Всё-таки, Ветка, была ты той самой одной-единственной женщиной, которую я любил по-настоящему. Спасибо тебе за это…
* * *
— Кактус, а что такое «Шерше ля фам», а? Знаешь?
Я вздрогнул и проснулся. Это одна из самых отвратительных привычек Нади: заорать чуть не в ухо, когда я начинаю дремать. Она бесится, если меня днём клонит в сон.
— Ночью спи, как все нормальные люди! – возмущается она, разбудив. – А то потом до утра мне от тебя покоя нет!!!
Возможно, она и права. Выспавшись днём, я ворочаюсь всю ночь; и так мне неудобно, и этак… А то бывает – страшно почему-то станет, так страшно!!! Начинаю звать Надьку, просить: посиди со мной! Или хоть попить дай… Ночная тишина напоминает мне могилу; и кажется – засну и больше не проснусь.
Умолял даже Надежду: перетащи свою раскладушку ближе к моей кровати, чтобы я тебя видел всё время! Может, перестанут мои ночи быть такими жуткими.
Так нет же, посмеялась только:
— Ишь, старый развратник! Бабу ему под бочок! Облезешь!
……… — Ну? Знаешь или нет?! Ты ж грамотный!
…Что она хочет? «Шерше ля фам»?
— Это значит «Ищите женщину», Надя.
— Интересно! А это по-какому?
— По-французски, — я открыл глаза; сон действительно пропал. – А ты откуда взяла?
— Да вот, в журнале. Слушай, Кактус, а чего её искать, эту женщину? Или у этих французов, как и у тебя, одни только «лямуры» в голове?
— Не знаю. Это так говорится; что, мол, как бы там ни было – а всегда по сути замешана женщина.
— Вот-вот, — закивала Надежда. – Вечно у вас баба во всём виновата. Сами накуролесят – и «Шерше ля фам»! Ишь, ловкие какие!
…Вряд ли Надьке действительно так уж хотелось знать про это. Главное было – меня разбудить. Чтоб тебе, Наденька, тоже так довелось полежать, как мне…
* * *
…Вот взяла и напомнила про Шершелу. Знать бы: где она, что с ней? Может, всё-таки выжила? Крепкущая ведь была старуха, стальная!
…Помню, году в шестьдесят пятом, что ли, шёл я однажды по улице – и вдруг (глазам своим не верю!) впереди, в двух шагах, — Шершела. Она, она, точно!
Я чуть не захлебнулся, кинулся за ней. Зачем? – а кто его знает?
— Серафима… Серафима…
(Да как же её?!!! Вспомнил!!)
— Серафима Платоновна!!
Догнал, заглянул в лицо. Нет, не она.
— Что вы хотели, молодой человек?
— Извините, обознался.
…А если б это была она? Что б я ей сказал? «Здравствуйте; а вы, оказывается, выжили?» Дурак дураком. А ведь бежал, спотыкался… И целый день был сам не свой. Я, я её…
Может, всё-таки совпадение? Даже наверняка!.. А, может, она и вправду – шпионка какая-нибудь? Разоблачили, и всё.
Может, я, наоборот, спас нас всех!!! Может? Может, может…
— Кактус, не спать!!
* * *
Через какое-то время неожиданно умер мой покровитель, Завгородний. Скончался скоропостижно, полон планов и сил. Как красиво сказали, «сгорел на работе».
Похороны ему устроили пышные, с почётным караулом и орденами на подушечках. Съехались толпы руководителей разных калибров со всей области; я даже позавидовал такому представлению.
За гробом скорбно тащилась вдова, вся в чёрном с головы до пят; и шагали два взрослых сына. Их я знал хорошо: тоже наши работники. Мне выпала честь пристроиться распорядителем, и я везде мелькал с траурной повязкой на рукаве, отдавая отрывистые команды.
Я так увлёкся этой ролью, что забыл посмотреть, пришла ли Клавдия? Племянница всё-таки, как-никак. Она, собственно, была мне не нужна, а просто разбирало любопытство: какая она теперь стала? Как на меня посмотрит?
Но вспомнил о ней уже поздно, когда разъезжались от кладбища. Поискал глазами и не нашёл. А на поминки я не поехал; были другие важные дела.
А что такое поминки? Пьянка и больше ничего. Свой долг покойнику я отдал, бросив три положенных горсти земли в яму. Спи спокойно, дорогой товарищ, ты честно и бесстрашно… (и так далее, и так далее. Траурный митинг очень затянулся).
Итак, Завгородний покинул этот мир, и меня стали «затирать». Я сразу почувствовал. Ведь я был его человеком, это знали все. Новое начальство всюду понатыкало своих, и карьера ближайших помощников «бывшего» — можно сказать, замерла. А у некоторых – рухнула.
Вот так началась длинная цепь моих неприятностей, больших и малых. Что бы я ни делал, теперь было не то и не так. «Не успел», «не догадался» и «не учёл» — это было почти всё, что мне приходилось отныне выслушивать. Но я смирился и понял, что так лучше. Главное – не высовываться и не стремиться выше, и можно спокойно пересидеть и дальше. А там, глядишь, что-нибудь изменится; жизнь есть жизнь. Сегодня – чёрная полоса, а завтра – опять весна и солнышко.
Я бы даже сказал, что мне это пошло на пользу. Всё-таки, что ни говорите, а человеку время от времени нужны трудности. Они помогают пересмотреть и переоценить многое. И вообще, философское отношение к жизни делает последнюю намного спокойнее. Я даже увлёкся этой теорией, но тут меня вызвали в профком:
— Борис Петрович, вы уже несколько лет живёте один, не так ли? В двухкомнатной, довольно большой квартире?
Я подтвердил, не понимая, однако, к чему этот разговор. А вот к чему:
— Квартиру дало вам государство на семью; а вы, насколько нам известно, жениться не собираетесь? Так неплохо бы вам (в порядке партийной дисциплины и с общечеловеческой точки зрения) поступить максимально по-товарищески!
Пока профкомша несла всю эту ахинею, я мучительно соображал, к чему она клонит. Забрать квартиру никто не имеет права, но… Ах, вот оно что, наконец-то договорила:
— Профком просит вас: пусть Гусятников поживёт во второй комнате. Временно, Борис Петрович, не волнуйтесь! Сами поймите: мучается молодой работник в общежитии, в комнате на шестерых!
Вот ситуация! Попробуй, скажи «нет»: только идиот не знает, что Антоша Гусятников – родственник нового «первого», дней пять как прибыл в наш город и тут же попал в «ценные кадры». Молодой и растущий. Уже, значит, и «намучиться» в общаге успел, не прошло и недели.
Я даже поперхнулся от такой перспективы, но, пока откашливался, выиграл несколько секунд, сообразил:
— А я, видите ли, Марина Кирилловна, как раз жениться собираюсь. Послезавтра заявление подаём.
«Молодец!» — похвалил себя за находчивость. У профкомши сделалось такое лицо, как будто она съела кило лимонов.
— Ну что ж, — скривилась недовольно. – Желаю счастья.
Я выскочил из кабинета пулей, пока она хлопала глазками. А то сейчас ещё какой-нибудь «вариант» предложит. Ясно, что не от себя спрашивает: «первый» велел. Сейчас ещё вернёт и выдаст, что мы и втроём неплохо разместимся.
Ну нет!!! Я ту же отмёл подобное посягательство и решил: если опять пристанет – скажу, что невеста беременная!
Целый день я не мог прийти в себя: надо же, что придумали! Да, плохо без Завгороднего, плохо. Так и совсем затюкать могут. Немного успокоившись, я понял, что не решил проблему, а как раз наоборот, усугубил. Ведь насчёт женитьбы эта старая сплетница проверит, можно не сомневаться. И тогда – держись!
Я не спал всю ночь, а к утру придумал неплохой выход: найду-ка я, действительно, какую-нибудь провинциалочку (попроще, без претензий); заплачу ей – и всем хорошо. «Фиктивный брак» — кажется, так это называется? Не хочется, конечно, пачкать паспорт лишним штампом; ну да ничего: через годик, глядишь, и разойтись можно. Надеюсь, к этому времени Гусятников решит свои жилищные проблемы?
Дело не требовало отлагательств, и я на другой же день съездил в общежитие мебельной фабрики. Комендантом там оказалась женщина, что само по себе было добрым знаком: с прекрасным полом я всегда договаривался значительно быстрее.
Взглянув на неё, я сразу понял, что здесь надо говорить чистую правду и не поскупиться. Если начать плести что-нибудь полуправдивое, жалостливое, — такая тётка моментально раскусит, сделается подозрительной и, конечно, не поможет. Да ещё и разболтает!
Поэтому я пригласил её «на пару слов» и тут же вручит солидную купюру:
— Помогите. Это – аванс; потом – ещё столько же.
И она поняла, что дружить со мной – выгодно. Пригласила к себе в «кабинет», и через полчаса дело было на мази.
— Есть кого порекомендовать! – заключила она. – То, что вам нужно.
И крикнула дежурному:
— Иван Васильевич! Пригласи-ка ко мне Дроботову, из сто первой.
Дроботова оказалась под стать комендантше: несинтементальная и понятливая. Выслушала, спокойно спросила:
— Сколько?
Сумма её вполне устроила; ну и плюс прописка, конечно.
Значит, в пятницу – в ЗАГс. Потом пусть переедет ко мне («Только смотрите, Борис Петрович, без глупостей. У меня жених есть!»), поживёт с месяц-другой, чтоб все видели. И так далее. Все детали плана мы обсудили сразу.
Уходил я очень довольный, приплатив комендантше ещё столько же «за успех».
…Всё прошло гладко; на работе тут же узнали, что я женился, поздравляли, жали руку и требовали магарыч. Я весело отнекивался и отшучивался.
— Зажал, зажал свадьбу! – хмуро бросил мне «первый», злобно улыбаясь.
«Скалься себе, сколько хочешь! – мстительно думал я. – Что, не удался твой план?! Хотел меня потеснить, а потом – и выжить, да? Нако-ся, выкуси».
С разводом я не спешил. «Жена» помелькала немного, чтоб в подъезде привыкли, да и не появлялась больше. Ну разве что иногда, за деньгами (мы договорились о ежемесячной награде).
Комар носа не мог бы подточить, но спустя полгода Дроботова сказала:
— Пора бы нам и развестись, Борис Петрович.
— Да, теперь можно, — согласился я. – Уже и сам думал. Вот завтра и сходим. Ты как?
— Завтра так завтра, — кивнула она.
Я отсчитал ей «последний взнос», и она ушла, как обычно.
Но завтра меня ожидал большой-большой сюрприз. Дроботова пришла не одна, а с кавалером, и он мне заявил:
— Значит так, бывший муж. Подаём сразу и на развод, и на размен. Понял? Каждому – по однокомнатной; это будет справедливо!
— На какой размен?.. – обомлел я, косясь на внушительные кулаки воздыхателя «жёнушки».
— На обыкновенный! – сплюнул тот и захохотал. – А ты, фраер, думал на ёлку залезть и задницу не ободрать, а?!
И они заржали оба.
— Да я… Я… — брыкался я как младенец.
— Я-я! Рога у бугая! – передразнил кавалер. И добавил, торжествуя:
— А Зоенька-то беременная, милый! Если будешь выступать – ещё и алиментики отсудим. Просёк, папаша? И заметь: всё законно и документально.
Вот оно как… Так что разменялся я – и не пикнул. Легко ещё отделался! Дроботовой досталась квартира побольше, а мне – поменьше и похуже; вот эта самая, в которой и доживаю сейчас.
На работе сразу узнали: хихикали в спину и радовались. «Почему, почему люди так падки на чужие несчастья? – думал я тогда. – Хлебом не корми, дай только посмаковать чью-то беду!» Но на словах, конечно, сочувствовали, лицемеры. Жалели:
— Ничего, Борис, бывает. Встретишь другую, молодой ещё!
Хорошо, что они не знали всей правды. Я выглядел жертвой, брошенным мужем, и поэтому по службе меня стали напрягать значительно меньше. Как-никак, личная драма у человека!
Но забылось и это. Конечно, мне до сих пор бывает досадно: дал обвести себя вокруг пальца как последний дурак! А с другой стороны – Дроботова, действительно, могла бы меня в отцы определить. Вот смеху было бы! – до восемнадцати лет кормить чужую проблему! Легко, легко отделался…
…А Надька считает, что наш с нею «союз» — самый настоящий.
— Только жена может всё это вытерпеть! – заявляет каждый день. – Тут как кому повезёт: одна моя знакомая за своим мужиком десять лет ухаживала, пока не помер. Намучилась!
Надя-Наденька, что ж ты меня на тот свет так безжалостно выпроваживаешь, а?.. Кто знает? – может, я ещё оклемаюсь, стану на улицу выходить? Никогда бы не поверил, что можно так тосковать по людям!
Эх, посидеть бы сейчас где-нибудь на скамеечке в скверике; так, по-стариковски. Голубей бы покормить, что ли; газетку почитать! На мамаш с колясками поглазеть, с пенсионерами новости последние обсудить. Вспомнить что-нибудь… Ну чтобы хоть кто-то послушал, покивал, поддакнул. С Надькой и поговорить невозможно, на всё у неё один ответ:
— Мне за разговоры никто не доплачивает! Ишь чего! Мало мне работы, что ли?! Развлекать тебя ещё?!
Хотел радио попросить – обругала; а телевизор давно сгорел. Чинить не хочет, жадина; хоть и самой скучно – нет, и не сдвинется. «Дорого!» — и всё тут. «Потом, — говорит, — новый куплю». Когда это «потом»?
Знаю, когда… А мне, значит, уже не придётся… Мечтаю каждый день: мне бы хоть до лифта добраться, а там – съехал, и уже на улице. Но это невозможно, да и лифт у нас почти никогда не работает. Это тоже повод к Надькиному недовольству:
— Из-за тебя, Кактус, туда-сюда мотаюсь, как ишак!!! Как коза горная!
Интересно, а гроб как будут отсюда спускать: в лифте или пешком? Наверное, пешком… В лифте можно только вертикально.
Я хмыкнул, представив себе эту картину: я – в гробу, а Надька – параллельно; прижимается ко мне, чтоб не выпал. Вот это эротика!
* * *
В тот день, когда въехал я на свой распроклятый девятый этаж, то первые часы не мог даже находиться здесь. Из окна смотреть было жутко, не привык я к такой верхотуре. Спустился вниз и весь вечер бесцельно слонялся по пустынному скверу.
Стояла чудная майская погода, повсюду полно было молодых и влюблённых. А пожилые – густо лепились на скамейках, жадно вдыхая целебный аромат остывающей травы. Хорошо!..
Я даже чуточку успокоился, тоже примостился на дальнюю скамью, совсем пустую. Вскоре ко мне вежливо подсел какой-то старичок:
— Извините, вы не возражаете?
Я не возражал. А старичку, видно, хотелось поговорить:
— Благодать-то какая, не правда ли?
Я молчал.
— А у меня вот ревматизм разыгрался, — пожаловался он. – Выполз поразмяться: может, отпустит? Как вы думаете?
Я, помнится, нагрубил ему. Мол, у меня своих забот полон рот, зачем мне слушать его предсмертные вздохи? Да, точно; так и сказал: «предсмертные». И ещё добавил, что его маразматические проблемы меня не касаются.
Он, видно, не ожидал моего хамства (иначе б разве подсел?) и напророчил язвительно мне в спину:
— Ничего, молодой человек; здоровье – это недостаток, который с годами проходит…
…Ах, как он был прав! Ведь, случись чудо и выйди я сейчас на то место, — мне и пожаловаться будет некому. Ни на ревматизм, ни на маразм. Если бы я его тогда выслушал! – хотя бы просто выслушал…
Молодость-молодость, как же ты слепа в своей глупой вере в неистребимое здоровье! Как самонадеянна…
* * *
— Надя, у тебя дети есть?
— Что?.. – она замерла; ложка застыла на полпути к моему рту (было время обеда).
— Что? – повторила она. – Дети? А ты, наверное, усыновить хочешь?
Чего ж так рассердилась? Мне ведь просто интересно, вот и всё.
Но она не ответила, вскочила и вышла. Ну ладно, чего там… Мне-то какое дело, если разобраться? Чего в душу лезу? Наверное, я просто неблагодарный: её пенсия плюс моя – деньги, как ни крути, небольшие, а Надежда умудряется и лекарства купить, и за квартиру заплатить. И чисто у нас: бельё вовремя сменит, комнату проветрит. И даже раз в неделю обязательно меня искупает. Сильная, как мужик! – и в ванну уложит, и из ванны вынет. И помоет, как ребёнка: с головы до пят. Ничего не стесняется.
Да и я уже давно перестал стесняться. Зачем?.. Кого?..
Не буду больше про детей спрашивать, раз ей так неприятно. Но Надька вернулась, подсела ко мне.
— Слушай, Кактус, может, хоть ты меня рассудишь?.. Никому ведь не говорила, всю жизнь молчала. Тяжело, не могу больше…
И она начала рассказывать. Я слушал внимательно, не задавая вопросов и не перебивая. Пусть выговорится.
— Понимаешь, я всю жизнь одна и одна… В домработницах да няньках. Нанялась я как-то в хороший дом кухаркой, мне и жить там разрешили. Сытно было, спокойно. Хозяин – профессор каких-то наук, а жена – как барыня, на всём готовом на его денежки. Люди нескандальные, хоть и богатые. А приехал к ним в гости ученик профессора, тоже уже знаменитый да холёный. Хозяева на него прямо не могут надышаться, чуть не целуют с ног до головы. Такой он им милый и родной, прямо дальше некуда! Своих-то детей Бог не дал, так они возле него целый месяц бегали: ах, Сашенька-Сашунечка; дорогой, золотой, ненаглядный! А особенно профессорша; чуть не плачет от счастья.
Мне тогда уже давно за тридцать перевалило, но была вовсе не урод. Так вот, этот Сашуня и подвалил ко мне, но потихонечку, хозяева и внимания не обратили. А я ж тоже не святая, понимаешь? Вот и сошлись мы с ним… У меня своя комнатушечка была, около кухни, так он ко мне по ночам – шасть! Я пускала с радостью, чего там…
Ну, время вышло – и уехал он. Обещал через годик-другой опять прибыть; хозяйка всплакнула на прощание. И мне тяжело: всё ж таки не чужие мы стали…
И вот на тебе: оказалась я беременная! Я ж думала, что неспособная, понимаешь? Ведь случался грех, и не раз; я и не так, чтобы особо береглась – а ничего раньше и не было!.. Как поняла я про свою заботу – чуть не рехнулась. Куда я с дитём, а?!
Думала-думала, ничего не надумала, решила хозяйке открыться: может, чего посоветует? Всё равно ведь, рано или поздно, а сказать придётся.
Объяснила, значит, я ей всё. А она уставилась, как баран на новые ворота, и талдычит одно и то же: «Идите на аборт». А про Сашеньку своего разлюбезного сказала, что он женатый. «И вообще, — говорит, — разве вы, Надя, пара ему? Сами подумайте: кто вы, а кто – он?»
Ох и рассердилась я, разобиделась! Не пара, значит? Как таскаться со мной хотел — так пара, а как отвечать – «идите на аборт»? Ну, думаю, вот назло вашему знаменитому возьму и рожу! И его в папаши запишу, как положено!!! Так и заявила хозяйке, вот!
А она мне: «Значит, собирайте вещи, — и чтоб духу вашего здесь через час не было!» Выгнала, короче. А я сгоряча всё в сумку побросала – да и была такова! Уже на улице поостыла; походила-подумала, что правильно мне она про аборт сказала… Хотела уж вернуться, прощения попросить. Такое ведь место хорошее, мне во второй раз вовек так не устроиться! Сунулась было в подъезд, но гордость проклятая взяла верх; вспомнила, как она сказала, кривясь:
— Ума не приложу, что мог Сашенька найти в вас?.
Что ж я, не женщина, что ли? И чем я хуже той Сашенькиной жены, чем?! И решила я родить, твёрдо решила. Что ж одной на белом свете маяться; годы-то идут…
Решила – и сразу легче мне стало, уверенность появилась, что всё я делаю правильно. Тут же, к вечеру, и устроилась к одним людям; были у меня кое-какие знакомства.
Конечно, уж такого житья, как у профессора, никогда бы мне не найти, но тоже жить можно. Пристроилась, значит, и жду. Сходила в ЖЭК, попросилась в дворничихи; чтоб, значит, служебный угол дали. Это мне одна толковая старуха присоветовала.
От хозяйки новой я ничего не скрыла, сказала, что временно я у неё. Скоро уйду, потому что устраиваться надо с дитём. Ну, ей-то что? Временно так временно, другую найдёт.
В ЖЭКе пока места не было, и я сходила ещё и в другую контору, в третью… Пока неудачно, но в одном месте обещали месяцев через пять. Вот, думаю: буду наведываться, ждать, чтоб не забыли про меня, ведь не зря говорят: открывают тому, кто стучит.
Так и жила помаленьку, надеялась. Но время идёт – а обещанье как было обещанием, так пустым звуком и оставалось. Я уж не на шутку издёргалась: ведь вот-вот родить! И куда я тогда?
Управлялась я по хозяйству легко, всё успевала, и меня с места не сгоняли. Сказано ведь: сама уйду, когда надо будет. Значит, хозяйка и не спрашивает. Ей-то что? Главное, чтоб дело было сделано, так?
…Ну вот, значит: уж мне родить через неделю; самое большее – через две; а в том ЖЭКе всё отнекиваются. А потом и вовсе сказали: извините; раньше, чем через года полтора – ну никак. Да и то!..
Так что собрала я свой чемоданишко, хозяйке сказала, что ухожу. Она мне: «Счастливо, милая!» Ну, и денег дала; расчёт, значит, сделала окончательный.
А я – сама в роддом поехала. Знаю, что ещё не сегодня рожать, а попросилась: соврала, что чувствую себя скверно. Поверили, положили. Мало ли, всё-таки мне вот-вот…
Десять дней я пролежала, ожидаючи. Другим женщинам как? Всё ноют, хоть бы поскорее, — и домой. А я Бога молю, чтоб не так быстро. А сама всё думаю, думаю… Вот рожу, вручат мне ребёнка и выставят за двери; и куда?.. Куда?!
…Эх, Кактус, хорошо тебе, что ты не бабой на свет родился. Вам, мужикам, лишь бы дело сделать; а отвечаем всегда только мы…
Наступил и день родов. Приготовилась мучиться (наслушалась всякого, сам понимаешь!), а вышло – легко отделалась, быстро. Покричала совсем чуть-чуть, позвала «мамочку» (почему все бабы вопят «мамочка», а, Кактус? Не знаешь?), которой у меня отродясь не было… А нет, была ведь, как же иначе? Тоже, наверное, вопила, когда меня рожала! А потом – оставила меня, двухнедельную, на привокзальной скамейке: ни документов при мне, ни письмеца. Потому и фамилию мне придумали: Скамейкина…
…Да ладно, что это я про неё вспомнила; её, небось, уж и на свете нет.
Родила я девочку; хорошую, большую. Три килограмма и девятьсот граммов. Ну, рада, конечно; а в голове так и сверлит, так и сверлит: и куда ж я с ней?.. Но чтоб бросить – и не думала, ни-ни; не смотри на меня так, Кактус!
Другое дело вышло: в одной палате со мной лежала женщина; вместе и рожали, в один день. Тоже девочка у неё народилась, только, понимаешь, мёртвенькая… Уж как она плакала-убивалась!
Нас в палате было четверо, всем – детишек носят на кормёжку, а ей – нет… Она даже выходила каждый раз в коридор, чтоб не видеть. А я к ней однажды подошла, начала утешать: ничего, мол, ещё родишь. Всё впереди! А она говорит, что нет; сказали врачи, что это был один только шанс. И опять в рёв, аж трясётся.
Ну, а я ей про себя рассказала, что не у неё одной – беда. Она слушала-слушала, а потом вдруг как пристала: отдай мне свою девочку, отдай! У меня будет на всём готовом, а ты, говорит, намучишься, а потом всё равно в детдом сдашь. Кто ж тебя наймёт с ребёнком?
Я сначала – ни в какую; а потом поняла: она верно говорит. Погибель мне с ребёнком.
…Вот так и отдала, Кактус, я своё родное дитя, доченьку свою кровную. Перекрестила напоследок – и отдала. А Людмила (ту женщину так звали) со своим мужем в один момент всё оформили, приплатили, где надо. И вышло по документам: моя дочка померла, а не их…
Выписалась я, значит, да и на прежнее место заявилась; меня и взяли. Поохали и пожалели даже; я ж им сказала, сам понимаешь, что. Тебе первому, Кактус, на всём белом свете открываю, что дочка моя жива-здорова, что лет ей сейчас уже двадцать пять. Может, и замужняя, и детки есть… Дай им Боже здоровья, внучатам моим…
…Думаешь, Кактус, не хотела я её найти?! Ох, как хотела; хоть одним глазком, хоть издалека глянуть, какая она, голубушка? Так ведь Людмила тоже умная оказалась: так спряталась, что не нашла я их, как ни старалась. То ли фамилию сменили, то ли переехали от греха подальше, — не знаю. А ведь и правильно сделали. Понимала она, что я начну искать и тосковать; тоже ведь не каменная.
…Ну что, Кактус, кушать давай! Каша из-за моей болтовни, смотри-ка, совсем холодная. Да ты не обижайся, ладно? Открывай лучше рот!
* * *
«Век живи – век учись», — это сейчас как раз про меня. Вынужденное безделье заставляет меня думать, думать… Лежу и учусь на собственных воспоминаниях; только вряд ли эта наука пойдёт теперь на пользу: у меня больше нет времени на жизнь.
Попросил Надежду дать мне водки, а она раскричалась опять:
— Ишь, чего выдумал! Мало того, что лежишь как колода, ты ещё и алкоголиком хочешь стать?! Жить надоело, да?!
— Надоело! – крикнул я. – Ты ж ведь только и мечтаешь, как меня отнести! Налей водки, будь человеком!
— Нет!!! – рявкнула она. – А что мечтаю я или не мечтаю – не твоё дело! Бог сам решит, понял?.. Я тебе в этом не помощница!
…А ведь я пил когда-то крепко, было дело. И действительно чуть не стал алкоголиком…
Когда переехал в эту квартиру, сразу перестал уважать себя. И не в том даже дело, что провели меня, как последнего дурака. Главное, что меня как будто с корнем вырвали. Никогда не думал, что привычные, даже надоевшие лица соседей и знакомые улицы, по которым я ходил каждый день, так нужны мне. Было неуютное ощущение, что меня забросили куда-то на Луну…
Конечно, оставалась прежняя работа и всё те же сослуживцы; но я каждый день ловил себя на мысли, что не хочу идти домой. Не хочу!..
С женщинами проблем не было – этого добра всегда хватало! – но перестали они меня радовать. Раньше как было? – с удовольствием ждал вечера, а сейчас начал ненавидеть и вечера, и выходные, и праздники. Вот так и вышло, что раз-другой подошёл я к мужикам на улице, сообразили «на троих». И сразу стало легче; так и втянулся. Появились постоянные приятели, ценившие меня за то, что имел я свободную квартиру «без баб», которые всегда мешают расслабиться настоящим мужчинам. Эти жёны, а особенно тёщи, — самые противные создания на свете, не понимающие душевного космоса того, кто живёт с ними рядом.
Теперь и на работу я иногда прибывал навеселе. Нет, не так, чтоб очень заметно, но от меня попахивало. А как же без опохмелки?..
Эх, глупый! Я сам подал отличный повод своему мстительному начальству, не забывшему истории с Гусятниковым. Тот-то, кстати, быстро пошёл вгору и стал говорить мне «ты», в то время как я смиренно величал его Антоном Викторовичем. Мой пост ведь не шёл ни в какое сравнение с его должностью!
…Итак, вызвал меня «первый» и строго сказал: «Борис Петрович, ваш моральный облик стал отвратителен!» Он умело приплёл сюда и два моих развода, (чувствовалось: подготовился!), и «нездоровое увлечение спиртным»…
— Говорю вам, Силин, как товарищ по партии: чтобы уладить всё без шума, я, жалея вас, предлагаю: напишите-ка заявление «по собственному». Вы меня поняли? Получите неплохую характеристику, я обещаю. И, если возьмёте себя в руки, всё устроится. Если же нет…
Остаться на старом месте и «взять себя в руки» у него на глазах – не предлагал. Я понял: он давно искал, за что меня можно убрать. И мои нынешние деяния – ему это просто подарок, золотой букет.
— В том случае, если вы не захотите уйти сами, я вынужден буду вынести вопрос на публичное обсуждение, — заключил он жёстко.
То есть он уволит меня по статье… А это – волчий билет; попробуй с такой записью в «трудовой» найти приличное место.
Я не стал тянуть, в тот же день и написал бумагу на уход. Думал, обяжут меня два месяца ещё отработать, как тогда полагалось по закону. Так ведь нет!
— Борис Петрович, — проворковала мне кадровичка-гадюка, которую местная молва давно числила любовницей «первого», — мы решили пойти вам навстречу и не задерживать ни на один лишний день. Так что завтра уже можете не выходить. Удачи вам на новом месте!
Змеюка!!! Чтоб тебе на том свете так «помогали»!
Но куда ж денешься?.. Я зазвал к себе родную алкогольную «троицу», и мы отметили событие на славу. Я не просыхал дней пять, причём смутно помнил, что происходит: день и ночь сцепились в памяти во что-то большое, серое и туманное. Кажется, мои друганы ночевали тут же, и, вроде бы, кого-то из них прибегала искать разъярённая супруга.
…Когда я пришёл в себя до такой степени, что начал узнавать собственную квартиру, обнаружил под глазом здоровенный синяк: то ли чужая жена «приварила», то ли кто из приятелей выяснял, до какой степени я его уважаю. Может, и я кого-то украсил? – не помню…
Ну, как бы там ни было, а на работу устраиваться пора: вот-вот кончатся последние деньги. Про то, чтоб вернуться к шофёрству – и речи не могло быть: я привык к чистому кабинету.
И вытащил я на свет божий свой диплом: ну да, инженер-строитель. Курам на смех; лучше б было написано «клоун» — больше пользы (и денег, наверное). Какой из меня теперь, к чертям собачим, инженер?! Я и учился-то, честно говоря, только ради бумажки. А тем более, какой специалист из заочника?!
«Но всё-таки высшее образование!» — успокаивал я себя. И, как не оттягивай, но идти работать надо. Я решил походить, поспрашивать, поприкидывать. Собственно, устроиться куда-нибудь было совсем и не трудно, но вопрос – как?
Поэтому я промаялся месяца два: ничего не привлекало. Оттягивал и оттягивал, но каждый вечер регулярно напивался, начав уже выносить на продажу кое-какие вещи (деньги ведь кончились…). И даже женщины стали не нужны.
Но спасла-то меня, вытащила из пьяного омута как раз женщина, вот юмор!
Это была моя соседка по площадке, баба Ксана (так звали её все). Я ж, конечно, немного раззнакомился со здешними жильцами, стал привыкать. Ведь человек – он ко всему привыкает; говорят, даже к тюрьме…
Баба Ксана жила напротив, была в меру приветлива и по-соседски ласкова. Помню, даже пару раз оставлял ей ключ (ездил в командировку, боялся потерять).
У бабы Ксаны был муж, смирный и словоохотливый старичок, всегда церемонно кланяющийся мне. А ещё — жили у неё три собаки. Вообще баба Ксана была собачницей заядлой: стоило ей выйти вниз, как сбегались псы чуть ли не со всей округи; бабка их щедро подкармливала. Я, честно говоря, не понимал, зачем ей это надо? Мало, что ли, в квартире псов? – и так весь подъезд провонялся!
Сетовал на это не только я, но бабе Ксане всё было ни по чём: она упорно делала своё дело, неизменно отвечая, что ей жалко бедных собачек, и всё тут.
Говорили, что у соседей есть сын, но я его никогда не видел.
Вот эта самая баба Ксана (на девятой, кажется, неделе моего запоя) заявилась ко мне в квартиру. Было утро, я только что проснулся, пошатался немного по комнате и «принял» пивка – для облегчения души и тела. Она решительно вошла: «Борис, я по делу».
Какое у бабки может быть ко мне дело? Тем более в такое непростое утро. Какого хрена?..
А баба Ксана сказала:
— Вот что, Боря. Давай-ка сделаем так: ты больше не будешь пить.
Я уставился на неё, не зная, как ответить. «Послать», что ли? Тоже мне…
— Не будешь, Боря! – повторила она. – Сына не уберегла – так хоть тебя спасу.
…То, что она рассказала мне тогда про своего Якова, повергло меня в шок. Говорила откровенно, ничего не скрывала. И про то, что сын теперь – конченый человек; хочет бросить, а уже поздно. Алкоголик со стажем, больной и несчастный. А ведь молодой совсем – мне ровесник, оказывается.
— Пока не поздно, Боря, — говорила она, — очнись, сынок!..
Она так и сказала: «сынок», сказала тепло и искренне, с такой болью в голосе, что я подумал: а, может, это моя мама пробивается ко мне через бабу Ксану? Честно, именно так и подумал; и это сразило меня сильнее самых весомых аргументов.
— Не буду, баба Ксана! – искренне пообещал я.
— Не просто это, дорогой, — вздохнула она. – Сказать и сделать – две разные вещи. Но я тебе помогу. И не обижайся, если перегну палку, — с пьющими надо без жалости. Поздно я это поняла…
И она действительно стала оберегать меня, как беспощадный надзиратель. Первым делом, разогнала нашу развесёлую компанию, прогнала взашей Кольку и Лёшку, а потом – остальных.
— Это что ж такое, а?! И тут тёща завелась? – обалдел Юрка Самогонщик. – Ну, блин, чума!!! Скажи ей, Борька! Мужик ты или нет?! – завывал он, стоя за защёлкнутой дверью.
— Иди с Богом! – снова и снова отправляла алкаша баба Ксана. – А то сейчас как вызову участкового, и в вытрезвитель тебя, тёпленького!
Разогнала таки всех, не прошло и недели. Пристыдила меня, когда я пожаловался, что не могу никак на работу устроиться:
— Ну-ка, не скули! Ишь, привык жир нагуливать. Иди вон лучше на стройку, хоть прорабом, что ли. Стань наконец настоящим рабочим человеком, ты ж молодой!
И я в самом деле (мне уж было и неудобно перед ней: тунеядец…) пошёл на строительство, где её дед-пенсионер подрабатывал ночным сторожем. Меня долго ещё встречали старые дружки; больше, я думаю, с досады, что потеряли «хату». Но я уже успел очнуться; ох и вовремя оттянула меня баба Ксана от края бездны, в которую я так безрассудно заглядывал!
— Ну вот, сынок! – радовалась баба Ксана. – Теперь и жениться, значит, можно.
Но здесь я был твёрд. Хватит, было уже. Так ей и сказал.
— Ничего! – обнадёжила она. – Значит, не встретил пока, какую надо. Молодой; ещё всё будет. Внуками меня порадуешь…
Да-да, она привязалась ко мне всей душой. За что, про что? – кто объяснит?.. Знаю, что, проживи она больше, добилась бы своего тихими мольбами: и женился бы я, и детей заимел. «Внуков», как она говорила. И знаю, что считала бы их родней родных…
Дорогая моя баба Ксана, почему же судьба убила тебя в этот же год?! Если б мог – всё бы отдал, чтобы не случилось то, что случилось.
И никто не виноват, и спросить не с кого. Как говориться, так вышло… До ужаса просто: споткнулась баба Ксана у себя на кухне, да и ударилась со всего маху виском об угол стола. Так и рухнула мёртвая, с запёкшимся сгустком крови над ухом.
Дед был на дежурстве; пришёл утром – а тут… За мной прибежал, кричал, плакал. А что толку? Так и похоронили её.
А дед слёг. Тоже вскоре умер, не прошло и месяца. Говорили, сердце…
…Но почему, почему, почему я не ходил к нему даже? Почему?! Дед существовал для меня совсем отдельно от бабы Ксаны, и мне даже и в голову не пришло, что он нуждается в чьей-то помощи, старый и одинокий. А жениться, как я – теперь, он не сообразил…
Кажется, к нему иногда заходила тётка с пятого этажа. Ну та, что всегда всё про всех знала. Я думаю, таскалась она наверх больше из интереса, чтоб было о чём поговорить. Но зато продукты ему носила; я-то вот, хороший парень, и не подумал об этом, а она – мелочная и языкатая – позаботилась… Вот и сравнили, наверное, люди, кто есть кто.
Хоронили старика всем двором. Сыночек их так и не появился: ни мать проводить, ни отца. И собаки куда-то все вдруг пропали…
Однако спустя месяц Яков всё же «нарисовался»: квартира-то теперь его, а как же! И на моих глазах было всё дальнейшее. Пил он, действительно, по-чёрному; каждый пикник заканчивался воем и галлюцинациями, называемыми «белой горячкой». Пропащий человек, пропащий. Это было ясно, и страшный конец не заставил себя ждать: в пьяной драке его убил собутыльник.
Квартира какое-то время пустовала, потом туда въехали новые соседи, которым до меня не было никакого дела; как, впрочем, и мне до них. Кажется, они и сейчас там живут. Не знаю.
…А мог ли я сказать тогда: «Всё, Яшка! Ты больше не будешь пить».
Мог бы, наверное. Хотя бы в память о бабе Ксане. Не догадался. Только сейчас вот подумал.
Да ладно; если б даже и сделал – разве помогло бы? Ни капельки. Дал бы Яшка мне в ухо, и на этом кончилось, чтоб не учил его жизни.
Не помогло бы, конечно. Но попытаться я был обязан. Эх, часто мы говорим себе: «бесполезно»… Дескать, всё равно без толку. Слишком часто…
Я понял: это мы оберегаем свой собственный подлый покой. А вдруг бы я вытащил Яшку? Вдруг бы нашёл то единственное слово, которое вырвалось тогда у доброй бабы Ксаны?
— Брат, — сказал бы я ему. – Ты ж человек. Опомнись!
* * *
Ушёл, значит, я «в народ», на стройку. И сравнил: обкомовские поликлиники и обычные; «спецраспределители» и магазины для остальных. Да, «сверху» видно плохо; поэтому в обкоме все и считали, что у нас в стране хорошо живут.
…Но кто бы мог подумать, что наступит теперешнее время – этот самый худший вариант, возникший на развалинах ТОЙ страны… Я, сошедший «вниз», «в народ», и считавший себя обиженным и обокраденным, был ТОГДА защищён тем государством так, как теперь – не мог бы даже мечтать. Хорошо, что я уже доживаю: судя по всему, главные кошмары – впереди. И, может, хорошо, что мне не надо бояться за своих детей и внуков: «счастливо будет чрево, что не зачало…»
Вот ещё новое наблюдение: с каждым днём всё чаще обращаюсь я то к Богу, то к Священному писанию, понятия не имея об этом никакого. Да, в молодости совсем не трудно быть атеистом; а вот попробуй-ка в старости! И захочешь, а не сможешь.
«…И прости мне прегрешения и вольные, и невольные…»
* * *
Шли-катились семидесятые годы, я подбирался к «золотому» юбилею. Хорошо, что остался на прорабской должности навсегда. Есть здесь и свой интерес, и своя радость.
До начальника стройки я так и не дорос, да и, честно говоря, не стремился. Нравилось мне слово «прораб» — звучит почти как «пророк». Конечно, я не любил всю эту болтовню про соцсоревнования, хотя и не высказывал вслух.
Был, как все: и работал так же, и подворовывал в меру. Ну, не то, чтобы… Все брали – и я брал. Вся страна брала, и, не поступая так же, я выглядел бы изгоем и белой вороной.
А так – честный прораб, рабочая косточка. Сходился и расходился со многими женщинами, но только в гражданском браке. Это удобно; тихо пришла и тихо ушла, ни судов, ни алиментов. Кстати, об алиментах заботился железно: никаких детей!
Мои новые сожительницы надолго не задерживались, от силы год-два. Бывало обычно так: очередная кандидатка сначала думала, что я шучу насчёт гражданского брака («никуда не денется, влюбится и женится!» — была такая модная песенка), потом до неё постепенно доходило, что штампа действительно не будет (как и детей!) – и возлюбленная ладила чемодан на выход. Расставался я всегда тихо, без скандалов. Все бабы уходили сами, ни одну я не гнал.
Я всегда, между прочим, заранее предвидел очередной уход; все женщины до ужаса одинаковы. Сначала намёки, потом слёзы; иногда – угрозы. Потом обида, поза оскорблённой в лучших чувствах добродетели; что-то вроде «я тебе лучшие годы отдала!», а уже потом – «нам придётся расстаться».
Смешно выходило: уже вещи собирает, а всё думает, что вот сейчас кинусь целовать руки, каяться; и пообещаю прямо завтра пойти с ней в ЗАГС.
А я думал: скатертью дорога. Завтра здесь будет другая. Ну, конечно, до тех пор, пока её устроят мои условия.
Я даже радовался такой «смене караула»: хотелось новых впечатлений и свежих отношений. И знал, что долго один не буду. Я ж для баб – как мёдом помазанный. И главная приманка – холостой. Они же не догадываются, что я – «вечно холостой»!.
Ни к одной женщине я по-настоящему не привязался. Вот они – другое дело; до чего же бабы влюбчивы! А мои – тем более, я ведь выбирал из мягких и покладистых, а их хлебом не корми – дай о любви потрындеть.
Только к одной из них я, можно сказать, прикипел, и, когда она ушла, жалел по-настоящему. Но не задержал, как обычно. Остался верен своим принципам. А теперь не знаю: гордиться мне этим или нет?..
* * *
— Кактус, а хочешь, я тебе на картах раскину, что было, что будет и чем сердце успокоится?
(…После своей исповеди стала Надька поприветливей, хотя такая же беспардонная. Я ведь тогда сказал ей: «Не судья я тебе, Наденька. Меня б самого кто простил…»).
— А ты разве умеешь? – спросил я. Впрочем, что тут уметь, у меня ж на роже всё написано; особенно – чем сердце успокоится.
— Умею немножко! – возгордилась она и присела к столу с колодой затёртых карт. – Значит, так: было много греха (ой, много!), сейчас – хлопоты, а в будущем? Ага, в будущем – дальняя дорога.
— Ну да, на кладбище, — подытожил я. – Оно ж у нас – у чёрта на куличках.
— Ничего, — успокоила меня Надежда. – Скоро новое обещают открыть. Туда недалеко, не переживай.
(Мне-то что, пусть она волнуется, куда меня переть и во сколько ей это обойдётся).
А я думал, действительно погадает, по-настоящему…
* * *
Софа Гутман… Ох, и красивая она была! Где-то я вычитал: «с глазами дикой серны». Так это точно про Софочку!
Я, когда первый раз её увидел, чуть не онемел. Идёт, понимаешь, навстречу такая королевна! – даже деревья оглядываются.
…Любил ли я её? Нет. Не любил и осознавал это. Но мне было приятно, очень приятно, что она – моя, что мужики роняют челюсти, глядя на неё; а женщины – чуть не лопаются от зависти, хоть и стараются делать вид, что не смотрят.
…Я тогда её догнал: зацепило, что прошла – и не глянула. Долго приставал, пока позволила проводить. Затем торчал у дома ежедневно, носил цветы и оставлял на коврике под дверью. Добивался – и добился; отбил её у некоего Вадима.
Потом она привела меня знакомиться с родителями. Инна Абрамовна, мама, оказалась милейшей женщиной (я сразу подумал: золотая была бы тёща, назло всем анекдотам); а отец, Леонид Борисович, долго выспрашивал, чем я занимаюсь и кто мои родители. Посочувствовал, что я сирота; а потом, когда я обмолвился, что девичья фамилия моей матери – Шифман, зацокал от удовольствия языком, долго что-то прикидывал, громко шепча разные имена, и неожиданно заявил:
— Так-таки да, молодой человек! Вы, значит, сын Мариночки Шифман, той самой, которая вышла замуж вопреки воле родителей!
Я не знал, вопреки или нет; но поразился во второй раз, когда Леонид Борисович добавил, что отлично знал моих бабушку и дедушку и точно назвал их полные имена.
Восторгу Инны Абрамовны не было предела:
— Боря, так вы, оказывается, из приличной семьи! Какое счастье!!
Гутманы были уверены, что мы с Софочкой вот-вот поженимся. Они не смущались тем, что я – копия своего отца-украинца, и ничуть не похож на смуглых сыновей израильского народа. Русоволосый и курносый, с ярко-голубыми глазами.
— Мы считаем национальность по матери, — спокойно объяснил мне Леонид Борисович.
Софочка тоже ждала, что я вот-вот поведу её под венец, но я и не думал. Она, покладистая и спокойная, давно уже была моя. И собиралась на днях перебраться ко мне… Вопреки ожиданию, старики Гутманы отнеслись к этому с пониманием (я-то ожидал упорного сопротивления!):
— Может, в этом что-то есть, — философски изрёк Леонид Борисович. – Присмотритесь друг к другу поближе. Зачем, действительно, делать так, чтобы потом расхлёбывать столько лишней каши? А штамп – ещё не гарантия счастья. Испортить себе паспорт Софочка всегда успеет…
Значит, он считал, что это ОНА пока не хочет ЗАГCа. А так даже и лучше! «Ишь, — думал я, — тихая, а гордая!» Как повернула всё перед своими! А всё почему? Любит меня.
Прожили мы недолго, месяцев семь. Вот о ней, о Софочке, я и жалел по-настоящему; вот на ком всё-таки надо было жениться. А как она пела – это просто удивительно! Станет, бывало, у окна, руки на груди сложит – и как затянет что-то такое, далёкое и прекрасное, как Земля обетованная, и такое же непонятное. На еврейском пела. И говорила на нём бегло. Я иногда просил специально что-нибудь сказать, вслушивался: не язык, а музыка! И вздыхало во мне что-то, и плакало…
Работала Софочка в филармонии, играла на скрипке. Я даже пристрастился ходить на концерты.
…А расстались мы из-за ерунды, противно вспоминать. Пришла однажды она домой и рассказывает, что у подруги украли в трамвае кошелёк с большими деньгами: зарплата за два месяца. Она ехала что-то серьёзное покупать в универмаге; увидела, что сумка порезана, уже при выходе.
Вот и решили в филармонии собрать для бедняги немного денег; пусть не всю сумму – но хоть как-то помочь, а то у неё и на хлеб не осталось. А следующая зарплата – не скоро.
Я спросил, а уверены ли в этой самой филармонии, что женщина потеряла эти деньги, а? Может, она просто на жалость давит, а они все и варежку разинули, наивные?
— Ты что, Боря, по себе судишь? – растерялась Сонечка.
— Нет, я просто не хочу, чтоб тебя за дурочку держали! – попытался я её образумить. – И потом, она же зазевалась, а не ты. Вот пусть и выкручивается! Вы ж не в долг ей даёте, правда? А насовсем!
— Да ты, оказывается, Боря, совсем не такой, как я думала, — медленно сказала Соня и подняла на меня свои удивительные глаза, полные укоризны.
И добавила:
— Но это ничего не меняет. Деньги я уже сдала, и забирать обратно не собираюсь.
— Сколько? – разозлился я. Ведь даже не посоветовалась!
Она назвала сумму; я сказал, что слишком много для благотворительности… Слово за слово, и мы разругались. Причём «разругались» — сказать будет неправильно, потому что орал только я; орал довольно долго. А она молчала-молчала, слушала-слушала, а потом вдруг встала и вышла. Я решил, что ушла в кухню (ссорились мы в комнате), а потом выглянул в коридор и увидел: нет ни туфелек, ни пальто. Ушла.
Я сначала подумал, что походит, успокоится и вернётся. Потом ещё раз трезво обсудим, и она согласится со мной, куда ж денется? Но Соня не вернулась ни вечером, ни вообще никогда…
Я, конечно, прождал всю ночь, изнервничался, а утром чуть свет помчался к Гутманам. Открыла мне дверь сама Соня.
— Ты что, издеваешься?! – набросился я на неё.
— Зайди, Боря, — пригласила она, как ни в чём не бывало.
К счастью, дома были все, и я сбивчиво пояснил её родителям, что произошло. Да и разве можно было так поступать: ушла, ничего не сказала?..
— Действительно, Софочка, — вступилась за меня Инна Абрамовна. – Стоило ли из-за таких пустяков… Ведь Боречка…
— Пусть уходит, мама, — ответила тихая Софочка. Ответила так, что я сразу понял: всё, конец. Из-за каких-то паршивых денег, гори они синим пламенем.
А Леонид Борисович громко вздохнул и сказал:
— Ничего не поделаешь, Боря. Сами видите.
И добавил грустно: «А таки жаль…»
…Потом, спустя два дня, он сам приехал за её вещами. Я помог сложить.
Эх, если б я знал, что не пройдёт и двух десятков лет – и всё в одночасье обесценится! Если б я знал!.. Разве б я жалел эти бумажки, разве б собирал их с таким трепетом?
Ведь, когда наступил всем известный год, — лично я потерял восемь тысяч. Считай, новые «Жигули»…
* * *
— Слышишь, Кактус, а машина у тебя когда-нибудь была?
Зачем спрашивает? Я ж уже объяснял, что нет у меня иного имущества, кроме квартиры. Мало ей, что ли?..
— Нет, не было, — откликнулся я неохотно.
— А что так? – не унималась Надька. – Ты ж не бедно вроде бы жил. Денежки, небось, были?
Были, да сплыли. Я ей напомнил про девяносто первый год. Ей-то что? – она ж ничего не потеряла.
«Блаженны нищие духом…» Нет, это неправильно. Надо: «Блаженны нищие». Точно! Чем меньше имеешь, тем меньше головная боль. Вот и выходит, что самые счастливые люди на Земле – это как раз голодранцы, бомжи разные.
…Вот чего я всегда боялся, так это стать бомжом. Спаси-сохрани-помилуй! Раньше, лет тридцать назад, про них и слыхом не слыхали, а теперь? Целая общественная прослойка.
А я бомжом не стал чисто случайно. Потому со старого перепугу и женился сейчас на Надьке, между прочим. Ходили тут какие-то двое, допытывались. Лет пять назад дело было, я ещё тогда и на улицу, хоть редко, но выбирался. Мог себя обслужить кое-как. И чай согреть, и картошечки сварить; не то, что теперь.
Вот они и повадились ходить с каким-то договором. Сулили золотые горы, только подпиши им бумажки. Совсем уж было уболтали; главное, обещали, что за мной уход будет бесплатный.
Спасибо, соседка отговорила (та, которая справа. Ну, которая Надьку помогла найти). Осторожнее, говорит, Борис Петрович! Эти мужики и к Яковлевым ходят, домогаются.
— Яковлевы – это кто? – спросил я тупо.
— Да те, что в бывшей бабы Ксаниной квартире живут!
(Соседка, конечно, хорошо владела ситуацией).
— Там старуха осталась; сын за ней присматривает; сам тоже – инвалид детства… Нечисто тут что-то, Борис Петрович, вот попомните моё слово! – добавила она торжественно.
А так ведь и вышло! Слава Богу, что не со мной (и не с теми Яковлевыми, они тоже насторожились). А в соседнем подъезде пропала куда-то бабка с пятого этажа; сначала говорили, что к дочке уехала, а потом нашли старуху. Убитую, за городом. Еле опознали.
Милиционеры по квартирам ходили, и меня тоже спрашивали. Я тех хмырей описал, потому что хорошо запомнил. Только не нашли никого, вот что. А квартиру убитой купили какие-то люди с десятых рук; и концов теперь не найдёшь.
…Хоть бы, твари, старуху в живых оставили! Прибавилось бы в стране бомжиного «добра» на одну женскую единицу. Бомжиха – это лучше, чем мёртвая.
Спасибо соседке, что отговорила.
…А может, и Шершела где-то бомжевала, бедолага?.. Если, конечно, тогда живая осталась.
* * *
Сколько было у меня «гражданских» жён? Всех и не упомнишь…
Но наступил момент, когда устал я от них, захотелось одному пожить. Постарел, что ли? Да и то: не так уж много и до пенсии осталось. Покоя бы уже; просто покоя.
А тут как раз начали по всей стране возникать всякие кооперативы, как грибы после дождя. Запахло денежками, и ловкие люди поспешили этим воспользоваться.
Я тоже не глупый; начал думать, как бы и себе хорошо сделать. Была у меня давняя мечта: хотелось заиметь большую квартиру, просторную; с дорогой мебелью, с мягкими диванами…
Не знаю, то ли это шло от детских воспоминаний (высокие потолки, богатые шторы); то ли мучила ещё давняя обида за ту глупость, когда меня лишили моей двухкомнатной, — но решил я твёрдо, что будет по-моему.
Думал-думал я, и придумал! Даже сам удивился, до чего просто: надо создать ремонтный кооператив. И всё!
Тут же нашлись единомышленники (из наших хлопцев, строителей); и все организационные вопросы я великодушно взял на себя. Подобралось шесть человек, я – седьмой. Сначала хотели официально оформить, но побегали – и плюнули: тому – дай, этому – дай… Да и потом ещё придётся «отстёгивать» разные налоги.
Конечно, страшновато было подрабатывать нелегально; но я осмотрелся и увидел, что мы такие – не одни. Многие не хотят пахать «на дядю» — накладно очень! Если даёте заработать, так не ставьте людям палки в колёса.
К тому же, ещё и смешно вышло. Когда мы только затевались со всем этим, мотался я по всему городу с разными бумажками, по длиннющим злым очередям. Первым делом надо было зарегистрировать название нашего кооператива, и мы выбрали красивое слово: «Стикс». Это что-то древнегреческое, что ли; модно! И звучит шикарно. Хотели сначала назвать «Атлант» или «Олимп», но кто-то оказался шустрее, и такие названия уже были.
Вот и предложил Григорий Иванович своего «Стикса», и я с этим словечком попёрся становиться на учёт. А в очереди пока сидел – разговорился с одним дядькой интеллигентного вида; думал, может, что-нибудь подскажет. Он тоже кооперативчик свой организовывал.
Сказал я ему про «Стикс» — а он так и покатился со смеху. «Вы что, — спрашивает, — на кладбище работать будете?»
Почему на кладбище? – а потому что Стикс, оказывается, это река, которая протекала в царстве мёртвых. Анекдот, да и только! Я в той очереди и сидеть дальше не стал, плюнул и ушёл. Ведь все бумажки теперь переписывать надо, сначала беготню начинать.
Гришке, конечно, высказал; вот пусть и бегает теперь сам! И мужики решили: значит, не судьба. Работали подпольно, и только на себя. Главное, не болтать лишнего, не нарываться и не высовываться. Григорий, чувствуя себя виноватым, обещал поставлять бесперебойно надёжную клиентуру.
И завертелось! Хорошие денежки мы тогда огребли; успели. Потом-то государство очнулось и стало прикрывать кооперативные лавочки. Пришлось и нам разбегаться, кто куда. Тем более, что вышла всё-таки неприятность: не угодили мы одному капризному клиенту, и он «стукнул». Еле отговорились; я три раза ездил объясняться. Пришлось скинуться и дать «на лапу», иначе – никак.
Вот после этого решили сворачиваться. Жадность фраера сгубила, кто ж не знает!
Однокомнатную свою я к тому времени приватизировал и мог делать с ней, что хотел. Я планировал доплатить и сменяться на большую, в центре. Уже и присмотрел одну: то, что нужно. Мечта! Я прикинул, что ещё и немалая сумма останется на ремонт (как тогда начали говорить – «евроремонт». А почему «евро»? В Америке или Австралии разве хуже делают?), и на мебель. Везде договорился, и был доволен собой чрезвычайно.
Осталось только денежки обменять на доллары. Повально, весь народ хотел и признавал только «зелёные»; и те люди, с которыми я менялся, были не исключение.
Вот тут я и совершил такую глупость, которая, если распределить номера всем нелепостям моей жизни, займёт первое место. Просто вне конкуренции!
А всё от жадности. Соблазнился я, что деньги «на руках» — можно намного выгоднее обменять, чем в госбанке. Прикинул, умножил, — выгодно! И согласился.
…Вот и вручили мне, дураку, «куклу». Как они это сделали? – убей, не знаю. Ведь я в своих руках сам держал пачку, сам пересчитал, каждую бумажечку перенюхал и на свет просмотрел… Как, как они подменили доллары на простую бумагу?! «Кукла» — это что такое? Сверху и снизу – настоящие купюры, а посредине – муляж.
Я побежал в милицию заявление писать – там только посмеялись. Конечно, покивали и пообещали искать. Но я сразу понял, что сказки это. И очень даже возможно, что те ловкачи здесь приплачивают, чтоб суетились медленно.
И осталась у меня, болвана, только треть того, что я заработал в кооперативе. И на том спасибо, но с новой квартирой, видимо, придётся подождать… А там – и эти несчастные восемь тысяч обесценились, не успел я и глазом моргнуть. Ну чего ж не вложил во что-нибудь хотя бы, а?!
Одна только радость и грела душу: рухнули со страшным грохотом все структуры родной партии, руководящей и направляющей. Развалились в одночасье!
А кто бы мог подумать? – так прочно всё было… Так и надо, ведь как они со мной тогда? Пинком под зад! Вот и их всех – теперь.
Но, как я понял позже, пострадала лишь разная партийная мелочь, а настоящие тузы – спрятались в тёплые, надёжные ниши, прихватив для верности золото любимой партии. И потом, отсидевшись, повылезали на свет божий банкирами и бизнесменами, скупив заводы, газеты и пароходы со всеми потрохами. Гусятников, например: благополучно отбыл в Америку, имея неплохой счёт в заграничном банке.
Вот интересно: останься я тогда на старом месте, что бы было со мной? Наверное, туго пришлось бы, ведь я обитал в номенклатурных низах. Ну, дали бы разок куснуть от партийного пирога – и до свидания. Получается, неплохо, что меня тогда «ушли».
…После такой неудачи с квартирой долго я не мог прийти в себя, долго! Даже, помнится, хотел то ли повеситься, то ли отравиться. А потом – пережил как-то, смирился. И сошёлся от тоски с последней из своих сожительниц.
* * *
Почему сошелся? Смешно вспомнить: пожалел.
Полина Евгеньевна была старше меня на пять лет, но выглядела хорошо. И даже лёгкая полнота шла ей, не портила. Обычно мои женщины – были красивы, а эта – так себе, неяркая. Она уже вышла на пенсию, в то время как мне оставалось ждать этой благости ещё три года.
Полина создала мне настоящий домашний уют, прочный и основательный. Даже капитальный, я бы сказал. Вот уж действительно, получился семейный рай. И покой, которого я так хотел.
Смешно сказать, где познакомились: в очереди! Я всегда ходил платить за квартиру в одни и те же числа, ну и она – тоже. Разок встретились, другой; потом, глядишь, — здороваться начали. А однажды наше стояние затянулось минут на сорок – и мы разговорились.
Рассказала, что живёт одна (вдова), очень тяжело переносит одиночество, даже болеть стала. И расплакалась:
— Понимаете, Борис Петрович, дочка замуж вышла, уехала за две тысячи километров. Приезжает раз в пять лет, да и то – на неделю. Тоскую я, ох как тоскую… Хотела было опять пойти работать – так не берут! Вот и шатаюсь в четырёх стенах целыми днями: туда-сюда, туда-сюда…
— А приходите ко мне чай пить! – неожиданно ляпнул я. Сам не понял, как сказал. Представил просто: ходит, действительно, по своей «клетке»; то в окно глянет, то кофе выпьет… Пусть зайдёт, в самом деле, пообщаемся, повспоминаем. Одного ведь поколения люди, чего там.
Она обрадовалась:
— А это удобно?.. А ваша жена…
— Одни я, как перст! – вздохнул я. – Тоже, знаете, не сахар… Приходите, не бойтесь!
— Я и не боюсь, — смутилась она. – Вы же приличный человек, сразу видно.
Мы договорились на завтра, в семь вечера (я же на работе, как-никак). Полина Евгеньевна пришла минута в минуту, что я сразу оценил. Я люблю точных и конкретных людей, с ними – надёжнее.
Хорошо так посидели, уютно. Она принесла с собой целый пакет домашних булочек («Сама пекла; оцените, Борис Петрович!»). Сдоба была – настоящее объедение, давненько я не ел такой вкусноты. Потом мы сходили в воскресенье в театр, долго гуляли. Интересно с ней было говорить, умела она как-то ненавязчиво повернуть беседу, куда надо. Умела и слушать, что тоже было ценно и приятно. Чувствовалось, что приобретаю настоящего друга, хоть она и женщина. С мужиками, кстати, я тоже не очень дружил; плохо меня интересовали разные охоты и рыбалки. С детства, от мамы ещё осталась у меня чудная привычка: любил почитать. Ну, не то, чтобы очень в этом разбирался, но всё-таки кое-что понимал.
Полина сразу это увидела, обрадовалась. Посоветовала кое-что, дала одну книгу, другую… Я привык к этой дружбе. «Уютная женщина», — вот что я чаще всего думал о ней.
Полина приходила частенько, но – ничего такого, честное слово. Она даже «ты» стала мне говорить далеко не сразу, пришлось уговаривать. С переходом на «ты» стали наши отношения ещё проще и теплее, и Полина предложила:
— Боря, давай-ка, я твои занавески простирну. А то смотреть страшно.
И забрала. И простирнула. Потом вместе гладили (я помогал, держал), вешали на место.
И наступил день, который, наверное, должен был наступить.
— Полина, — сказал я. – Переходи ко мне, и давай жить семейно.
— А давай! – она, видно, давно хотела и ждала.
Её квартиру – в доме на соседней улице – мы просто закрыли на все замки. Поставили, так сказать, на консервацию. Со штампом – тоже решилось наилучшим образом. Полина сама сказала:
— Борис, не обижайся, но только никаких ЗАГСов. Ни к чему. Живём, пока живётся – и всё.
Умнейшая баба, прелесть просто!
— Да, — сказал я. – Разве в бумажке счастье?
И мы никогда больше об этом и не заговаривали.
* * *
Хорошо помню: именно в это время и появилось у меня ощущение бессмысленности бытия. Полной и безнадёжной бессмысленности…
И не в этом дело, что я наконец-то вышел на пенсию, нет. Полина пыталась успокоить, объяснить:
— Боря, я первое время тоже с ума сходила. Пройдёт, привыкнешь.
Нет, не понимала она. Отдыху я был рад; последний год – дни считал, дождаться не мог. До такой степени всё осточертело!.. И идти устраиваться куда-нибудь опять не собирался ни в коем случае. Просто однажды утром встал, посмотрел на хмурое небо и подумал:
— А зачем всё это? Зачем?..
— Ничего, Боря! Завтра будет солнышко, и тебе лучше станет! В жизни всегда ведь так: то пасмурно, то ясно. Зато глянь внимательно: красота-то какая! Посмотри, какие тучи изумительные! Жаль, что я не художник.
Я позавидовал ей: радуется чего-то… А я не мог. Не мог, хоть стреляйте!
…Проводы на пенсию, как сейчас помню, устроили мне пышные; Полина притащила две сумки разносолов, и мы посидели на славу. Говорились торжественные речи, оглашались тосты. Называли меня и толковым, и работящим, и всяким-разным, хорошим до тошноты.
Ещё тогда меня укусила эта мысль: спектакль. Бессмысленный спектакль, щедро сдобренный спиртным. Налей водки – и сразу будешь друг сердечный до гроба. Вот с того дня и начал мучиться: что ни услышу, о чём ни подумаю, с кем ни заговорю, — а в голову лезет упорно: бессмыслица. Суета, спектакль. Все – жалкие паяцы, бездарно играют свои роли; а угомонятся, только когда «сыграют в ящик». Но тоже ещё не конец: начинается другой спектакль. Венки, речи… Поминки – с подружкой-водочкой.
Это было похоже на моё старое помешательство про мертвецов. Но я знал, что теперь – всё гораздо серьёзнее и глубже.
Поделился с Полиной; она, как обычно, выслушала до самого конца, не перебивая. А потом вдруг сказала:
— Вот что, Борис; а давай поставим твоей матери хороший памятник.
К чему тут памятник?..
Но она растолковала:
— Я уверена, что это тебе поможет. Уверена – и всё!
Она уже говорила это и раньше, когда мы в первый раз съездили вместе на кладбище в Родительский день: нужен памятник. Могила моей матери была ухожена (я понемногу платил одной женщине, которая с этого жила), но, конечно, смотрелась бедненько. Холмик, крест – и всё. Я как-то и не думал ни про какой памятник…
Потом Полина показала мне, где похоронен её муж. Здесь всё было солидно и пристойно.
— Дочка денег дала! – гордо сказала Полина. – Вот и ты, Боря, сделай доброе дело. Ты ж сын, как-никак.
А потом вдруг спросила:
— А отец твой где похоронен?
Я этого не знал, конечно.
— Найдём! – решила она.
…И действительно нашла! Как ей это удалось – ума не приложу. Но, спустя месяц после того дня, сказала мне:
— Завтра, Боря, поедем на кладбище, покажу; где отец твой лежит.
Могила отца оказалась, по иронии судьбы, не так уж далеко от могилы матери. Я увидел мощный гранитный постамент; на общем основании – три надгробья: «Силин Пётр Адрианович», «Силина Виолетта Вячеславовна», «Силина Светлана Петровна»… Значит, вот она где, девочка с красным бантом… Я заплакал.
…Какое-то время, действительно, чувствовал себя значительно лучше. Пока выбирали памятник, заказывали надписи, устанавливали – ощущение полноты жизни вернулось ко мне снова. Парадокс какой-то: я радовался, соприкоснувшись со смертью!..
А вот когда цель была достигнута (за каких-то три месяца мы и справились) – навалилась на меня тоска с новой силой, вроде реванш брала за упущенное время. И всё хуже и хуже…
Полина заставила пойти к врачу, прямо-таки за руку потащила. Она вообще, во всех делах доводила всё до конца (наверное, потому, что всю жизнь проработала бухгалтером? И даже наш невыдающийся семейный бюджет в её умелых руках творил чудеса).
Доктор сказал, что для успеха потребуется несколько визитов. Я ужасно не хотел идти во второй раз: психиатр мне не понравился. Жаль, что забыл фамилию того, первого, который помог мне избавиться от «мертвецов». Да и работает ли он ещё?
Но Полина всё-таки настояла, и я «принял» ещё пять сеансов. Выброшенные деньги, и больше ничего. Брал специалист немало, а лечил – как повезёт (пациенту, конечно. Ему-то везло изначально).
Никакого облегчения мне это действо не принесло, а наоборот: стало только тяжелее. Пока доктор настойчиво бубнил мне, что «всё хорошо, всё хорошо…», я смотрел на него и думал: «И ты, милый, ходячая бессмыслица, и больше ничего…»
Полина начала пичкать меня книгами. Да, терпения у неё хватало. Я видел, что она старается ни на минутку не оставлять меня наедине со страшными мыслями. Иногда, впрочем, ей это удавалось.
Особенно заинтересовался я «Портретом Дориана Грея». Тоже ведь человек страдал: что ни делал, как ни лез из кожи вон, а бессмыслицы проклятой не мог одолеть.
А вот если б со мной – такое?.. Я несколько дней изучал в зеркале свой «портрет»: лицо как лицо. Что можно понять, глядя на него? Вот Полина считает меня вполне достойным человеком.
Надо признать, что ей я почти ничего про себя не рассказывал. Она знала, например, что у меня есть взрослый сын; но думала, что он не хочет со мной общаться. Порывалась даже, добрая душа, найти его!..
Хорошо, что мне заранее сказала, — я тут же наплёл такие басни, что она оставила без последствий эту «благородную» затею. Не очень и помню, что я тогда молол, главное – помогло.
Враньё — это тоже искусство; собственную брехню надо как следует запоминать, если знаешь, что её придётся повторять «на бис». А я не запомнил, и когда Полина снова осторожненько коснулась этой темы, приплёл уже что-то «не то». Она изумилась:
— Как же?.. Ты же говорил, что…
(Она как раз отлично запомнила!)
Пришлось выкручиваться, заново городить огород. Сообразил: сделал вид, что меня это так расстраивает, так мучает, что дальше некуда!!! Того и гляди, опять прежний сдвиг начнётся на нервной почве! Потому и путаюсь немного…
Это послужило надёжным «табу», и Полина уже боялась заговаривать не только об этом. Лишь поддерживала беседу, если я сам что-нибудь «вспомню».
А потом я сильно простудился. Наступила осень, и соседний парк щедро украсился разноцветными листьями, расстелил везде толстые шуршащие ковры. Это было захватывающе красиво, и Полина, которая всегда была неравнодушна к картинам природы, потащила меня на прогулку. Наверное, мы слишком долго сидели на скамейке, и я основательно промёрз.
Наутро почувствовал, что поднялась температура.
— Ну вот!!! – возмутилась Полина. – Я же говорила: поддень второй свитер! Ты ж заладил, как попугай: ещё тепло, ещё тепло!
У Полины была прекрасная черта характера, не присущая, пожалуй, ни одной из моих женщин: даже сердилась она с оптимизмом. Вот так, отпуская шуточки и улыбаясь, она дала мне аспирин и вызвала врача на дом.
Тяжёлая на подъём и вечно недовольная участковая (я сталкивался с ней пару раз; впечатление – не из приятных) изволила прибыть только к вечеру. Послушала меня, обстучала («Больничный не нужен?» — похоже, её больше всего раздражала выдача этих самых больничных…) и сказала зло:
— Двустороннее воспаление лёгких, поздравляю. Где это вы умудрились?
Повернулась к Полине:
— Вы – жена, я так понимаю? В больницу, дорогая, надо. Соберите вещи. «Скорую» я вам сейчас вызову.
— А может… дома как-нибудь можно? – взмолилась Полина. – Там разве уход? А колоть я и сама умею…
— Вы что, хотите, чтоб он умер тут у вас?! – возмутилась докторица. – Повторяю: двустороннее воспаление! Понимаете?! – двустороннее!!! Ну что, звонить?!
— Звоните, — вздохнула Полина.
Она быстро и ловко собрала сумку, не забыв даже зубную щётку и тюбик с пастой, и поехала со мной. Проводила до самой палаты, уложила, устроила…
— Утром приду, Боренька, — поцеловала меня на прощание.
Она приезжала два раза в день, утром и вечером. Но лучше мне почему-то не становилось, несмотря на облегчение в первые два дня. Я встревожился не на шутку. Не выкарабкаюсь. Всё…
Полина привозила мне только свежее и горячее, не жалела ни денег, ни сил.
— Мы так с тобой разоримся, и на похороны не хватит! – пытался слабо шутить я.
— Здрасьте! – возмутилась она. – Давай лучше, не ленись, а выздоравливай. Стыд-позор!
(А в глазах – тревога, я же вижу…)
— Вот, — добавила она, — я привезла тебе книжку хорошую. Отвлекайся от своего воспаления; почитай вот, как у людей было, а нос не вешали! – она выложила на тумбочку толстенный том. – И вот тебе газетки свежие, только что в киоске купила.
Она ещё побыла немного, покормила меня (я с больничной столовой и не брал ничего; не было необходимости) и уехала.
Я развернул газету. Обычно любил читать прессу, начиная с последних страниц. Почему? – не знаю. Может, развлекали меня разные объявления: кто и что хочет купить, продать? Иногда предлагались всякие услуги, и я всегда думал, а сколько это стоит.
В этом номере, в углу справа, чернело траурное сообщение в рамочке:
«Коллектив областной филармонии … по поводу тяжёлой утраты: смерти матери, Гутман Инны Абрамовны». Соболезнование адресовалось Меерович Софье Леонидовне. Софочке…
Значит, вышла она всё-таки замуж за Вадима Мееровича. Дождался, рыцарь. Молодец!..
Объявление не шло у меня из головы. Умерла, значит, Инна Абрамовна. А Леонид Борисович жив ещё или нет?..
И тут у меня в памяти отчётливо всплыл номер телефона Гутманов. Он был очень и очень простой, сплошные восьмёрки, поэтому, наверное, так легко вспомнился.
…Я встал, надел пижаму и выбрался в коридор.
— Извините, можно позвонить? – спросил я у медсестры на посту.
— Можно, если недолго! – вежливо кивнула она. – Садитесь.
Она уступила мне свой стул:
— Я на минуточку отойду.
Очень хорошо! Не хотелось мне сейчас посторонних ушей.
С бьющимся сердцем я набрал все нужные восьмёрки. Может, она там уже и не живёт?.. Трубку сняли быстро:
— Слушаю вас.
(Она, она! Этот голос я не перепутал бы ни с каким другим!)
— Софья Леонидовна, примите мои соболезнования! – бодро начал я. – Я в газете прочитал.
— Спасибо, — сказала она бесцветно. – А с кем я говорю?
— Видите ли, я… — куда так моментально улетучилась моя уверенность?! – Я… С вами говорит Силин Борис Петрович.
Повисла неловкая пауза (не может вспомнить, что ли?..)
— Боря, — выдохнула трубка. – Здравствуй.
— Здравствуй! – обрадовался я. И затараторил:
— Софочка, как жаль! Какая прекрасная женщина была Инна Абрамовна, светлая ей память! А… Леонид Борисович, он – как?..
— Папа умер три года назад, — сообщила она. – А ты, Боря, как живёшь?
— Да я всё так же… Ты-то как?
— Я хорошо. У нас с Вадимом трое сыновей.
— Ого, — засмеялся я. – Большие?
— И даже слишком, — ответила Софочка. – А ты с кем теперь, Боря?
И тут я сбивчиво пояснил, что звоню, собственно говоря, проститься… Да, очень серьёзно…
— Боря! – встревожилась она. – Может, к тебе прийти?.. Ты где лежишь?.. Что тебе принести?
— Нет-нет! Не надо! — ну почему, почему я отказался, осёл?! Я ведь так хотел её увидеть…
— Нет-нет! – повторил ещё раз. – У меня жена, Полина Евгеньевна, чудная женщина… Вот, только час, как уехала. Утром опять будет!..
…В конце коридора показалась медсестра. Станет сейчас над душой, уши развесит.
— Ты прости меня, Сонечка, прости ради Бога! – заспешил я. – Я для того и звоню… Прости!!!
— Не беспокойся, Боря, — спокойно прозвучал Софочкин голос. – Знай: я очень любила тебя…
Мне показалось, что она заплакала…
Но у меня больше не было времени:
— До свиданья, Софья Леонидовна. Ещё раз примите мои самые искренние соболезнования.
Всё… Я положил трубку на место и с ненавистью уставился на медсестру: что, съела?.. И поплёлся в палату.
* * *
А через неделю, на утреннем обходе, доктор радостно сказал:
— Всё, Силин. Начинаете выкарабкиваться. Теперь будете жить!
Он присел на краешек моей кровати и что-то размашисто вписал в «историю болезни», которую ловко примостил на коленях. Сказал медсестре:
— Если жена его хочет – может забрать. Теперь только хороший уход – и всё, колоть больше не надо.
И усмехнулся мне:
— Супруга ваша, Борис Петрович, мне всю плешь проела! «Отпустите да отпустите Бореньку, я его выхожу». Такая – выходит! Завидую я вам, голубчик, белой завистью. Хорошая женщина!..
…А ведь я так боялся умереть, что напрочь забыл про бессмысленность жизни… Жить, жить, жить любой ценой!!! Во мне всё кричало и протестовало!!! Я ж ещё не старый, это несправедливо!
И, самое главное, я понял: смысл жизни – в ней самой. Не нужно его искать, тратить драгоценное время! Живи – и всё! Просто живи…
Полина несказанно обрадовалась, что меня наконец выписывают; напоследок сбегала ещё к доктору в кабинет, подробно расспросила, как и что делать со мной дома.
Потом вызвала такси к больнице:
— Никаких трамваев! Ты ещё слишком слаб!
Всю дорогу домой я наслаждался: какая вокруг благодать! Какая красота! За время лежания мне до смерти надоела больничная палата, эти уколы-капельницы и бесконечные разговоры о болячках соседей по палате. Там казалось, что в мире и нет ничего больше, кроме больниц и моргов…
Было ощущение новой, доселе невиданной свободы! Я подумал, что подобное, наверное, испытывают те, кого выпускают из тюрьмы. А меня выпустили не из тюрьмы, а из самой Смерти…
Приехав домой, я поразился и здесь: какие, оказывается, красивые обои у нас в комнате! А я и не замечал…
И вообще, после болезни весь мир вокруг меня стал, если можно так сказать, более объёмным и цветным.
Теперь я смеялся над собой: ну и дурак был! Смысл жизни, видите ли, найти не мог…
Дома было так славно, так уютно, так пахло моими любимыми пирогами! Рай, да и только! Я даже не захотел сразу лечь, хоть и еле-еле держался на ногах, а немного прошёлся по квартире, заглянул в ванную, в кухню. И увидел: в кухне на потолке темнело огромное влажное пятно.
— Крыша ни с того ни с сего начать протекать, — объяснила Полина. – Прохудилась, наверное… Сто лет никто ничего не ремонтировал. Недаром, Боря, наши люди не любят первые и последние этажи; тут – крыша, — а там – канализация со всего дома может хлынуть, или от подвала вечная сырость. Вроде и не для людей строят! – закончила она возмущенно.
— Надо в ЖЭКе сказать, — решил я.
— Ой, Боря, ты что думаешь, я не ходила уже? – всплеснула руками Полина. – Знаешь, что они мне ответили?.. «Вы кто – сожительница? Так чего припёрлись? Хозяин, понимаешь ли, не жалуется, а эта прискакала!» Что я могла ответить? Ушла не солоно хлебавши. А эта мегера ещё и в спину мне, тихонько так (но я услышала!): «Будет здесь каждая б… права качать!» Такое унижение…
— Ничего, заставим! – успокоил я её. – Вот окрепну – сам схожу. А если что не так – то я знаю, куда писать. Умоются ещё!
Полина внимательно посмотрела на меня. Может, ждала каких-то других слов?
— Ты что же, хочешь, чтоб мы расписались?
— Нет, зачем? – пожала она плечами. – Это только усложнит всё…
— Почему? – не понял я. Думал, в обморок от радости упадёт, а она – «Нет!»
— Ну сам подумай, Боря: сразу начнутся склоки между наследниками. Мы ж не вечные!.. А так – всё отлично складывается. Эту квартиру получит твой сын, а мою – моя дочь. Справедливо и без лишних хлопот.
«Интересно, — подумал я, — а если б она знала, что обе квартиры сможет унаследовать её дочь, что бы сказала?..» Но вслух, конечно, не произнёс. Пусть думает по-своему. А то ещё начнёт, в самом деле, гнуть линию насчёт женитьбы.
…Нечего и говорить, что выходила меня Полина, действительно, на славу. И через две недели я уже был бодр, весел и вполне готов к дальнейшей (и счастливой!) жизни. Здоров во всех смыслах этого прекрасного слова.
* * *
Дочь Полины Евгеньевны, после развала большой страны, оказалась теперь в другом государстве. Вот и не знаешь, смеяться или плакать; ведь это то же самое, как если б в одной квартире стали, например, суверенными ванна, кухня или балкон… Так же нелепо и бессмысленно, и ни ванной, ни балкону от этого никак не лучше.
А самое тяжёлое – остались по разные стороны границ члены тысяч и тысяч семей. Как будто по живому разрезали!
У Полины от дочери была внучка, Ирочка, которую она и так редко видела. А теперь – и подавно.
Вот и стала Полина поговаривать: хорошо, мол, было бы переехать к дочери! Ведь та сюда – ни в какую не хочет. Можно понять: там всё давно налажено, а здесь что? Полинина «малосемейка»? И с работой сразу будут проблемы, и внучку с места срывать (а она в вуз как раз поступила), и зятю это не надо… Вот если Полина переедет – другое дело.
Но как же быть со мной? Не хотела Полина бросать меня: привыкла, привязалась. Да и я тоже ценил её.
Она уговаривала переезжать вместе. Но в качестве кого, хотел бы я знать?.. Тогда мне тоже придётся продать квартиру и в статусе мужа отправиться бог знает куда. А там – яснее ясного! Обдерут они меня как липку.
Полина – она, конечно, кроткая и смирная. Но это – пока! Пока я самостоятельный и от неё не зависимый. А стоит только поддаться – ох, чувствую я, в такую трясину можно влезть, и не развяжешься. И денежки – тю-тю, и независимость моя выстраданная… Я, конечно, так прямо не говорил, но намекнул, что, наверное, наступило время нам расстаться. Как говориться, Полина Евгеньевна, спасибо за внимание!
Ну что ж, нет так нет. Полина вроде бы и не обиделась ничуть. У неё теперь впереди – новая интересная жизнь, рядом со своими родными. А мне они зачем? Я их не знал, не знаю и знать не хочу; а не то, что своё кровное имущество ради них на ветер выбрасывать. Что Полиночкина дочка, что зять – тёмные лошадки. Да и внучка тоже!
— Поступай, как душа просит! – сказал я Полине Евгеньевне.
Она довольно быстро (как и обычно, шустрая моя!) продала квартиру вместе со всем барахлом впридачу, и благополучно отбыла в новую страну. Я даже пришёл проводить на вокзал. Думал, может, заплачет на прощание…
Нет, не заплакала. Значит, и жалеть нечего, не так уж и дорог был я ей.
Проводил я, ручкой помахал и подумал саркастически, глядя вслед хвосту поезда:
— Что, голубушка, не вышло меня облапошить?!
Она поначалу мне даже писала, снова и снова звала к себе; рассказывала, как она распрекрасно устроилась. Но я держал ухо востро: никуда не поеду! Ответил на одно письмо, на второе, — и надоело. Что с пустого в порожнее переливать? Всё уже сказано.
Да и если быть откровенным до конца, то старовата Полина Евгеньевна для меня, старовата… Такие ли женщины у меня были? Я ведь ещё хоть куда, а Полина? Вдруг возьмёт да и сляжет, а кто тогда будет за ней ухаживать?!
Ответ известный: я. Ещё и по закону обяжут, слыхал я про такое. И ни дочка, ни зять, а тем более внучка – и палец о палец не ударят. Хороша перспектива, нечего сказать!
В конце концов Полина перестала мне писать. Поняла, наверное, что без толку.
А у меня – наступила, так сказать, вторая молодость. Ну и что, что «за шестьдесят», подумаешь!
Почувствовал, что снова стали интересовать меня женщины. Так это же здорово! Я-то ведь уже думал, что всё…
С такой бабкой, как Полина Евгеньевна, чуть в антиквариат не превратился. Если хотите знать, я с ней и не спал почти. Ей оно было «сто лет не надо» (так и говорила всегда), а я не чувствовал никакой необходимости.
Но теперь – другое дело. Жизнь коротка, и надо брать по максимуму, сколько успеешь! Так что гулял я теперь по вечерам с целью вполне конкретной. Вспоминал наши с Полиной «выходы» с полным презрением к себе: два старпёра выползали подышать. Противно! Это надо и молиться, и креститься от счастья, что сожительница уехала!
Ходил я, ходил и, конечно, доходился. Кто ищет – тот всегда найдёт. Познакомился с одной: смазливенькая, лет – не больше сорока. Глазками так и стреляет, блондиночка! Причём сразу видно было, что она тоже искала подобное приключение. Такая себе Наташка-ромашка!
Она стала приходить ко мне примерно раз в неделю, и я не оставался неблагодарным: то подарю что-нибудь, то просто денег дам. Красиво и без лишних проблем. Так тянулось, наверное, с годик.
Что касается всяких бытовых неудобств – то тут я тоже нашёл прекрасный выход. Обратился к соседке справа, и она (за плату, конечно, но брала по совести, недорого) стирала за мной, штопала и гладила по мере необходимости. Просить Наташку было бы смешно. Не для этого она ко мне ходила, сами понимаете.
Видно, была тоже довольна. То, что у неё есть муж, — ничуть меня не трогало. Она в голову не берёт, а мне – что?! Я тут сбоку припёка. Пусть он сам мозгами пораскинет, почему от него жёнушка гуляет. А я устроился распрекрасно и чувствовал всю полноту и прелесть настоящей мужской жизни, гордился своей силой. Не пью, не курю даже – вот и здоровье есть для всего, что надо.
Сколько бы мы с ней ещё радовались – неизвестно. Меня всё устраивало, её тоже…
Но вот однажды вечером примчалась она ко мне в слезах. Я и не ожидал: вчера только виделись.
Но обласкал, напоил кофе с печеньем. И она пожаловалась, всхлипывая:
— Боря, я не хочу больше с ним жить.
«С ним» — понятно: с супругом. Уж не со мной ли собралась, лисичка моя?
Я сразу насторожился; учёный уже я, Наташенька. Как следует учёный! Но пусть рассказывает, чего там. А она никак не хотела успокаиваться и всё изливалась и изливалась:
— Он вечно на своих рыбалках! Придёт с работы – и хоть камни падай, ничегошеньки не заставишь. Всё сама да сама! За сыном не смотрит, тот совсем от рук отбился; учительница сказала, что с наркоманами уже связался!!! Я говорю, прошу: поговори с сыном, поинтересуйся! Парню четырнадцать лет, самый опасный возраст! Да в конце концов, возьми его с собой на свои долбаные выезды, и то польза будет! Так никакой реакции, ну никакой!!!
(Я слушал и думал: ну, положим, и ты, дорогая, своим сыном ни капельки не интересуешься. Я-то тебя насквозь вижу…)
— Мне нужна настоящая семья, а не эта фикция, Боря! – жаловалась Наталья.
(Но не в моём лице: ни ты, ни твой начинающий наркоман меня не интересуете).
Я ещё раз сварил ей кофе, дослушал и выпроводил:
— Наташа, иди домой. Проследи за сыном сама, раз такое дело; мой тебе добрый совет. И с мужем помирись. Может, дело-то и не в нём вовсе, а в тебе самой?
Глянула обалдевшими глазами, вскинула подведённые бровки:
— Ты меня гонишь, что ли?!
— Нет, — мне уже было не смешно. – Просто предлагаю решить свои проблемы без меня. Извини за откровенность, но мы с тобой совсем не для этого встречаемся.
И она ушла, так хлопнув дверью, что посыпалась штукатурка над проёмом. «Вот дрянь, — подумал я. – Теперь нанимать кого-то, перетирать!»
Я терпеть не мог беспорядка.
* * *
Потом были у меня и другие, как говорит молодёжь, «тёлки», и всё на тех же милых необременительных условиях, когда никто никому ничего не должен. Кроме пенсии, шла мне и зарплата. Небольшая, но мне одному – то, что надо!
Это Полина Евгеньевна сделала мне подарок на прощание: устроила по знакомству сторожем в краеведческий музей. Работа, скажу я вам, не бей лежачего. Сюда вовек никто не полезет, можно и не сторожить. Скажите, ну кому нужны эти чучела птиц или камни с раскопок?
Лишний расход музею на сторожа, я так считаю. Но раз они платят – я не против.
Сторожей тут держали троих, и мы дежурили по очереди. А я очень даже полюбил эту работу: и выспаться можно всласть; и денежки капают. Иногда, когда не спалось, — читал в своё удовольствие. Золотое место, палкой не выгонишь. Спасибо Полине: чтоб не она, никогда бы меня сюда не взяли. А у неё директорша музея в приятельницах была.
Пробыл я на этой должности немало лет, но ни один вор так сюда и не сунулся. Даже не попытался. Ну хоть бы для разнообразия! Эх, и пальнул бы я тогда из своего служебного пистолета (холостыми, правда; ну и что?), гаркнул бы: «Стой! Руки вверх, бандюга!!» Нет, не пришлось. Тишь да гладь, да божья благодать. Козырное местечко, как ни крути.
Вот однажды со скуки пошатался я по залам, да и дошёл до одного интересного угла: «Наш край в довоенные годы». А там – про папашу моего родного, чёрным по белому! Он, оказывается, — тоже история. Загордился я, скажу честно.
Наутро даже домой не пошёл, дождался заведующую архивом. Она мне помогла: порылась в своих исторических бумажках, и я прочитал про отца ещё кое-что. Молодец, сыграл свою роль! Даже зав. архивом посмотрела на меня с уважением: вот, оказывается, чей сын у них тут в сторожах!
Попросил я и про маму поискать, но про Шифманов в архиве ничего не было. Зато про Гутманов – немало. Оказывается, покойная Инна Абрамовна имела звание кандидата филологических наук… А я и не знал; вот до чего скромная была женщина! Про Леонида Борисовича не упоминалось совсем. Обошла, значит, его жена по всем статьям!
…Про Софочку я часто вспоминал; опять хотелось позвонить. Но что я ей скажу?!
Что я, слава богу, не умер? Ну и что дальше?.. Умирающий, я остался в её глазах благородным, достойным её ушедшей любви… А выживший – кто? Бодрый сторож «сутки через трое», у которого очередная любовница…
Пусть уж лучше думает, что отошёл я в лучший мир. Я ведь её так ни разу больше и не встретил: в филармонию не тянуло (подумает ещё, что специально явился!), а на улицах родного города мы ни разу не пересеклись.
А может, и видел я её когда-то, но не узнал?.. Пусть уж лучше такой она и останется в моей памяти: стройной раскрасавицей с копной роскошных чёрных волос, с походкой царицы и глазищами, в которых чудным образом отражалось чуть ли не полмира. Может, именно такой была Суламифь, возлюбленная царя Соломона?..
Я внутренне усмехнулся: как раз на Соломона я сейчас не тянул нисколько…
* * *
…А куда ж меня потом: в Ад? или в Рай?.. Да и есть ли всё это?.. Сказки какие-то. Но что-то есть? Или нет?.. Надо на всякий случай подготовиться…
Такой ли я уж грешник? Как все люди, обыкновенный. Не ангел, конечно; но и не чудовище.
«Не убий!» — я пальцем никого не тронул.
«Не укради!» — тоже не было. А на стройке – это не считается. Мы брали, что плохо лежит. У государства взять – это не грех, а премия.
Стоп!.. Было. Один раз было. Но то ж так давно случилось, Господи! К тому же – был я мальчишечкой восьмилетним. Разве ж ребёнку не простится?..
Во втором классе я тогда учился, дело шло к летним каникулам. Май выдался необыкновенно жаркий, мы млели и засыпали на уроках. И старались урвать любую переменку, чтоб выскочить во двор, на спортплощадку.
Наиболее привлекательным местом для нас, пацанят, был турник. Старшеклассники показывали на нём разные чудеса, а мы стояли, разинув рты.
Иногда просили красавца-атлета, десятиклассника Дубинского, силача и добряка:
— Саш, а Саш!.. Подсади!..
Он, снисходительно посмеиваясь, брал кого-нибудь из нас под мышки и легко возносил к заветной перекладине.
— Давай-давай! Ну подтягивайся же, жми! Эх ты, макарона! – шутил Сашка.
В тот день у нас было всего четыре урока; всех отпустили пораньше, а мы – я, Мишка и Володька – остались посмотреть на урок физкультуры в десятом классе. Они сегодня сдавали норматив по бегу, и турник оставался абсолютно доступен. Подсадить было некому, и мы нашли выход: взбирались по очереди друг другу на спину и легко брали нужную высоту.
Лучше всего получалось у Володьки: он умел подтягиваться целых три (а иногда – четыре!) раза. Мы с Мишкой пока только безуспешно к этому стремились.
…Володька и на этот раз показал нам своё завидное умение и превзошёл самое себя.
— Эй, пацаны! – лихо крикнул он. – Смотрите!
И он (мы так и обомлели!) неуловимо ловко вдруг подтянулся, выжался над турником на прямых руках, сгруппировался и крутанулся вокруг перекладины!
— Вот! – спрыгнул он, тяжело дыша. – Это я только вчера научился.
Наша с Мишкой зависть умножилась тут же стократно, как, впрочем, и уважение к Володькиным способностям. Но ни Володька, ни Мишка, пребывая в эйфории, не заметили кое-что, что тут же засёк я: из кармана Володькиных штанов (при перекруте!) вылетела маленькая бумажная штучка: несколько денежных купюр, плотно сложенных вместе.
Я знал, что Володька должен был сегодня отнести эти деньги своей тётке («Мать задолжала. Насилу собрали. Шутка ли – почти ползарплаты!» — поведал он мне утром).
Он в течение дня (а мы сидели за одной партой) сто раз вынимал деньги, заботливо пересчитывал и перекладывал то в портфель, то из одного кармана в другой… При этом морщился и вздыхал, как взрослый.
Мы с Володькой дружили. Правда, мой отец запрещал мне приводить домой кого бы то ни было, но Володька всё-таки бывал у нас частенько. Это мама потихоньку, зная, когда отца точно не будет дома, разрешала мне.
Я ужасно гордился нашей богатой обстановкой, хорошей едой, которую мог тогда позволить себе далеко не всякий… Мама обязательно усаживала нас обедать, щедро подкладывала Володьке лучшие куски. Я сейчас даже думаю, что приходил Володька вовсе не ко мне, а к ней. Она умела так обращаться с любым, что каждый тянулся к ней всей душой. Я не помню случая, чтобы она кого-нибудь обидела или осудила даже за глаза.
Отец – тот презирал всех и вся; а про Володькину семью говорил:
— Ишь, расплодились, как кролики!
Он вообще всегда презирал многодетных, и поэтому (насколько я понимал), не разрешал матери заиметь даже второго ребёнка.
Володькина же мама растила четверых… Жили они в старом заводском бараке; к тому же Вовкин отец год назад угодил под паровоз в своём депо. Нет, он не был пьяный; просто – несчастный случай. Похоронили его – и с тех пор чудом сводили концы с концами.
Моя мама, зная это, на прощание всегда давала Вовке то кулёк с печеньем, то несколько домашних булочек (перед этим разрезав их и щедро смазав настоящим сливочным маслом), то ещё что-нибудь… Однажды дала даже большой свёрток с вещами.
Сказала, слегка покраснев:
— Володенька, передай вот это маме. Скажи, пусть не обижается; я ж от всей души… У нас оно лишнее – вон как Борька вымахал! – а твоим братишкам как раз пригодится.
(Его братики все были мал-мала-меньше; Вовка – самый старший. И ни одной сестрички! Действительно, ну что они, как кролики?..)
— Спасибо! – растерялся Володька, но взял.
А на другой день принёс моей маме очень красивое вышитое полотенце. Как сейчас помню: белое-белое, как снег; а по краям – густо-красные розы среди буйной зелени.
— Вот, возьмите, мама сама вышивала.
— Что ты, зачем?.. – смутилась мама. – Не возьму! Это ж такая вещь!..
— Возьмите лучше! – хмуро сказал Вовка. – Мамка приказала: хоть в ноги кинься, а пусть возьмёт, не побрезгует!
Долго то полотенце ещё было с нами, а потом мама его на продукты поменяла (там, в эвакуации… Чтобы мы выжили, она отнесла на рынок почти всё, что мы имели).
…Выпали, значит, деньги – и это видел только я. И пока Вовка хвастался, оглаживался да отряхивался, я тихонько подошёл, наклонился и просто взял. Потом, для отвода глаз, наклонился ещё раз и собрал несколько камешков:
— Пацаны, а давайте, кто дальше пульнёт?..
Мы немного посоревновались, и Вовка опять оказался лучшим. Мишка расстроился (обычно он тут выходил первым), а я ничуть не огорчился. В моём правом кармане приятно приютились денежки, и я думал только о том, сколько всего я на них куплю для собственного удовольствия.
Не понимаю теперь, зачем мне были нужны эти деньги?! Всё, что можно было пожелать – у меня имелось, вплоть до прекрасного двухколёсного велосипеда, до которого, правда, я ещё немного не дорос. Родители подарили ко Дню рождения «на вырост», уж очень я хотел.
Но одно дело – родители подарили, а другое – я и сам бы мог приобрести что-нибудь! Наверное, мне очень хотелось вот этого «сам»… Что с ребёнка взять?..
Я с трепетом ожидал момента, когда Вовка обнаружит пропажу, и этот миг, конечно, наступил.
Вовка с озабоченным лицом полез в карман и…
— Пацаны!.. – у него затряслись губы. – Это как же?..
Он лихорадочно обыскал себя, снял даже ботинки зачем-то, пошарил внутри рукой… Мишка тут же вызвался сбегать в класс:
— Может, там, а?..
— Ну как это «там», если я уже тут их сто раз щупал!!! – заплакал Вовка.
Мне стало его жаль, и я уж подумал, как бы так сделать, чтобы вернуть? Но что я скажу?..
— А давайте по площадке походим, — вяло предложил я.
Мы потоптались ещё немного вокруг турника, внимательно глядя под ноги; но я так и не рискнул подбросить деньги. Вышло бы очень уж на виду…
— Ладно, что время терять. Пошли, Вовка, ко мне. Может, мама что-нибудь придумает.
Вовка тут же согласился: у него не было другого выхода. Мама встретила нас радостно, как всегда:
— Володенька, дружок! Давно тебя не было, я уже соскучилась. Ну, давайте скорей, мойте руки: я как раз котлеты дожарила. Замечательные, скажу я вам!
И Вовка тут же разрыдался. Забыл, бедняга, и про обед… А ведь так любил угощаться у нас!
— Ты что, маленький мой?.. Боря, кто его обидел?! – обратилась она ко мне, потому что от Вовки добиться чего-нибудь сейчас было невозможно.
— Никто. Он деньги потерял, — буркнул я.
(Я всегда ревновал маму, когда она называла кого-то «дорогим» или «маленьким». Она моя! У Вовки своя есть…)
— Не беда, это поправимо, — решительно сказала мама.
Она повела Вовку в ванную и заставила умыться. Потом накормила всё-таки нас своим вкуснейшим обедом; спокойно расспросила, как и что. Какая сумма?
А потом сказала:
— Так. Ждите меня. Я быстро! Володенька, слышишь? – не уходи. Деньги сейчас будут.
И ушла куда-то. Вернулась буквально через полчаса и вручила Вовке ровно столько, сколько он потерял:
— Иди, Володенька, и выполни мамино поручение. Только смотри, второй раз не потеряй! – улыбнулась она. – У меня больше нет.
— Тётя Марина! – взмолился Вовка. – Не надо! Лучше всё рассказать… Пусть уж мне влетит, сам виноват…
— Бери!!! – рассердилась мама. – Я что, напрасно бегала?
— Мы отдадим, — решительно сказал Вовка.
— Ни в коем случае! – мама ласково погладила его по голове. И добавила с такой любовью, что я содрогнулся:
— Это будет наш с тобой маленький секрет, ладно? И Боренька нас не выдаст. Да, сынок?
Я кивнул.
— Ты ж нам с Борькой как родной, Володенька. Так что бери смело – и забудем об этом.
Вовка, казалось, готов был расцеловать мою маму. Вот этого только не хватало! И я дёрнул его за руку:
— Пошли, провожу. А то опять посеешь, раззява!
…Лишь несколько лет спустя мама объяснила мне, куда она тогда бегала. Денег «на хозяйстве» оставалось совсем немного, и нужной суммы не было. Отец выдавал матери каждый месяц изрядно, но это всегда случалось первого числа. Но и требовал он для себя лишь самого лучшего, не считаясь с затратами, поэтому всё и уходило. А покупка чего-нибудь из вещей была всегда под его личным контролем, так что «свободных» денег у мамы никогда не было. Вот она и сообразила: отнесла в ломбард старинные золотые часики, подарок бабушки… Их-то отец точно не хватится, он про них и не помнит.
Закупочный пункт был прямо за углом, и мама, радуясь такой быстроте, отдала вещь, нисколько не торгуясь. А ведь могла бы взять больше, гораздо больше!!! Время ей, видите ли, было дорого!
Подумаешь!.. Не умер бы Вовка, в конце концов.
…А на те деньги я долго-долго покупал дорогущие конфеты, по пять-шесть штук в день. Старался – в разных магазинах, чтоб не примелькаться; дошло до того, что чуть не полгорода обошёл. Но ни разу не угостил ни Вовку, ни Мишку, хотя поделиться (похвастаться!) я любил. А тут – не смел…
И понял я тогда: не бывает ворованное сладким; оно всегда – горькое. Не доставили мне радости эти конфеты, нет. Я даже ждал, когда деньги распроклятые кончатся, чтоб снова стать свободным.
И – верите ли? – последние конфеты даже отдал приблудной собаке.
Встретил я Вовку спустя много лет; я тогда уже на Клавке женился. Дело было в воскресенье, и, как сейчас помню, ушла она с малышом подышать. А я остался дома, не любил я эту ходьбу с ребёнком туда-сюда.
Отдыхаю я, значит, чайком балуюсь, и вдруг слышу, что пришёл во двор точильщик:
— Точить ножи-ножницы! Кому точить ножи-ножницы?
Таких мастеров развелось тогда много, и зарабатывали они, наверное, неплохо: охотников «точить» в любом дворе оказывалось предостаточно.
Я выглянул в окно: мастер уже пристроил свой станок и спокойно поджидал клиентов. Сейчас набегут.
Я чертыхнулся, что Клавки нет дома, — не мужское это дело! Но всё-таки поточить было бы неплохо, и я, взяв два ножа и старые ножницы, вышел во двор. Пристроился в хвост (я оказался уже то ли пятым, то ли шестым), но ничего: точильщик работал быстро, хоть и был инвалид, без левой руки.
За мной вежливо заняла соседка:
— Доброе утро, Борис Петрович! – громко поздоровалась она. Я кивнул.
Точильщик зыркнул чего-то на меня, но продолжал работать. Потом ещё глянул, уже повнимательнее. И чего смотрит?..
А когда подошла моя очередь, он вдруг неожиданно спросил:
— А ты, Борис Петрович, не Силин, случайно?
Меня покоробило от такой фамильярности. Нашёл кому «тыкать». Я ему не «кореш»!
— Да, Силин, — ответил я с презрением. – И дальше что?
— А я – Володька Хворостенко! – заулыбался он на все тридцать два своих вставных железных зуба. – Ну, помнишь: школа номер двенадцать, второй «Б»?
Ни за что бы его не узнал!!! Да и он, наверное, тоже, если б не услышал, что я – Борис. Я очень обрадовался. Признаюсь: жило во мне до сих пор чувство вины, хотя и прошло уже столько лет.
— Ну-ну, не обнимай, испачкаешься! – бубнил он радостно. – До чего ж я рад, Борька, что это ты!
Я терпеливо дождался, пока он со всеми закончит (а с меня денег не взял, обиделся даже!), и потащил его к себе:
— Отметить надо! Как хочешь, а сухим не уйдёшь!
Тут и Клавка вернулась, тоже обрадовалась, быстренько сварганила нам водочки-закусочки и тактично ушла в комнату, оставив нас на кухне вдвоём. Куда, в самом деле, бабе в мужскую компанию?
Мы, конечно, выпили, хорошо так посидели.
— А у меня, Борька, все в войну погибли; все!!! – рассказал он. – Эшелон, понимаешь, разбомбили… И маму, и братишек – всех в клочья.
Он налил себе полный стакан, заглотнул единым духом:
— А мне повезло. Руку вот только оторвало – и всё. Хорошо ещё, что левую… Ну, а как твои? – спросил он. – Отец, мама? Ох, и святая женщина тётя Марина, дай ей Боже! Она ж и не старая ещё, наверное?
Я рассказал… А он снова налил и встал, держа стакан в своей единственной руке:
— Так выпьем же, Боря, за то, чтоб святые подольше оставались в живых… Нам без них – никак нельзя!
Мы долго говорили, сидели до позднего вечера, но ночевать он отказался:
— Спасибо, Борька. Моя «половина» будет беспокоиться…
Мы выпили ещё напоследок, и Вовка сказал на прощание:
— А знаешь, Боря, чего мне в последнее время жаль?.. Начали мы забывать, что в жизни главное! отошли от войны, отъелись – и забыли, как люди ТОГДА друг дружке помогали… Всё норовят теперь каждый только для себя, в свою норку… А таких, как мама твоя, первыми и убивают. Как и на войне: сначала гибнут самые лучшие…
Я проводил его, и он обещал заходить, но почему-то больше мы так и не встретились. То ли с ним что-то случилось, то ли, протрезвев, он сообразил, что мы с ним теперь птицы разного полёта – но Вовка так и не пришёл. А адрес я не спросил; не догадался. Даже если бы и взял – разве пошёл бы? Нет! Он ведь – это только воспоминание.
* * *
Как-то раз к нам в стройуправление позвонили «сверху» и потребовали: дайте человека в народный суд. Пока на год, а там – будет видно. Заседателем, на общественных началах.
Созвали собрание, но никто не хотел. Бесплатно же!.. Кому оно надо? И начальство решило назначить добровольно-принудительно. Такие дела обычно прикрываются общим голосованием. Дескать, вы не против, если я порекомендую такого-то? Кто «за»? Единогласно, конечно; главное, чтоб не нас.
Меня, значит, и выдвинули. Хотел самоотвод взять – руками замахали!
— Что вы, Борис Петрович! Кого же, как не вас?! Хороший работник, положительный, самостоятельный… Грамотный! К тому же, — начальство слегка замялось, — не обременённый семьёй, и времени у вас гораздо больше, чем у остальных.
(Я тогда как раз был один, в свободном поиске. Расстался с дежурной сожительницей).
Спорить с начальством – себе дороже, сами знаете. Потерь потом много, и моральных, и материальных.
Вот так и попал я в заседатели на целый год, и, что интересно, втянулся. Даже понравилось. Чего только у людей не бывает, ой-ой-ой!
А ты себе сидишь, весь такой представительный и в галстуке, и важно слушаешь. Судья с тобой вежливо советуется, свидетели с уважением взирают. Да мне, действительно, кроме этого суда – и делать-то было нечего, тут начальник как в воду смотрел.
Много было случаев, все и не вспомнить. Но вот один - никогда не забуду. Тяжело, тягостно было слушать. Судили мужчину одного, молодого совсем. Двадцать восемь лет, двое детей. Отца своего отравил.
Я сначала как услышал - так и ахнул! Вот зверь, а?! Отец старый, совсем больной…
А начались слушания - и я с каждым часом всё больше и больше становился на сторону подсудимого.
Там в чём была соль: парня этого два года назад обязали содержать больного отца. Папаша в суд подал, потому что сын никак ему не помогал и знать не хотел. А батя этот – тоже фрукт: бросил жену с маленьким сыном (официально, гад, не разводился!), всю жизнь кучеряво жил, пил-гулял, алименты не платил. По документам – ведь не должен был, правда? А жена и не подавала… Чего ж она, глупая, своего не добивалась?
— Из гордости, — сказал подсудимый. – И ещё: она его долго всё-таки ждала…
М-да, любовь… Попробуй, пойми до конца… Тянула она сына всю жизнь сама; тяжело работала, выучила. Он институт смог закончить, на работу устроился. Вот жизнь и наладилась – а мать взяла да и умерла. Диагноз – «общая инвалидность». Надорвалась женщина, проще говоря.
Сын женился, детки родились, двойняшки; а тут и папочка возник – постарел, добрый молодец, поистрепался. И в суд на сына – бумажку, что не хочет родителю помочь.
Все свидетели твердили в один голос: подсудимый – хороший человек! Да и сам он локти кусал: как же так вышло, что взял – и отравил отца?..
Жена подсудимого объяснила: перевезли они деда к себе, и свалился он ей на руки как куль с цементом. Тут детки маленькие, с одной стороны; а с другой – это мурло. К тому же – наглое, капризное и скандальное. Чуть что не по нём – начинает в стенку лупить соседям и орать: «Вызовите милицию! Тут старого человека мучают!» Совсем чокнутый, скотина. Мало того, что днём, — он ещё и ночью мог такое представление устроить. Полдома перебудит-переполошит!
Соседи быстро рассудили, кто прав! На их глазах мать-покойница загибалась, пока этот старый хрен на стороне чужих баб щупал. Тоже все до одного за подсудимого – горой!
…Не знаю, может, и я тоже бы не выдержал. Вот его, негодяя, сын и отравил, как паршивую крысу. И сам, сам пришёл на себя в милицию заявлять; другой бы как? – нашёл, кому приплатить, деда бы и не вскрывали. И концы в воду!
А этот, бедняга, мук совести не вынес.
Вот и стоял перед нами, каялся в своём последнем слове и просил: накажите меня, подлеца и отцеубийцу!
Долго мы совещались. И без адвоката знали: помилосерднее надо. Убийство убийству рознь, как ни крути. Думали-гадали: как под «условное» подвести?
Я две ночи не спал, так мне парня того было жалко. А жена у него такая молодюсенькая, девочка совсем; как же ей с детками? Что его в тюрьме ждёт? Даже при небольшом сроке – тюрьма тюрьмой остаётся. Я сам с адвокатом его говорил: давайте припишем «самооборону»! Потом я обошёл соседей парня, сходил к нему на работу – там написали огромное ходатайство на две сотни подписей, в котором просили отдать виноватого «на поруки».
Судья мне даже руку пожал:
— Вы, оказывается, Силин, — человек с большой буквы!
Вытащили мы парня, вытащили! Дали ему всё-таки условно, он чуть руки нам не целовал… А жена его мне поклялась:
— Борис Петрович, если что нужно, — только скажите. Мы за вас – в огонь и в воду!
Вот так было… И вообще, этот год моего заседательства научил меня больше жалеть людей. Ведь у каждого, если посмотреть, своя правда. У каждого!
«…Бросьте в неё камень, кто без греха…»
* * *
— Кактус, а меня посадили бы, если б я её украла? Как думаешь?
…Ещё одна идиотская привычка Надьки: ни с того ни с сего ляпнуть что-то непонятное, вроде бы я только и занят тем, что разгадываю её мысли и решаю её проблемы!
— Кого? – но надо быть вежливым. Проверено.
— Дочку мою, я ж тебе рассказывала! – объясняет Надька. – Всё думаю: а вдруг бы я её ещё маленькую нашла и украла!
— Посадили бы, — отвечаю я уверенно.
— За что? – интересуется Надька. – Я ж родная мама!
— А по документам – ты никто, ничто и звать никак! – меня раздражает её тупость.
Но Надька уже «в теме», не остановишь. Присосалась, как пиявка! Ох, и попьёт она ещё моей кровушки, чувствую…
Она долго выспрашивает, что и как, и отстаёт только тогда, когда я обнадёживаю:
— Ну, если б нашла хорошего адвоката, — может, и вышло бы по-твоему.
— Вот!!! – торжествует Надька.
Но спустя десять минут она пристаёт с новой идеей:
— Не хочется мне одной доживать! Понимаешь, Кактус? А как думаешь: если потом мне найти кого-нибудь; ну, может какого мужичка бездомного, чтоб не очень старый? Я ж, хоть и не молодая, а в цене буду: невеста с квартирой! Может, какой и согласился бы жениться, а?..
Да-а-а, море такта!.. Не знаю, что ей, дубине стоеросовой, и ответить… «Вот возьму, — думаю я зло, — да и отыщу через «Жди меня» детей своих! И Борьку Куропаткина, и нашего с Клавкой сына! И напишу на них завещание, квартиру – пополам!!! Вот Клавка попляшет! Хотел бы я тогда на её рожу посмотреть! Ишь, барышня на выданье нашлась: притащит сюда бомжару какого-то!»
Но, взглянув на супругу, оставляю крамольные мысли при себе: кого и как я буду искать? Сам, что ли? – нет, надо кого-то просить. Надьку, да?! И потом, даже если и найду, — ни я сам, ни имущество моё не нужны им. В этом я почему-то твёрдо уверен… Да и Надька не будет сидеть сложа руки: хоть балкон, но отсудит! Жена всё-таки.
Вот возьму – и назло ей проживу ещё лет тридцать. Сам её переживу, змеюку. И снова женюсь за «право наследования»!
* * *
…Помню хорошо «перестроечные» времена. Ускорение, госприёмка, борьба с алкоголем… Интересное было время, весёлое!
Ходил язвительный анекдот о том, как рабочий на стройке бегал с тачкой целый день туда-сюда. Тачка пустая; он ни на секунду не останавливается, мечется как угорелый.
— Эй! – спрашивают. – Ты чего ж это впустую гоняешь, кто ж тачку загружать будет?!
— Загружать некогда!!! – отвечает рабочий. – У нас главное – это ускорение!
Много очковтирательства тогда было, но побултыхались немного, понапускали мыльных пузырей – и надоело. Доперестраивались. И, как мы это любим, наломали попутно столько дров!..
Но всё-таки вспоминаю я Перестройку с благодарностью: было в ней что-то от весны, бурное и чистое. И дышалось на полные лёгкие. Даже жаль, что недолго.
Затеялась у нас тогда на предприятии одна безалкогольная свадьба. Образцовая, между прочим! Всё делалось так, чтоб потом показать по телевидению. Жених и невеста согласились, хотя и с трудом. Соблазнились, что их прославят на всю страну. К тому же корреспонденты обещали и в газетах это дело осветить.
Готовили, как самую настоящую премьеру. И режиссёр был, и автор сценария. Все гости (а они – брались на счёт, отобраны!) знали свои роли… Короче говоря, испортили молодым праздник!
Нет, не идея виновата. Сама-то мысль как раз неплохая, если б не превратили всё в показуху. Меня аж коробило, когда некоторые моменты переснимали («Слово тёщи! Дубль №2!»). Измучили всех, задёргали.
Но отсняли наконец своё, уехали. И скатертью дорога! Вот тут тёща и огласила свой лучший дубль:
— Наливай!!!
И стало наконец-то всё как надо. Я тогда тоже крепко «принял», а наутро, мучаясь от похмелья, подумал, что пьянка до добра не доводит. Искусственное веселье, что ни говори. Просто убираешь рамки, сносишь барьеры – и всё тебе можно, ничего не стыдно. А потом до чего гнусно вспоминать, что молол и что творил. Эти пьяные поцелуи, бессвязные речи…
Я тоже кого-то обнимал и целовал, кому-то клялся в вечной дружбе и любви. Самое противное, что пообещал Димке Соловьёву одолжить денег. Был бы трезвый – ни за что б не сглупил! Все ж у нас отлично знают, что Соловьев – плохой на отдачу; кому он только не должен! Некоторые уже и плюнули, устали напоминать.
И вот я, дурак, пообещал… Наутро аж дурно стало, как вспомнил. Что делать?
Соловьёв – шалопай шалопаем. Его и по отчеству никто не зовёт; хоть мы с ним – ровесники. Мне-то и не посмели бы сказать «Боря» всякие сопляки, а он – так «Димкой» и помрёт. Наверное, потому и оставался вечно один, при престарелой матери, властной и крепкой бабке, которую ничего не брало.
Слушался он её во всём, как маленький. Одно только не поддавалось мамочкиному контролю: любил Димка поиграть в картишки. И только на деньги!
Вот куда его одалживания шли; ведь зарплату приходилось сдавать матери.
У меня Димка попросил тогда пятьдесят рублей; деньги по тем временам немалые. Хорошо ещё, что у меня с собой не было, а то бы тут же выложил под «ты меня уважаешь». И как теперь сказать, что не дам?!
Я решил держаться «золотой середины». И, когда Димка подошёл (смотри-ка, не забыл, хоть и тоже лыка не вязал!), я твёрдо сказал:
— Димка, ты не обижайся, но пятьдесят – никак не могу! Я вчера совсем забыл, что и сам в одном месте должен. Но десятку – дам.
Димка рад был и этому, хотя немного сник. А я вынул денежку и с огромным сожалением проводил её глазами в Димкин карман. Как и когда теперь выудить её обратно? – задачка не из лёгких.
— Вот что, Соловьёв, — мне так жаль было денег, что я решил действовать решительно. – С первой же зарплаты вернуть до копейки. Договорились?
— А как же! – он уже вряд ли слышал меня. Наверное, предвкушал, как сегодня наиграется.
Естественно, что в ближайшую зарплату он обо мне и не вспомнил. Я не собирался отступать:
— Димка, отдавай деньги!
Соловьёв клялся, что в этот раз «случайно» не рассчитал, отдать никак не может; но на следующий месяц – несомненно! Точно и без задержки!
Что ж, я подождал. Но накануне придумал одну остроумную штуку. Я потихоньку поспрашивал, кому и сколько должен наш игрок, и составил список. Кто ухмылялся, кто махал руками… Но никто не верил, что выйдет что-нибудь путное.
А я подошёл к Зиночке, у которой мы все получали свои «кровные» и поделился с ней новым планом. Так как Зиночке Соловьёв тоже был должен (правда, всего три рубля, но всё-таки!), она меня с удовольствием поддержала. Надо, надо его проучить!
В день зарплаты я со своим списком уселся возле Зиночки, и когда Соловьёв пришёл (а мы всё-таки переживали, ведь действуем незаконно), Зиночка сказала:
— Вот что, Дима: начислено тебе сто шестьдесят три; плюс премия – девяносто. Всего…
(Она торжественно назвала итог, и Димка разулыбался. Премию получали все: как раз сдали новый объект).
Он уже протянул было свои лапищи за деньгами, но тут уже вмешался я:
— Распишись сначала, что получил!
Соловьев, недоумевая, черкнул свою раскоряку.
— Вот! – настал момент истины, и Зиночка заёрзала на стуле. – Смотри, Соловьёв. Ты должен за те три года, что здесь работаешь…
Я выложил список. Толково и подробно было указано, кому и что: цифрами и в скобках – прописью. Как в банке. Внизу, под чертой, била по глазам общая цифра: двести пятьдесят рублей.
— Это… что такое? – не понял Димка.
— Долги твои, голубчик, вот что! – я почувствовал миг торжества. За всех сейчас мстил, что ни говори! Возле Димки начали собираться любопытные.
— Так что причитается тебе, Соловьёв, на руки, три рубля восемь копеек. Получи!
Зина, не поднимая глаз с перепугу, быстро выложила перед Димкой остатки его заработка.
— Да я… Я!.. Ах ты, своло-о-о-та! – выдохнул он мне.
— Сволота – это ты, — я ожидал подобной реакции и был убийственно спокоен. – А я – Борис Петрович Силин. И попрошу на «Вы». Потому что я, в отличие от тебя, уважаемый человек. И людей не обманываю.
— Правильно! – очень вовремя вклинился Домбровский. – Мне десятку с прошлого года должен, всё «завтра» да «завтра»!
И он пожал мне руку:
— Спасибо, Борис Петрович!
Я аккуратно вынул червонец из бывшей Димкиной зарплаты (Зиночка всё заранее отдала мне) и вручил Домбровскому под расписку в своём «долговом листе».
Соловьёв плюнул, грязно выругался и куда-то выскочил, забыв и про те несчастные «три рубля восемь копеек».
— Пусть бежит! – мне даже хотелось скандала.
Игривое настроение не покидало меня. Я прошёлся по всем, и через час должники Соловьёва были удовлетворены.
…Наутро к нам ворвалась Димочкина мамаша, крепко держа за руку своего нерадивого отпрыска.
— Кто?! – спросила она сурово.
— Он, — Димка робко потыкал пальцем в мою сторону.
— Я на вас в суд подам!!! – загремела Соловьёва-старшая.
— На здоровье, — поклонился я. – Всё задокументировано, подписи на месте. Не желаете ли снять копию? – я был вежлив до неузнаваемости.
Старуха, видно, ожидала чего угодно, но не этого.
И её гнев поменял направление:
— Ну, придёшь ты домой, паршивец! – пригрозила она Димке. – Придёшь!!!
…На этом и кончилось. Мы все долго ещё ухахатывались, вспоминая эту историю. А я стал своеобразным народным героем и очень любил пересказывать эту историю в красках, каждый раз снабжая её новыми смешными подробностями.
И, между прочим, совершил я доброе дело. Ведь Димка-то с тех пор – к своим картёжникам ни ногой! Теперь мамочка контролировала не только сыновние заработки, но и его свободное время: не ленилась в конце рабочего дня заходить за ним и вела домой, как нашкодившего второклассника. Картина – пальчики оближешь!
Сколько бы это продолжалось – неизвестно (мне, например, этот цирк доставлял истинное удовольствие), но Димка перешёл на другую работу. Наверное, куда-то поближе к мамочке, а то ей далеко приходить.
Могу догадаться, что с ним было дальше. Интересно, а дожил ли он до моих лет?
* * *
А в понедельник мне приснилась моя мама: молодая-молодая! Она грустно улыбнулась и спросила:
— Сынок, а почему ты так редко вспоминаешь меня? Разве я не заслужила?..
Мне стало стыдно:
— Прости меня, мамочка! Я ведь старик совсем… Ты пришла за мной?
— Нет, дорогой. Я пришла напомнить, что люблю тебя, какой бы ни был. Поживи ещё. Только могилку мою поправь, ладно?..
Сказала – и растворилась в серебряном тумане. А я проснулся в слезах. Долго думал, а к вечеру решился:
— Надя, прошу тебя! Поезжай на кладбище, прибери немножко могилу матери моей!
Я ожидал, что Надька раскричится («Не обязана! Ещё чего!!!»), но она просто и деловито сказала:
— Вот бумажка, рисуй подробно, как найти. Но учти: если не отыщу – второй раз не поеду!
Я так обрадовался!.. Сам-то я уже лет семь там не был; с тех пор, как стал плохо двигаться. Куда мне?..
Надежда съездила удачно: быстро нашла, покрасила оградку, навела порядок.
— Слава Богу, цел памятник мамы твоей. Повезло! Два соседних – какие-то козлы разбили. Чтоб им руки поотсыхали, гадам!
…Зачем мёртвых трогать?.. Они своё отстрадали. Это нечестно; ведь они не ответят.
Я взял с Надьки верное слово, что «потом» она не бросит на произвол судьбы место моего вечного сна. Обещала:
— Ради мамы твоей, Борис Петрович! И за тобой, и за ней – пригляжу, пока смогу. Понравилась она мне…
* * *
Я ведь и не жил совсем, а только собирался… То одно, то другое! Вот думал: завтра будет уже по-настоящему; а это – так, подготовка.
А теперь, значит, всё позади. И это «всё» - пшик один, пустота. Превратил свою единственную жизнь в черновик, глупец старый…
Дождался финала: под боком – фальшивая жена, и ни одной близкой души на всём белом свете.
Надьку, бывает, как перемкнёт: то слова от неё не дождёшься, то хоть на хлеб намазывай. Что у неё в душе? – попробуй пойми. Мне такие перепады никак здоровья не добавляют.
Добрая она или злая, как понять? Вот разоралась однажды, а я взял и спросил:
— Не пойму я, Надежда, ты – какая?
— А какая есть!!! – взбеленилась она. – На себя посмотри!!
Надо было мне замолчать, но я взъелся. Что я, в самом деле, преступник какой-нибудь?! Я не в камере-одиночке, а она – не надзиратель! Так и сказал. И к тому же, не за «спасибо» она тут прописалась; свой интерес караулит!!
Давно я так не орал. Сначала с достоинством заявил, а потом – отвёл душеньку!
Она не ожидала. Глазками захлопала, подавилась.
— И вообще, милая моя, ещё раз голос на меня поднимешь – вылетишь отсюда как пробка из бутылки! Я на развод подам !!
— Дерьмо неблагодарное, Кактус чёртов! – буркнула Надька и … ушла. Целый день её не было, я проклял всё на свете, а свой дурацкий язык – в первую очередь. Где, где я найду такую, как она?! Не такой я уж и пан, терпеть должен. У неё судьба – не сахар…
И с каким облегчением я услышал, как наконец-то поворачивается ключ в замке. Она заглянула в комнату:
— Ну что, не помер ещё?
Но спросила не зло, а, скорее, с юмором.
— Извини меня, Надежда! – взмолился я.
— Да и ты, Кактус, зла не держи, — повинилась она. – Устаю я возле тебя, понимаешь? Так и озвереть можно.
— Ничего, я понимаю… — бормотал я. – Ты, если что, это… Не сдерживайся!
— А я тоже хороша! – сделала вывод Надька, и мы помирились окончательно.
…Так добрая она или нет?
И чем я сам лучше?..
* * *
В начале восьмидесятых начался в стране настоящий дачный бум. Не удержался и я, и, когда ушёл на пенсию, годика через три взял участок. Чего ж не брать, пока дают? – все как с ума посходили, готовы были платить любые деньги за клочок земли, а наше стройуправление раздавало участки бесплатно. Но в первую очередь, конечно, самым достойным. И ветеранам-пенсионерам!
Мне, как говорится, и сам бог велел. Потянуло что-то к природе, так захотелось вдруг посадить деревце под окошком дачи… Помню, мама моя всегда об этом мечтала, но не пришлось.
В личной жизни у меня, как я уже рассказывал, наступила «вторая весна» (как потом выяснилось, она же – и последняя). Полина Евгеньевна осталась в туманном прошлом; а я довольствовался вниманием приходящих любовниц. В тот год, кажется, меня ублажала Наташка. Или не она?.. А впрочем, какая разница? Все они, по сути, одинаковы.
Получил, значит, я хорошенький участок, и возрадовалась душа. Работая сторожем в музее, я теперь ждал своих свободных дней с настоящим азартом и не чувствовал никакой усталости, наработавшись возле любимых грядок. Соорудил добротный сарайчик; мечтал постепенно выстроить домик. Небольшой, комнатки на две-три.
С каждым приездом что-то постоянно менялось вокруг. Мой участок располагался, по счастью, на главной «улице», и её моментально заасфальтировали: соседом справа у меня оказался один из наших стройуправленческих «тузов». И не так чтоб уж очень крупная фигура, но достаточно влиятельная, поэтому и дом (двухэтажный, со встроенным гаражом) вырос у него очень быстро. Конечно, это не то, что я, мелкая сошка: брал в своё время по три кирпича в день, да и то – с оглядкой. Этот тащил от души, и всё самое лучшее. Получился не просто дачный домик, а настоящий загородный особняк со всеми удобствами. Вот как мужик устроился! Молодец!
Я тешил себя мыслью, что и сам кое-что смогу. Уже прикидывал и расчерчивал, что и как. Ничего, и мы не лыком шиты; тоже найдём, где плохо лежит. По старым связям!
Ночевать на своей даче я никогда не оставался, потому что пока было негде. Да и не любил я некомфорта. Поэтому, наработавшись, к вечеру уезжал последним автобусом (так удобно кто-то устроил, что один из городских маршрутов получил конечную остановку в нашем кооперативе). Я даже догадывался, кто: один из участков отхватил себе начальник АТП, родственник того самого управленца.
Так отлично! И себе, и людям.
Но вот один раз (как сейчас помню, четвёртого мая) опоздал я на автобус. Увлёкся, не рассчитал. Хоть и не на работу завтра, а обидно. Расстроился, конечно: утренний рейс только в шесть часов. Но ничего не поделаешь; не идти же, в самом деле, пешком до основной трассы. Пять километров, как-никак.
Выпадало мне заночевать в сарайчике. Хорошо, что ночи уже тёплые. У меня была пара старых одеял, и кое-какое ложе я из них соорудил. Под голову решил пристроить фуфайку.
Поработал ещё (спешить – то же уже было некуда!), поужинал последним бутербродом, и – на покой. Но не спалось что-то, совсем не спалось. Я вообще всегда тяжело засыпал, если был не дома, особенно в этом возрасте. Не мальчик уже.
Мысленно дав себе слово, что это – в первый и в последний раз, я решил сходить к речке. Посидеть, подышать. Воздух-то какой, хоть ложками ешь.
Речушка – в двух шагах, спуститься надо только на одну улицу вниз. Я с удовольствием прошёлся: ох и ночка-красавица сверкала вокруг! Звёзды – ну тебе россыпи серебряные! Долго сидел я у воды, даже озяб немного. Возвращаться в сарай ужасно не хотелось.
И тут меня осенило: а не попроситься ли к соседу хоть умыться? Неужели ж откажет? Объясню ситуацию…
Я пошёл назад. Соседская громадина светила окнами второго этажа. До чего же там, наверное, уютно!
Я немного помялся, но раз принял такое решение – надо действовать. И я уверенно прошёл к крыльцу (калитка почему-то была не заперта), хорошенько постучался.
Открыли быстро, без традиционного «кто там»? На пороге, в рамке света, стояла прелестная женщина с отличной фигуркой.
— Здравствуйте! – сказала она певуче и улыбнулась. – Вы кто мне? Да проходите же, что в дверях объясняться?
Я шагнул в просторный коридор (да, отделано на славу. Любая городская квартира потускнеет от сравнения!):
— Я сосед ваш, Силин Борис Петрович. Понимаете…
Она приветливо выслушала и тут же предложила:
— Да конечно же, какие проблемы? У нас отличная ванная, и душ есть.
Показала, куда пройти, принесла даже большое махровое полотенце.
— Ой, до чего неудобно получилось… — всё ещё стеснялся я.
— Удобно! – рассмеялась она. – Сосед соседу – друг, товарищ и брат. Вы же, например, не отказали бы мне, правда?
Я согласно закивал. Конечно, как же иначе!
— Вот и не смущайтесь, мойтесь на здоровье!
Я от души привёл себя в порядок, даже голову помыл: тут же, на зеркальной полочке, стоял целый арсенал шампуней на любой вкус. Эх, жаль, что надо уходить!
Я вышел наконец из ванной, а хозяйка тут как тут:
— Борис Петрович, а чайку попить? Ну раз уж зашли на огонёк, давайте по-соседски попируем; успеете в свой тёмный и неуютный сарай!
…Она мне нравилась с каждой секундой всё больше и больше: открытая, простая, милая… Несмотря на то, что жена большого начальника.
Я остался, конечно, и мы бесконечно пили то чай, то кофе, хохотали над чем-то… Я поведал интересное про свой музей, а она презабавно рассказала, как её муж мечтал об этой даче, а теперь – приезжает редко; поселил её тут сторожихой.
— Я ведь на пенсии, Борис Петрович, вот и торчу весь сезон здесь. А ничего, мне нравится!.. Главное, что книг – полон дом; поработаю – почитаю. Время летит незаметно.
— Как «на пенсии»? – удивился я. – Больше сорока лет вам не дашь!
— Да, на пенсии! – она опять довольно засмеялась. – Что, хорошо выгляжу? Так стараюсь, работаю над собой. А мне ведь пятьдесят шесть, как одна копеечка.
— Молодец! – искренне восхитился я. – Если б мне кто сказал, что мы с вами – оба пенсионеры, не поверил бы никогда!
…Было уже далеко за полночь, когда я поднялся и церемонно начал раскланиваться:
— Спасибо, Лилия Константиновна! Очень, очень рад знакомству!
— И я рада, Борис Петрович. Только… — она замялась. – А оставайтесь-ка вы ночевать!.. Да удобно, удобно!
И торжественно добавила:
— Если б я не видела, что вы – приличный человек, то и не предлагала бы… И я, между прочим, женщина достойная! – сказала она без всякого пафоса, просто сообщая очевидный факт.
Нечего и говорить, что я с радостью согласился. Лилия постелила мне в маленькой комнатке наверху, пообещала разбудить (я просил пораньше, чтоб попасть на первый автобус ), и ушла в свою спальню.
…Выспался я, как младенец! Она, действительно, разбудила, как и обещала, накормила ещё и отличным завтраком, и я, наконец, отбыл.
Целое дежурство своё в музее я думал о ней, ждал окончания работы как манны небесной. Но… что я ей скажу? Снова в дом проситься; мол, опоздал на автобус? И нагло, и противно. К тому же – и муж может возникнуть. А не хотелось бы…
И я всё вспоминал и вспоминал Лилию: какие у неё красивые маленькие плечики, какая тонкая талия! А волосы! Пышные, светлые… Так и хочется погладить! Взять бы такую женщину на руки – нежную, ласковую… На край света, наверное, занёс бы1
Влюбился, что ли?.. Нет, это вряд ли. Но захотелось, так захотелось чего-то настоящего! Чтоб смотрела она на меня с любовью, чтоб ждала каждого моего слова, что таяла в моих руках! Как Светка Куропаткина, например.
«Ой, нет! – отмахнулся я. – Светка – это не то. Вот Софочка Гутман или Веточка Иволгина… Чёрт возьми, неужели меня никто уже не полюбит от всей души, а?!»
В следующий раз я примчался на дачу первым рейсом. Работал и поглядывал на соседские окна: видит ли меня Лилечка? Видит, конечно! Ну что ж ей, выскакивать, что ли? Кто я ей такой? Около их калитки стояла «Волга»; значит, муженёк пожаловал… Тем более она не выйдет, значит.
«А вот пойду сейчас и познакомлюсь с ним! – злился я. – Сосед всё-таки!»
Но нет: неприятный он тип, отталкивающий даже. Видел я его, и не один раз, ещё в бытность мою прорабом, в президиумах. Огромный, лысый, поперёк себя шире. И рядом с этим окороком – такая женщина! Просто очевидное-невероятное. Что она нашла в этом ходячем куске сала?
(Я уже успел позвонить кое-кому со старой работы, потихоньку разведать, что живут мои соседи вместе почти сорок лет. Стаж! Остались теперь одни: взрослый сын где-то на Севере служит).
Наверное, по молодости соседушка мой был совсем не таким? А Лилечка? – я представляю, какая она была, если и сейчас не просто женщина, а сказка. Да, у соседа губа не дура.
…Лиля говорила, что наезжает он не часто, один раз в две-три недели. Продуктов подкинет – и до свидания. Может, у него есть кто-нибудь?.. Спровадил законную супругу на дачу, а сам… Пусть родимая поработает, пока он отдохнёт от семейных уз! Точно, так оно и есть! Кому хочешь осточертеет за столько лет самая лучшая баба, тут я его понимаю.
Вот и хорошо, вот и отлично. Он – редко, а я – часто… Будет у меня ещё всё по-настоящему, а как же!
Как и что делать – такого, как я, учить не надо. Что бабы любят и что хотят услышать – я могу диссертацию написать. Сначала у нас были только тёплые приятельские отношения, но процесс пошёл.
Потом – всё теплее и теплее. Очень увлекает, как будто играешь в «холодно-горячо». Я с азартом наблюдал, как Лилечка меняется, поддаётся; и точно знал, что, например, в следующий раз она уже будет смущаться и дрожать, когда я возьму её за руку.
Муж-боров тоже, конечно, иногда появлялся, но ночевал очень редко. Зачем, если его в городе кто-то ждёт. Логично?
Я увлёкся игрой по полной программе.
Конечно, Лилечка мне очень нравилась, но от настоящих страстей бог отвёл. Спасибо, проходили уже… Попробуй потом отодрать от сердца! Вся душа в клочья; я ведь свою Веточку до сих пор со слезами вспоминаю.
А вот Лилия Константиновна всё-таки попалась на крючок любви, глупенькая. И похорошела ещё сильнее, даже удивительно.
— Не знала я, Боря, что последняя любовь – это так безумно прекрасно! – призналась она мне.
…Ох, эти ночи-ноченьки! Вся весна и лето были наши. А ещё оставался и сентябрь, если будет тепло. Но поднадоела мне уже её любовь. Нет-нет, да и заплачет в плечо:
— Не бросай меня, Боря! Только не бросай!!! Я умру без тебя!
Ничего, выживет. Надо же, как привязалась! Кто бы мог подумать?.. Но я успокаивал её, обнимал:
— Что ты, милая? Я же с тобой!
— Уйдёшь ты от меня, Боря. Я знаю!.. Вот перестанешь ездить – и бросишь меня…
…Да, что ни говори, а баба – она всегда сердцем чует, как ни скрывай.
— Последние, последние мои денёчки! – целовала она меня. – Спасибо тебе, родной!
— За что? – удивился я. (Вот и пойми её: то плачет, что брошу, то «спасибо»…)
— За любовь спасибо. Я ведь уже думала, что не будет у меня этого счастья никогда…
Мне стало любопытно, и я осторожненько спросил:
— А муж твой? Неужели ты за него без любви шла?
— А вот представь себе, что без любви, — вздохнула она. – Бросил меня тогда один человек, обманул и уехал. Вот я от стыда и от отчаяния за первого встречного и пошла… У него тоже какая-то драма до меня была, я не очень докапывалась. Знаешь, как в одной песне поётся: «Просто встретились два одиночества…» А прожили всю жизнь вместе, и неплохо. Хоть и без любви, но с уважением… До чего же хочется, Боренька, хоть в конце жизни и себе капельку счастья!
И снова целовала меня:
— Солнышко ты моё осеннее!!! Радость моя!..
И снова плакала, плакала… Я уже и боялся её любви: вот возьмёт, глупая, и мужу всё разболтает! Знаю я этих порядочных, ну их к лешему. Лучше уж с такой, как Наташка: всё просто и ясно. И знаешь, за сколько. Такой себе секс-сервис на дому.
А что я буду делать, если Лилечка вдруг заявит, что уходит от мужа ко мне?! Выставлю, конечно; это без вариантов. Но Лиля такого может наворотить от отчаяния!
И это я ещё не в курсе, на что способен супруг-управленец! Можно и в рыло получить… В любом случае – будет больно вспоминать.
Итак, пора заканчивать этот дачный роман. И, чтоб наверняка, решил я продать свой участок. Конечно, жаль было, ведь столько труда вложил! И, наверное, всё-таки не продал бы (как-нибудь перетерпела бы моя разлюбезная, куда б делась?), но услышал я от судьбы «первый звоночек»: начали ужасно болеть ноги и спина.
А потом я так серьёзно расхворался, что из-за немощи почти все деньги, полученные от продажи дачи, потратил на лекарства. Немного отпустило, и я успокоился. Думал: вот очухаюсь, прикуплю земельку в другом месте. Кто-то ведь и продаёт, как кто-то и покупает…
Но не пришлось больше, ведь, начиная со следующей весны, болезнь моя забирала у меня с каждым месяцем всё больше сил. И буквально через год я стал уже далеко не тот, что раньше.
С Лилечкой с тех пор так и не виделись, хотя я боялся, что станет она разыскивать меня в городе. Начнёт опять плакать, приставать… Но нет! Видно, остатки гордости не дали ей этого сделать. Вот и прекрасно! Лишние разговоры только.
* * *
Вот интересно бы узнать, а Светка Куропаткина выходила потом когда-нибудь замуж? Тоже, наверное, со слезами рассказывала, что в молодости её «обманули и бросили»? Странные всё-таки создания эти бабы: сами под нас лезут (я ж Светку не насиловал!!), а потом разводят бодягу про «подлецов» и «мерзавцев».
Гордость надо иметь, голубушки! И не будет на кого пенять.
… — Кактус, а тебя часто бабы бросали? – это снова Надька-зараза влезла, перебила мысль. А ведь так хорошо вспоминалось!
— Нет!!! – почти что не соврал я. – Никогда!
— Так вот, скотина старая, — отрубила жёнушка. – Я буду первая, если ты, Кактус, ещё раз забудешь «утку» попросить!!! На лысину тебе дерьмо выложу, чтоб теплее было, засранец!!
…Да, действительно: опять я пропустил момент, замечтался. Она на запах прискакала…
Вот тебе и «последняя весна любви», производитель домашних удобрений!..
— Сейчас как заставлю самостоятельно в ванную ползти, червяк навозный!!!
…Молчу, слушаю… Пусть выкричится, зато потом – всё сделает. Сам виноват!
* * *
А на прошлой неделе был у меня День рождения. Восемьдесят три года стукнуло.
Сделала мне Надька воистину царский подарок: купила наконец-то новые очки. Но строго предупредила:
— Учти, Кактус: если и эти расколотишь, я больше пальцем не пошевельну, хоть ослепни!
И милостиво добавила:
— Сейчас за тортиком схожу, отпразднуем. Только извини, свечек ставить не будем. С таким количеством и дом можно спалить!
Я обрадовался и расчувствовался:
— А у тебя, Наденька, когда День рождения? Тоже хотел бы поздравить…
— У меня? – вздохнула жена. – А у меня, Кактус, когда нашли – тогда и День рождения. Примерно записали, и всё. Я и не отмечаю никогда; всё равно ведь – неправда…
Бедная, бедная… Что ж я ляпаю невпопад? «Думать надо, пень маразматический!» — обругал я себя мысленно.
Надежда, действительно, ушла за тортом, а по дороге купила мне ещё и свежую газету. Вот это праздник!!! Я уж и забыл, когда последний раз что-нибудь читал. Но теперь – хорошо будет, книг у нас хватает. И, может, Надюшка время от времени станет приносить ещё и газеты?..
— А на кой ляд они нужны? – спрашивает Надежда. – Всё равно там ничего хорошего, расстройство одно. Ради программы если только брать – так «ящик» же не работает, сам знаешь.
Хотел я, было, пока у супруги хорошее настроение, и про телевизор спросить. Вот бы починили, а?.. Но опоздал, упустил момент. Надежда уже резала торт и ругалась на чём свет стоит:
— Нет, ну ты посмотри, Кактус, что они, сволочи, подсунули?! Сказала же ясно и понятно: бисквит дайте! А они — «птичье молоко» всучили, чтоб им на том свете травиться каждый день!
Я знал, чего она рассердилась: недавно чуть не до смерти йогуртом магазинным отравилась. Еле «отошла», рвало её по-чёрному. И из туалета не вылезала. Потом только догадалась посмотреть на срок годности и ахнула… (Хорошо, что мне не дала!)
…. — И куда теперь, к свиньям собачим? – бушевала Надька.
— Да ты на дату сначала глянь! – нашёлся я. – Может, и ничего?..
Надежда недоверчиво изучила этикетку:
— Вроде свежий…
Но продолжала бурчать:
— Им, ворюгам, эти даты подделать – раз плюнуть!
Но уже, однако, резала торт. Покормила меня от души. Я даже подумал, что жизнь всё-таки хороша, как ни крути. Особенно сегодня.
* * *
В новых очках я смахивал на профессора, — так сказала Надька. Она, похоже, необыкновенно гордилась столь удачным подарком. Я ведь даже стал называть её «Надюша», и она сразу, как и любая женщина, заметила и оценила мою любезность.
— А тебе, Кактус, очки очень даже идут! – повторяла она сто раз на день. И я снова благодарил.
Она принесла мне зеркало, чтобы я оценил, и отражение показало, что очки и вправду отлично смотрятся. Лицо получилось серьёзное, умное; толстая чёрная оправа благородно блестела, делая меня похожим на учёного-ботаника.
Жаль, что, кроме Надьки, и оценить-то больше некому.
…У кого ж ещё я видел точно такие очки?.. И вдруг отчётливо всплыло: Яшка Рагозин, однокурсник!..
Учился я заочно, и мы с Яшкой виделись только на сессиях, один раз в полгода, но почему-то сблизились. Вот он и носил такие же очки, с толстющими линзами: Яшка был ужасно близорук. А когда снимал их, чтоб протереть стёкла, то становился похож на беспомощного слепого котёнка. Но башковитый был на зависть, всё схватывал прямо на лету! Он один из всего потока был самый настоящий отличник, без скидок на «заочность».
«Рагозина надо оставить на кафедре!» — в этом твёрдо был уверен весь преподавательский состав института.
…Как-то пригласил он меня к себе. Я уж и не помню, зачем: книжку какую-то я у него попросил, что ли?
Я пришёл и ахнул: вот точно в такой же квартире жили и мы до войны. Завидно стало! Что ж ему так везёт? И умный, и живёт хорошо… С тёткой, правда, а не с матерью. Тоже, значит, сирота: рассказал, что его мать и отца расстреляли немцы, а Яшку тётушка как-то спасла.
Тётка теперь не совсем здорова, так что на Яшеньку – все её надежды. Поэтому он и учится на заочном: нужны деньги, и Яшка работает.
Я походил по комнатам, поосмотрелся: да, шикарно! Спросил про дядю. Что ж тётка-то одна? Яшка, смущаясь, объяснил:
— А дядю забрали в тридцать восьмом. Давно уже… Наверное, и в живых нет…
— Да? – поразился я. – А квартиру как удалось сохранить? Ведь «враг народа»?..
Яшка, видно, уже и пожалел о своей глупой откровенности, но было поздно. Он, потея и краснея, принялся подробно объяснять, что тётушка тут же с мужем развелась (знающие люди посоветовали. Сказали, что так можно спастись), вернула себе девичью фамилию, и её не тронули. А квартира – это от её отца, Яшкиного дедушки. Профессора медицины Семёна Аркадьевича Рагозина…
Очень, очень меня всё это заинтересовало. Значит, Яшкин покойный папочка и эта тётушка – родные брат и сестра?
— Только ты, пожалуйста, никому! – шёпотом умолял меня Яшка на прощание, искательно заглядывая в глаза. – Тётя отреклась же, понимаешь? Я в анкетах нигде не указываю…
Вот! Вот оно, главное! В анкетах, значит, умалчивает? Ничего себе отличник…
Но слово своё я сдержал, я как же! Раз Яшка просил, так тому и быть. Хотя я и рисковал (недоносительство тоже считалось политическим преступлением), однако, и рта нигде не раскрыл.
Единственное, что, — так это обратился к Яшке один раз за помощью, и всё. И он побоялся отказать! Я ж ведь намекнул, что…
Впрочем, всё по порядку. До получения диплома оставалось уже всего-ничего, шла предпоследняя сессия. Многие заранее сделали большую часть дипломного проекта, а я ещё и не начинал. Всё думал, что успеется. А время-то поджимало!
Вот тогда я и пришёл снова к Рагозину и прямо сказал: сделай, мол, за меня дипломную работу – и мы в расчёте. А что ему стоит, он же гениальный у нас; к тому же его собственная – кажется, уже и готова.
Он растерялся, начал было отнекиваться… Но никуда, голубчик, не делся. Начертил всё в лучшем виде и написал всё, что надо. Мне только осталось сдать – и диплом уже в кармане. Помнится, я даже «отлично» получил. Вот как славно вышло: и Яшке выгодно, и мне!
К тому же, я думаю, получил он хороший урок на всю оставшуюся жизнь: не болтай зря! Болтун, как известно, — находка для шпиона. Может, я его спас тогда от чего-нибудь более серьёзного, а?! Кто знает, как сложилось бы, если б он разоткровенничался не со мной, а с каким-нибудь подлецом?
…И ещё один интересный случай был со мной в том же институте. Училась с нами одна фифочка, много из себя корчившая; Нинка Фортунатова. Такая вся неприступная, такая неземная, даже противно. Присмотрелся я к ней – и злость взяла. Ведь что о себе вообразила?!
Я подъехал было с ухаживаниями, а она ответила:
— Знаешь что, Силин, даже если бы на Земле остался один-единственный мужчина, и это был бы ты – и то у тебя не было бы ни малейшего шанса!
Ах, ты!.. Я понимаю: если хочешь отказать – то откажи, но зачем же оскорблять?! Я затаил, конечно, обиду, и поступил просто и остроумно. Выяснил, с кем она всё-таки встречается, нашёл этого осла (тоже в очёчках, как и Рагозин!) и сказал ему, что хочу предупредить по-дружески, как мужик мужика. Что, мол, Ниночка его спит чуть ли не со всем институтом, а его – за запасного держит. Подлая она, пусть любимый присмотрится. («И со мной спала!» — добавил я на прощание, когда убедился, что очкарик не способен на мордобой. Типичный слюнявый интеллигент!)
Не знаю, что там у них дальше вышло (мы получили дипломы буквально на второй день и разбежались навсегда), но неприятности, думаю, я обеспечил ей железно. Она к тому же и беременная была, оказывается; замуж, видите ли, за своего хлюпика собралась. Вот пусть и расскажет, чей это ребёночек?
Будет знать, как хамить человеку!
Вот вспомнил – и настроение поднялось. …Ну-ка, ну-ка, где моя газета? Почитать, что ли?..
* * *
…Однажды мы с мамой нашли птенчика, который выпал из гнезда. Мне было лет пять, что ли, но помню хорошо. Лежал такой себе беспомощный комочек прямо на земле, судорожно трепыхался.
Мама ахнула и присела:
— Ах ты, бедняжечка!
Тут же расстелила носовой платочек и бережно переложила в него эту крохотульку. Мы принесли его домой, и мама сделала птичке «гнездо»: устелила травкой небольшую картонную коробочку.
Я каждый час бегал смотреть, дышит ли ещё наш найдёныш. Он был жив, но совсем не хотел двигаться.
Вечером коробку увидел отец:
— Марина, что это за дрянь?!
Мама объяснила.
— Выбросить надо, — отец был спокоен и категоричен. – Всё равно сдохнет, нечего вонь разводить.
Мама никогда с ним не спорила, но здесь сказала «нет!» так твёрдо и жёстко, что я поразился. Отец удивлённо вскинул брови:
— Что?!
— Нет! – повторила мама, но в голосе уже звенели слёзы. – Нельзя, понимаешь? Ведь мы с Боренькой его нашли… Это будет такая травма для мальчика!
— А если сдохнет – не травма? – насмешливо прищурился отец.
— Одно дело – сам умрёт, а другое дело – мы выбросили… Понимаешь, Петя?! Я не хочу воспитывать нашего сына жестоким!!
— А я не хочу, чтоб он рос сопливой бабой и слюнтяем, — скривился отец презрительно. И приказал, давая понять, что больше слушать не намерен:
— Выбросить, я сказал. Ещё раз увижу – сам раздавлю.
Отец всегда поступал именно так, как говорил. Мама заплакала, я испуганно посмотрел на неё. А отец спокойно вышел в зал. Не выполнить было нельзя.
Но мы с мамой придумали! Пошептавшись, как заговорщики-революционеры, мы отнесли «гнездо» в соседний дом, где жила мамина приятельница, тетя Оля. Её дочка Люсенька, моя ровесница, очень обрадовалась, и мы со спокойной душой вернулись домой: тетя Оля твёрдо обещала «сделать всё, что можно».
Отец, уверенный, что никто не посмеет его ослушаться, больше про птенчика и не спрашивал, а мы с мамой теперь тайком каждый день навещали нашего любимца. К большому удивлению всех нас, птенец всё-таки выжил! Он был теперь бодр и весел, а тётя Оля с Люсенькой приспособились кормить его из чайной ложечки. До чего забавно было смотреть! Тётя Оля ловко и осторожно, захватив птенчика в горсть, открывала ему клювик двумя пальцами, а второй рукой скармливала прямо в ротик зёрнышки с кончика ложки. Вот это да!
Потом он смешно пил воду из маленького кофейного блюдца. Люсенька назвала его Чирикалкой, и мы с удовольствием приняли это замечательное имя.
— Ты представляешь, Марина! – смеялась тётя Оля. – А Чирикалка наш такой чистоплотный, просто удивительно. Вот давайте подождём: кое-что понаблюдаете!
И мы действительно поразились: птенчик наш что-то забеспокоился, завозился; потом стал подвигаться хвостиком вперёд к краю гнезда, выставил задок за картонку – и… Мы увидели, как выпал кусочек птичьего помёта.
— Вот! – сказала тётя Оля. – Ни разу в гнездо не накакал! Всё время так делает.
И она ловко убрала последствия «туалета» Чирикалки.
А спустя несколько дней Люсенька встретила нас радостным криком:
— Наш Чирикалка летать научился!!
— Наверное, пора его выпускать… Как ты думаешь, Марина, не погибнет? – озабоченно спрашивала тётя Оля.
— Не знаю! – переживала мама. – Но выпустить, конечно, надо… Если что не так – сам, я думаю, вернётся!
И мы выпустили Чирикалку в большой мир…
— Запомни, сынок, — сказала мне мама тогда. – Сильный должен быть добрым. Обязан быть добрым, понимаешь? И по-настоящему сильный никогда не обидит слабого, потому что ничего богатырского в этом нет… Только трус поднимет руку на того, кто не может ответить!
…Мама! Ты была самой лучшей из всех, кого я встретил в своей жизни. Почему, почему мне не дано было твоей душевной щедрости?..
А может быть, проживи ты подольше, я успел бы стать таким же?.. Ведь ты умудрялась быть счастливой лишь тогда, когда успевала кому-то помочь, кого-то спасти!
И даже там, в эвакуации: ты продавала самые лучшие и самые дорогие сердцу вещи, чтобы кормить и меня, и приблудного четырёхлетнего Ваньку, которого кто-то потерял (или бросил?..) на станции… А ты забрала его с нами и спасла. Потом Ваньку усыновил многодетный узбек Рашид, добрый улыбчивый дядька, у которого была целая орава дочерей, но ни одного сына. А жена давно умерла…
И как ты плакала, когда мы возвращались домой; Ванька-то ведь оставался с Рашидом.
«Папа Рашид, мама Марина!» — так всегда говорил твой приёмыш.
— Марина, оставайся! – просил дядя Рашид. – И выходи за меня!!
…Может, надо было и остаться?.. Но нет, не могла мама сходиться без любви. Не умела!
…А я сейчас только, в старости, догадался: нет счастья в слове «брать», оно живёт лишь вместе с умением отдавать…
…Лучше поздно, чем никогда? Какая бессмыслица! Поздно – это значит поздно, всё уже пропущено и упущено, а осталось только одно безнадежное «никогда»…
* * *
А умел ли я когда-нибудь отдавать?.. Умел, умел!!! Там же, в эвакуации! Когда началась война, мне было почти двенадцать. Вполне взрослый.
Я по-настоящему жалел и опекал «брата» Ваньку, а когда дядя Рашид научил меня делать разные штуки из дерева, я работал не покладая рук.
Мои оригинальные шкатулочки, трубки и прочую мелочь дядя Рашид относил на рынок и сбывал вместе со своими изделиями, и я гордился. Дядя Рашид умел продать что угодно, и мои, далёкие от совершенства, «произведения» даже пользовались спросом.
— Здравствуй, мастер! – так всегда приветствовал меня дядя Рашид, и я был уверен, что в этих словах не скрывалось ни капли иронии.
— Научишься, Боря, в каждую вещь душу вкладывать, — и станешь счастливым!
Рецепт счастья от дяди Рашида я плохо принял к сведению.
«Дерево, — оно и есть дерево», — считал я.
Каждый раз, начиная что-то новое, я особо не задумывался, а старался побыстрее закончить, чтобы поскорее продать. Дядя Рашид, работавший не спеша (а я думал, что ленится!), снова осуждающе кивал головой:
— Эх, мальчик, мальчик! Начал с радостью – а закончил с гадостью! С любовью надо к дереву прикасаться, чтоб оно запело. Понимаешь?..
Нет, я не понимал, хотя и не спорил. Слушал, согласно кивал. И опять – лишь бы побыстрее.
— Жаль, Боря! – сокрушался дядя Рашид. – Не стать тебе, наверное, народным умельцем. Кустарь из тебя неплохой, это есть…
Сам он делал такие вещи, что даже отдавать было жалко. Я, например, часами мог любоваться на его трости, подставки и полочки.
А иногда – к моему ужасу! – он вдруг брал и разламывал в щепки уже готовое изделие! С абсолютно спокойным лицом, без всякого гнева и жалости.
— Брак, — объяснял он мне. – Халтура, понимаешь? Мёртвая вещь…
— Так ведь купят же всё равно! – поражался я.
— Нет, не в деньгах дело, дорогой. Не хочу я своим позором торговать. Стыдно! Я лучше другое сделаю, настоящее.
…А много-много лет спустя наш «строительный коллектив» называл свою работу «халтурой»…
Мы «ходили на халтуру» — и относились соответственно. Время – деньги! Вот вроде бы и неплохо выглядели наши «ремонты», а ни разу сердце не запело, как у дяди Рашида.
Ведь у того, когда получалась вещь от всей души, был настоящий праздник. Он много пел и так радовался, как будто не изделие вышло, а ребёнок родился.
— А так оно и есть! – говорил он. – Настоящий мастер не делает, а рождает!
* * *
Лет за пять до моего шестидесятилетия провожали мы на пенсию нашего начальника. Такой был всегда вальяжный, но бестолковый. И поступал хитро: брал в первые помощники людей знающих и талантливых. Вот так и просидел на шее управления, спихивая всю работу на других; «делал вид», так сказать. Ну, а к пенсии накопилось много и грамот, и благодарностей, и почёта.
Однако пришёл срок – и указали ему вежливо на дверь: спасибо за труд, отправляйтесь на отдых.
Ему устроили пышные проводы, с речами, подарками и концертом нашей самодеятельности. В конце мероприятия ждал стол, накрытый такими деликатесами, которых многие и не видели никогда. Заказан был лучший в городе ресторан! Но туда, конечно, пошли не все, а избранные, человек тридцать. Пригласили и меня.
Сначала всё было очень пристойно, но постепенно выпили одну-вторую-третью рюмочку, расслабились, почувствовали себя свободнее.
Слово взял сам хозяин банкета:
— Дорогие мои! – в его глазах блестели слёзы умиления. – Спасибо вам, так сказать, от всей души за хорошие слова, за эти поздравления! Я понимаю, конечно; так принято: про виновника торжества все говорят только хорошее, будь то жених, юбиляр или, вот как я, почётный пенсионер. Но!!! – он призывно поднял толстый палец и интимно подмигнул гостям. – Но надо же когда-нибудь и покритиковать, правда? Хотя бы напоследок!
Все льстиво зашумели:
— Ну что вы, Игорь Капитонович!
— Какая критика, опомнитесь!
— Чтоб такого человека, государственного мужа, так сказать…
— Нет-нет-нет! – он скромно постучал вилочкой по бокалу с вином. – Нет, друзья мои, не бывает человека без недостатков и работы без пробелов. Не бывает! Так что вы уж будьте добры, хоть что-нибудь… Может, я чего-то недопонял, где-то упустил!.. Чтобы тот, кто придёт на моё место, потом учёл! А то, — он хмыкнул от новой мысли, только что посетившей его хмельную голову, — а то как про покойника, честное слово: или хорошо, или никак!
Все одобрительно захохотали, захлопали.
И тут поднялся начальник участка Чертыхайлов. (Фамилия, кстати, не в бровь, а в глаз). Этот человек имел неприятную особенность, о которой Игорь Капитонович не знал: выпив, Чертыхайлов мог сказануть что угодно. Потом, протрезвев, и сам жалел, но бывало уже поздно. Обычно его старались не приглашать.
Я как увидел, что Чертыхайлов встаёт, сразу понял: сейчас что-то будет!.. Поняли это и остальные, сразу напряглись. И за столом установилась гнетущая тишина.
— Вы, конечно, Игорь Капитонович, не обижайтесь, — начал Чертыхайлов, — но скажу вам прямо, раз уж вы и сами просите…
…Начальник всё ещё улыбался, но больше автоматически, от неожиданности; а гроза набирала силу. Остальные слушали, вжавшись в стулья, не смея и вздохнуть. А в душе, я думаю, были только рады: такое представление! Каждый из присутствующих мог бы подписаться под любым словом Чертыхайлова, и я – в том числе, но никто и никогда не посмел бы сказать этого вслух…
Наконец начальник очнулся:
— Да ты что себе позволяешь?.. Ты!!
— Ах, какие мы страшные!!! – обрадовался пьяный Чертыхайлов. – Ну что ж, давай на «ты», раз ты начал!!! А что, что ты мне сделаешь?! С работы, может, уволишь?! Так ты теперь сам – хрен без палочки! Вот раньше – да!!! Был при власти; Бедную Галку Бурееву уволил за то, что не захотела с тобой спать!!! Помнишь, индюк озабоченный?!
Жена начальника вскочила с места, чуть не опрокинув стул:
— Что за пьяный бред?!
И, желая защитить близкого к инфаркту мужа, торжествующе заявила:
— Это гнусная клевета! Если хотите знать, то Игорь Капитонович уже давно ничего не может!!
Вот это и называется «медвежья услуга»: все так и грохнули, не в силах больше сдерживаться.
А Чертыхайлов резал правду-матку и дальше, моментально переключившись на супругу начальника:
— Так это с тобой, баржа в юбке, он ничего не может!!! А вот с Танечкой – очень даже может!!
Танечка, секретарша шефа, покраснела до невозможности и испуганно запищала:
— Брехня! Брехня-а-а!!!
…И уже поднимался Танечкин муж, поигрывая желваками: прикидывал, наверное, кому первому бить морду; то ли правдолюбцу Чертыхайлову, то ли прелюбодею-начальнику.
Чертыхайлов обрадовался ещё больше:
— О-о-о!!! Рогатенький ты мой! Ну иди, иди сюда! Иди, рожки полировать будем!!
…Неизвестно, какими увечьями всё это закончилось бы, но тут профорг Денис Семёнович, бывший десантник, подскочил сзади к хулигану, ловко скрутил его и потащил к выходу. Чертыхайлов по дороге всё ещё выкрикивал свои обличения, но они уже не имели такого эффекта.
…Все сидели пришибленные, растерянно ковыряясь в тарелках и перебрасываясь вполголоса незначительными словами. Через полчаса вернулся Денис Семёнович. Он, оказывается, отконвоировал Чертыхайлова в ближайшее отделение милиции и сдал дежурному, написав на него заявление от имени участников банкета: пьяный дебош и так далее.
— Я свою подпись уже поставил. Остальным, кто желает, надо подойти до двадцати трёх ноль-ноль и засвидетельствовать, как положено.
Никто особой радости или энтузиазма не проявил, но оплёванный босс подошёл к Денису и крепко пожал ему руку:
— Спасибо, дорогой!!! Поступок мужчины!
…Участники банкета изо всех сил пытались снова восстановить праздничное настроение, провозглашая тост за тостом, но кончилось тем, что мы все безобразно наклюкались. Трезвой оставалась только секретарша Танечка, которая всё время что-то страстно (хотя и шёпотом) доказывала своему гиганту-мужу. И видно было, что ничего не доказала, и дома её сегодня ждёт очень судьбоносное продолжение.
Наконец-то всё это мучение кончилось, гости потянулись к выходу; кто – к своим машинам, кто – ловить такси. И, как обычно, выпившие ничуть не волновались, в каком они виде садятся за руль.
— Как же вы поедете, Игорь Капитонович?! – пытался образумить бывшего начальника зам. по снабжению. – Вы же еле-еле на ногах держитесь!!
— Ха!!! – храбрился тот. – А при чём тут ноги, я же буду ехать, а не идти!!!
И хохотал, поёживаясь под взглядом своей «половины»: его тоже, как и Танечку, ожидал дома интимный разговор о семье и браке.
Про «пойти в милицию и подписать заявление» все уже давно забыли; но Чертыхайлов от стыда сам через три дня уволился. Больше мы о нём и не слышали.
…Свои проводы на пенсию я обустроил (при помощи Полины Евгеньевны) гораздо скромнее. И мысленно порадовался, что Чертыхайлов у нас больше не работает.
* * *
— Кактус, а ну-ка посмотри, что я написала. Хорошо ли?
…Что там у неё? Новая идея? Нет, старая: с этим Надежда носится уже третий месяц.
А началось с того, что примчалась она однажды из магазина сама не своя:
— Кактус!!! Там такое!!! Такое!
Еле успокоилась, а потом объяснила:
— Мария Васильевна (ну та, которая с палочкой! С первого этажа!) сестру свою родную нашла. Представляешь?! Сейчас у нас во дворе «Жди меня» снимали, как они встретились!!
Она заплакала:
— Ой, счастье-то какое, Кактусик! Ведь с войны ещё потерялись!!! Неужто бывает, неужто и вправду отыскивают?!
Она восклицала целый день, забыла даже пообедать. И мне бы не дала, если б я не напомнил. Спохватилась, извинилась даже (что равносильно чуду) и сказала:
— Ты ж пойми, Кактус! Это ж и я могу поискать свою Юлечку!
(Она почему-то вбила себе в голову, что новые родители назвали девочку именно так. Я пытался объяснить, что может быть и иначе, но она не хотела даже слушать. Ну что ж, Юлечка так Юлечка).
В этот же вечер Надька, не теряя времени, засела за своё первое письмо. Я терпеливо подсказывал, как пишется то или иное слово: Надежда была патологически безграмотна.
Я хотел её образумить (зря ведь только промучается, нервы изведёт!); говорил, что это дело – глухое, уж очень мало данных. А она упёрлась, и всё тут!
Ну ладно, пусть пишет. Может, ей так легче. Я признаюсь честно: не хотелось бы мне, чтобы дочка её нашлась. Что тогда со мной будет?..
Но, однако, давал Надежде дельные советы, куда в первую очередь лучше обращаться. Спустя какое-то время начали приходить ответы, в том числе и из благословенного «Жди меня»: «невозможно», «не можем сказать…», «не располагаем сведениями…»
И Надька, бедная, каждый раз долго рыдала. До невозможности жалко было её в такие дни.
— Кактус! – плакала она. – Ну скажи ты мне, какой идиот меня назвал Надеждой, а? Ведь прожила я свою жизнь, так и не надеясь толком ни на что… Надежда без надежды!
— Ничего! – старался утешить её я. – Слышала, есть такое выражение: «Надежда умирает последней!»
— А Надька Скамейкина – первой! – не унималась жена. И опять в слёзы…
…Вот и сейчас: написала новое письмо. Кое-что вспомнила; «дополнительную информацию», как она говорит.
Я не переставал этому удивляться: с тех пор, как Надька стала одержима идеей отыскать дочь, она действительно начала припоминать самые мелкие подробности.
…… Я внимательно перечитал новое послание, в сотый раз терпеливо объяснил, что слово «удочерение» пишется через «е», потому что происходит от слова «дочерний», а не от слова «чирей». Надька нисколько не обиделась: мой назидательный сарказм по поводу её ошибок она сносила без звука (это был единственный случай, где я мог её даже выругать). Она всё исправила и села переписывать начисто.
А я смотрел не неё и думал: даже она – счастливее меня… Вон как радуется, верит! А во что осталось верить мне?
… Наша с Надькой жизнь пошла веселее с тех пор, как бросилась жёнушка искать дочку. Она даже телевизор наконец-то согласилась починить! А всё – из уважения к «Жди меня». Вдруг, говорит, и про моё дело что-нибудь скажут!
Она даже не бурчала, что телеремонт обошёлся недёшево, хоть и на дому дело сладилось. Я подозреваю, что мастер просто нас обманул: ничего особо сложного и дорогого он не сделал. Но это – на его совести. Кроме «Жди меня» (это святое, не пропускается никогда!) Надежда иногда смотрела и другие передачи, но только по собственному вкусу. Моё мнение её совершенно не интересовало, а про ночные просмотры она и слышать ничего не хотела, плевала на мою бессонницу:
— Нечего! И так за свет много платим!
Включала она телевизор обычно к вечеру, разрешала мне посмотреть новости, а потом – я должен был только помалкивать. Как ей угодно, так и будет. Поэтому приходилось мне терпеть целую кучу глупейших сериалов, которые нравились Надьке больше всего на свете. Особенно млела она, если кто-то кого-то искал. А уж если находил! – тут радости жены и вовсе предела не было.
— Ну вот видишь, Кактус?! Даже они нашли!!
Я не рискнул бы сказать ей, что в таких фильмах всех всегда находят, потому что это – сказки. За такую крамолу Надька могла бы запросто меня прибить…
* * *
Живым полезно приходить к мёртвым. Получаешь огромный урок, походив по кладбищу. Покойники здесь – все дома, а мы – пока в гостях…
Жаль, не могу я теперь съездить туда; осталось дождаться, пока вперёд ногами вынесут, вот тогда и поселюсь навеки там, где живые пристроят. Хотел бы я лежать рядом с мамой, но Надьке боюсь пока об этом сказать. Записку, что ли, написать?.. Или письмо с пометкой «Вскрыть после моей смерти». Последняя воля всё-таки… Может, исполнит?..
Хотя как? На том участке давным-давно запрещено хоронить.
…Отчётливо помню те страшные минуты, когда зарывали здесь мою маму. Было пасмурно, но тепло, а когда опустили гроб в яму, начался мелкий дождь.
— Даже небо заплакало! – тихо сказал кто-то.
Проводить мою мамочку в последний путь пришло столько людей, сколько я видел, пожалуй, только на демонстрациях. Откуда они все?.. Неужели каждый из них знал её?..
…А потом всё вспоминается какими-то кусками, фрагментами, как будто невпопад склеили испорченную киноплёнку да так и запустили в аппарат. Мелькали кадры: автобус… венки… поминки…
Все затраты взяло на себя предприятие, на котором погибла мама. А мне дали ещё и деньги, сказав, что это – «материальная помощь».
Я ездил на кладбище несколько дней подряд и всё бродил, бродил между могилами. Вчитывался в даты, подсчитывал, кто сколько прожил… Затем подолгу сидел возле маминого холмика. Плакал или нет?.. Не помню.
Осталось жуткое впечатление: сколько молодых! Есть даже дети…
И подумал я тогда: уж если суждено умереть и мне, как всем, то пусть это случится когда-нибудь потом, очень нескоро. Чтоб не жалко было расставаться с жизнью!
А теперь я знаю: сколько ни живи – а жалко будет уходить…
* * *
«Сын Мариночки Силиной» — это было как знак почёта, особый орден, безотказный пропуск во многие и многие дома в любое время дня и ночи.
Я часто думаю сейчас: ведь мама умерла совсем молодой, когда ж она успела стать близким и родным человеком стольким людям?
…А кто придёт проводить в последний путь меня? Надька, соседка справа и дворовой пёс Лохмач, которого я иногда подкармливал… Это при условии, что собака ещё жива.
… — Кактус, а кого мне позвать на похороны, когда ты умрёшь?
(Наденька, ты, как всегда, «в теме», чтоб тебя!.. Может, я вслух рассуждал и не заметил?)
— Я чего спрашиваю: как потом мне искать? Ты уж продиктуй, куда позвонить, к кому сходить… Я всё сделаю, не сомневайся!
Как она меня «достала»!.. То рассказывает, как к венкам недавно приценивалась, то высчитывает, сколько тюля на покров купит… Я теперь до конца понял выражение «вогнать в гроб». Могу добавить: «на большой скорости».
Не сомневаюсь, что Надька уже и тапочки белые для меня приобрела, в шкафу поставила. Того и гляди, похвастается:
— Смотри, Кактус, какие симпатичные! И недорого. Давай примерим, не жмут ли?
…А с другой стороны, если рассуждать без злобы, она же просто хочет по-хорошему, по-человечески. Не умеет это сделать по-другому, вот и поступает, как может. Ведь и правда: она же ничего обо мне не знает. Может, я хочу, чтоб меня хоронили дорогие люди, а не фиктивная жена…
Хочу-то я хочу, да где ж их взять?..
— Кактус!!! А может, тебя в крематории сжечь, а? Ты как на это смотришь? Или пусть лучше по старинке, в гробике?..
«…Прощаю им, ибо не ведают, что творят…»
* * *
— Боря, а почему ты такой злой?
…Это картинка из раннего детства. Лет шесть мне, что ли?..
Спрашивает девочка из нашего двора (не могу вспомнить, как её звали?). Мы вместе лепили снежную бабу, а потом начали её «обстреливать». К нам присоединились ещё и братики, Сашка с Антошкой, и снежной бабе пришлось туго. Она никак не хотела «сдаваться», то есть разваливаться, и мы устали.
— Ладно! Ничья! – предложил Сашка. – Давайте её снова починим!
Он отыскал выпавший нос-морковку и стал пристраивать на место.
— Если враг не сдаётся, его уничтожают! – завопил я ни с того ни с сего.
Я схватил огромную палку, которую мы давали снеговику вместо метлы, и единым метким ударом снёс голову противника! Она беспомощно рухнула в снег и сразу раскололась на несколько частей.
Но мне этого было мало. Издав воинственный клич, я бросился добивать врага… Я лупил палкой по белоснежному туловищу, и с каждой секундой от бабы оставалось всё меньше и меньше. Но почему-то никто ко мне не присоединился; Сашка и Антошка ошаренно взирали на этот дикий бой, а девочка удивлённо спросила:
— Боря, а почему ты такой злой?
Тут я заметил, что в пылу сражения растоптал в кашу голову снеговика, а его сплющенная рожица (глаза-угольки и курносая морковка) беспомощно взглядывала на меня снизу.
— Зачем?.. – насупился Сашка. – Жалко ведь…
Мне было почему-то стыдно, но я решил этого не показывать.
— Что жалко?! – заорал я. – Оно ж неживое!!
— Живое! – всхлипнул вдруг Антошка. – Смотрит же…
Глаза и в самом деле ещё «смотрели», и я от злости втоптал их в снег поглубже… Угольки исчезли.
— Вот! – обрадовался я. – И нет ничего! Сугроб, и тот скоро растает!
— А кровь осталась, — вдруг сказала девочка.
И я увидел: у меня под ногами, прилипая к каблукам. расползлась оранжево-красная мякоть бывшего бабьего носа.
— Дурак! – сказал тихо Сашка и ушёл, уведя за руку младшего брата.
— Карабас-Барабас! – заклеймила меня девочка и тоже ушла…
А я остался… Присел беспомощно перед бывшей морковкой, попытался скатать из неё комок, — не получилось. Отрыл пальцами угольки: целые! Обрадовался, начал накатывать новую голову. Потом, пыхтя, сочинил два больших кома и кое-как слепил туловище.
Силёнок у меня одного было маловато, и новая баба вышла поменьше. Но тоже – вполне! Имела те же глаза-угольки; вот, правда, нос… Я нашёл другой выход: соорудил ей отличный новый нос из толстого сучка.
Отошёл и залюбовался: ну ничуть не хуже той, старой!
…И тут мне показалось, что снежная баба подмигнула: «А я теперь инвалид, Боря!» И действительно, была она кривобокая, с нелепо разными ветками вместо рук и с квадратной головой, грубо вдавленной в узкие плечи…
И я убежал, до чего страшно показалось мне оставаться здесь! Глупо, конечно, но я долго носил в себе ощущение, что и в самом деле совершил убийство.
* * *
Очень я боюсь, что скоро совсем перестану двигаться. И что тогда?.. Хорошо, хоть соображаю нормально. Старческого беспамятства я боюсь ещё больше…
А может, я просто ленюсь? Может, надо проявить характер и заставлять, заставлять себя вставать, ходить?.. От лежания, говорят, и здоровый заболеет.
А с чего началось это всё? Может, слишком ретиво работал тогда на даче? Но ведь в удовольствие же было; и даже наоборот: после хорошего отдыха снова чувствовал себя и здоровым, и бодрым.
Судьба, что ли, такая? От неё, говорят, не уйдёшь. А кто ж тогда человек, до какой степени он сам себе хозяин?
Вот, помню, когда заканчивал я десятилетку, работал в нашей школе географ, инвалид войны. Ох, много тогда инвалидов по стране было! Из тех, кто в той бойне проклятой выжил…
Так вот, географ этот, Василий Васильевич, был без правой руки, а на левой – имел лишь два пальца: большой и мизинец.
Но какой был человек!.. Умный, развитый, начитанный. Рассказывал – заслушаешься! Наверное, не было такого, чего б он не знал по своему предмету, а кроме того – чуть не наизусть цитировал все романы Жюля Верна. Тогда мне казалось, что Василий Васильевич – старик; а сейчас я с изумлением вспоминаю, что ему было всего тридцать лет… Мальчишка совсем, пацан (по нынешним моим меркам)!
И жена у него была; наша же учительница, физичка; и сынок маленький. И все наши старшеклассницы были в него влюблены без памяти, вот как!
А и невозможно было оставаться равнодушным к такому, как он. Я лично ему страшно завидовал. Общаясь с ним, уже через пять минут любой забывал, что перед ним – калека. Василий Васильевич так ловко управлялся своей единственной изуродованной рукой, что ни о какой жалости и речи не шло.
…А на выпускном – разговорились мы с ним. Вышли на крылечко покурить (человек пять нас было; приятно осознавалось, что вот, дескать, мы теперь – взрослые, курим и не прячемся); подошёл и Василий Васильевич, присел рядом.
— Ну что, ребята, как дальше жить думаете? Куда теперь?
Поговорили о том – о сём, он посоветовал Вовке Павлихину поступать на географический. Мы все были согласны: Павлихин знал географию на высочайшем уровне.
Раньше ведь какие выпускные были? Это не то, что теперь: на целые свадьбы похоже. И денег выбрасывают – море! Зачем?.. Раньше – вручит директор аттестаты, руки пожмёт и «в добрый путь». Рассвет встречать не все и оставались, а лишь наиболее стойкие. И про столы с выпивкой тогда не слыхали; школа всё-таки, а не пивнушка…
Ну вот, посидели мы, значит, поговорили ещё и про армию будущую, и про женитьбу; а Сашка Моторный вдруг сказал:
— Василий Васильевич, извините, конечно, но давно хотел спросить у вас… Если можно…
— Спрашивай, Саша, не стесняйся, — разрешил учитель.
— Вот вы ведь… — Сашка замялся, но справился с волнением и продолжил:
— Вы ведь с войны раненый. Могли бы пенсию хорошую от государства получать – и не работать… А вы… Извините, если не так спросил! – смутился он.
— Ничего страшного, я понял тебя, Саша, — сказал спокойно Василий Васильевич. – Хороший ты задал вопрос, нужный, поэтому не красней, не надо! И отвечу я для всех вас, парни; отвечу прямо, как мужчина мужчинам: если вы сами себя за инвалида держать не будете, не дадите себя жалеть никому – то и проживёте жизнь, как обычные люди. Ведь мы с вами – люди! Понимаете?! Люди!!! И должны вести себя достойно, изо всех сил стараясь не уронить свою честь и совесть в грязь. А только пожалей себя – и пошло-покатилось! Я вот вам расскажу, есть у меня знакомый один, тоже инвалид. Но у него – другое: нет одной ноги. Ну так и что; вторая-то – есть?! Да он от счастья летать должен, что жив, что белый свет видит, что не старый ещё! А он на вокзале милостыню просит… Стыдил я его, ругал, просил… А он мне ответил: «Стыдно, Васька, только в первый раз. А как в шапочку — звонкую денежку бросили – на почин! – так и стыд растворился навеки».
…Мы потрясённо слушали. Да-да, как это верно: не жалей себя, не распускай сопли. Уважай свой облик человеческий!
…А я сейчас – уважаю себя или нет? И что сказал бы мне на это Василий Васильевич?..
* * *
— Кактус, а что такое счастье?
— Счастье, Наденька, это когда не задают бессмысленных вопросов! – сержусь я.
Но Надька не обижается: у неё сегодня философское настроение. Она уже с утра интересовалась, а есть ли всё-таки Бог и как тогда понимать, что в мире столько несправедливости.
— Счастье – это когда ты не храпишь! – делает она неожиданный вывод. – А то я за целый день вымотаюсь, аж руки-ноги гудят; только и мечтаю, как бы до подушки добрести. Глаза, значит, сомкну – а тут ты, Соловей-Разбойник, как захрапишь!!! Чтоб тебя на том свете так будили…
* * *
А может, и в самом деле составить список, кого на мои похороны собрать? Ничего тут такого ужасного нет, подумаешь! Пусть придут, помянут.
Хотя, наверное, я всех уже пережил: и друзей, и недругов.
И вдруг кольнуло: а были разве у меня друзья? Кого лично я потерял, за чьим гробом шёл, опустив безутешно голову? Кого вспоминал долгие годы?
Пустота… Как в космосе: звёзд полно, а жизнь так пока и не найдена. И одна только мамочка ждёт меня ТАМ.
* * *
Прошёл дождь, и у нас снова традиционно закапало с потолка. Надька не обращает на это внимания; просто подставляет миску – и всё.
— Ничего! – бодрится она. – Не век же мне здесь куковать. Потом поменяюсь!
Я не успеваю сказать, что обменяться в данном случае можно только на первый этаж, а это тоже – далеко не сахар. Надька как будто угадывает мои мысли:
— А зато к земле поближе! Вот возьму и насажу под окном тюльпаны, — мечтает она. – А если совсем старая и слабая стану, то у окошечка побыть – в удовольствие можно: и видно, и слышно всех. Глядишь, кто-нибудь и остановится; побеседуем!
(Но это Надька кокетничает: она свято уверена, что «потом» переедет отсюда не куда-нибудь, а к дочери. Я теперь опасаюсь за психику жены…). Ну вот, пожалуйста:
— Да и Юлечка скоро найдётся, недолго уже!..
(Она продолжает писать и писать…)
…А я тут вспомнил, как мы один дом пятиэтажный сдавали: досрочно, конечно! С выплатой премии за ударный труд. И, чтоб вышло побыстрее, не сыпали керамзит между перегородками. Ну и что, что по проекту положено; кто там будет проверять? «Бетонка» — она и есть «бетонка», как её ни утепляй.
К тому же керамзит мне удалось очень выгодно сбыть на сторону, так что получилась двойная премия к празднику. И вот теперь – ирония судьбы: доживаю я свой век в точно такой же панельной «коробке» и, судя по всему, и здесь прораб не зевал. То холодно невыносимо, то жарко до обморока, в зависимости от времени года. Да и слышимость от соседей! – вроде и не бетон между нами, а бумага. Можно переругиваться, не выходя из квартиры…
Вот и начальник нашего ЖЭКа – тоже мужик не промах. Небось, денежки за «ремонт» крыши давно уже себе в карман пристроил! А вы, граждане, жалуйтесь, хоть лопните.
А говорят, сейчас есть особые дома, «элитные» называются. Вот там вроде бы не воруют, строят на совесть; но зато и дерут крепко! На честную зарплату – и коридор не выкупишь…
Сомневаюсь я очень, что там – всё чисто. Чтоб у нас – и не воровали? Это же абсурд!
… А вот «обкомовские» квартирки были – да!!! Не подкопаешься. Их специальные бригады строили. …Иногда жаль мне до слёз бывает, что ушёл с той работы. Надо, надо было держаться из последних сил!
А какие санатории у партии были! Пальчики оближешь!
Помню, досталась мне путёвочка в бархатный сезон, целых три недели с таким шиком провёл!.. В Сочи, не где-нибудь. Номер двухкомнатный, со всеми удобствами, телевизором, балконом и холодильником. Это я ещё на Клавке был женат, но поехал без неё: сын приболел, и она осталась. И это здорово, а то – какой отдых, если семейство под боком?!
А так – расслабился от души. Сошёлся легко и просто с одной «куколкой» из соседнего номера. Она, правда, с мужем приехала; но тем интереснее! Супруг день и ночь торчал на пляже (и умудрялся же не сгореть, пельмень сибирский!), а «куколка» — после полудня никуда не выходила. Вот и организовывали мы с ней каждый день «тихий час» минут на тридцать-сорок. Такое ощущение опасности, скажу я вам, очень вдохновляет; впечатления – незабываемые.
И вот один раз припёрся таки её любимый в неурочное время; какой пассаж! Я, конечно, шмыгнул на балкончик – и был таков (корпус имел длинные ряды лоджий со сквозными проходами). Но тут оказалось, что свою дверь на балкон я, баран, как раз сегодня запер!!
Хорошо, что тепло; а если б зима? Проторчал на собственном балконе чуть ли не до ночи. Это сейчас смешно, а тогда!.. Я там такие словеса загибал шёпотом, что любой уголовник позавидовал бы!
Моя-то краля была уверена, что всё в порядке; мужа не спроваживала. А он и не собирается! Сначала его «на любовь» потянуло, потом заснул… А я, понимаешь, стою и всё это слушаю: жду же момент, когда он наконец утопает на свой пляж!
А они, видно, решили вздремнуть до ужина: храпят в два горла! Ну что, что делать?! Что толку ждать, пока супруги уйдут в столовку, — номер-то они всё равно на ключ закроют!
И решил я с отчаяния, что буду прыгать вниз. Всего-то второй этаж… Вроде как соображать перестал: покалечиться же мог!
… И тут, наконец, судьба сжалилась надо мной: распроклятый муж вышел покурить на свой балкон.
А я ему так душевно:
— Добрый вечер! Извините, давно хотел спросить: у вас в шкафу есть вентиляция?
Он изумился: какая, мол, вентиляция?..
И я наплёл такого, что и сам не ожидал: вроде как в некоторых номерах есть встроенная система («А вы не слышали?» — удивлялся я); такая, знаете, кнопочка должна быть над верхней полочкой…
— Пойдёмте, посмотрим! – пригласил он.
А мне только это и надо было. Кнопочку, конечно, мы не нашли; но зато так потом хохотали вместе с моей зазнобой! До колик! Не догадался ведь муж ни о чём. А я – вышел!
Хорошо всё-таки, что были у меня в жизни и такие моменты: есть хоть над чем посмеяться!
* * *
А однажды я чуть не погиб, провалившись в открытый люк. Не поверите: собака спасла! Наша дворовая, приблудная; добрая дворняга Лохмач. Вечно голодный пёс с человеческими глазами.
Сколько ж лет прошло? Я ещё тогда сам мог пойти за хлебом… Лет восемь?..
Я, кажется, именно в магазин и ходил. Видел, что собирается гроза, но думал, что успею. По-моему, у меня кончился сахар, а без него мне и чай – не в радость. Вот я и пошёл, хоть уже и стемнело, — у нас дежурная лавочка недалеко, и до 23.00 можно отовариться.
В магазин-то я успел, а обратно… Пока я покупал свой сахар, хлынул такой дождина, прямо целый шторм! А я без зонтика выскочил, недотёпа.
Вот я и остался переждать, конечно. Дождь бушевал не менее часа, потом начал стихать.Но видно, до утра собирался моросить. Ну не торчать же мне здесь и дальше! И я потихоньку, перебежками, начал двигаться домой. Всё равно, конечно, вымок. А у самого подъезда – в двух шагах буквально, вот что обидно! – не заметил открытую яму… Люк давно утащили (причём – в масштабах всей страны: и люки стали пропадать, и железные решётки на площадках, и даже, говорят, оградки с кладбищ…), и вода залила колодец. А я-то про него забыл! Да и темно уже стало.
Провалился – света белого не взвидел! Растерял свой сахар, подсластил дворовые стоки. Помню только одно, как цеплялся за скользкий край, как тащило меня что-то вниз… Помню, как заорал: «Помогите!!!» А ведь нет никого!
И вдруг – выскочил из-под навеса Лохмач, как давай лаять!!! Потом побежал! Вижу: тащит за штанину какого-то парня… Тот, слава Богу, увидел меня, подскочил, протянул руку. Измазался по самые уши, бедняга, но вытащил меня.
Я трясусь, плачу:
— Вы мой спаситель!!
А его тоже, вижу, дрожь бьёт:
— Нет, что вы; если б не ваша псина!..
…Как же я не догадался спросить хоть имя у того юнца? Он ведь совсем-совсем молоденький был, лет шестнадцать от силы.
…Сахар, конечно, так и сгинул; хорошо, что ключ не потерялся, плотно был прижат в кармане брюк. А то ещё и слесаря пришлось бы искать на ночь глядя…
И стал я в благодарность каждый день Лохмача кормить, прямо подружился с ним. Его, конечно, и другие угощали: пса любили за добрый нрав и за то, что он охранял детишек нашего двора от чужих собак. Но я с ним просто сроднился.
Стоило мне выйти – так и лезет под ноги, так хвостом и машет что есть силы… И провожал меня куда угодно – и в магазин, и в аптеку. Сидит, значит, возле крылечка и ждёт, пока я справлюсь, — и снова до самого дома сбоку бежит. Наверное, переживал, чтоб я снова куда-нибудь не провалился?
…А потом я слёг в первый раз, и надолго. Была зима, и я целыми днями только о том и мечтал, как бы получше согреться.
И ни разу – ни разу! – не вспомнил про Лохмача: как он там, бедный, в такую стужу?..
Вот и думаю теперь: из нас двоих на звание человека претендовать первым должен он, а не я. Собака я, собака! – забыл про лучшего друга, про спасителя своего… «Даже звание собаки надо заслужить!» — так однажды сказала Ефросинья Ильинична, наша старенькая учительница биологии.
Она любила повторять: «Не смейте твердить «злой, как собака!» Не оскорбляйте одно из самых благородных животных, обитающих бок о бок с такой дрянью, как человек!!!»
* * *
— Наденька, а Лохмач ещё живой?
Она знает наперечёт имена-отчества-фамилии жильцов всего дома (ходячая энциклопедия!), поэтому очень удивляется:
— Из какой квартиры? Никакого Лохмача у нас нет!
Я объясняю.
— А-а-а!.. – оживляется она. – Это такой маленький, чёрненький, хвост колечком? Шустрый такой пёсик, звонкий.
Я расстраиваюсь: нет, совсем не так выглядел ТОТ Лохмач. Описываю подробно: большой, грязно-белый, очень добрый…
— У нас во дворе такого нет, — делает она вывод. И, увидев моё расстроенное лицо, вдруг предлагает:
— А хочешь, я поспрашиваю?
Хочу! Очень хочу, и Надька держит слово. Она уходит «по делам» и, вернувшись, уже всё знает:
— Пропал тот пёс, давно пропал. Нет, подохшим его не видели. Убежал, наверное!
…Куда ж ты побежал, друг мой последний? Может, умирать?.. Слышал я, что иногда собаки, чувствуя приближение конца, уходят подальше от людей. Куда-нибудь в лес или в поле… Или подался ты искать более благодарных? Напрасно, милый: люди – все одинаковы, сколько их не спасай.
* * *
Одно время был такой «Кодекс строителя коммунизма», главный наш идеологический продукт. А если внимательно вчитаться – это те же «десять заповедей». Вот и выходит, что, как ни крути, как словами ни жонглируй, а всё опять сводится к простому и понятному. От «не убий» до «не сотвори себе кумира».
Вот про кумира мне интересно; хочется до конца понять. Выходит так, что из Бога кумира делать как раз можно?.. А почему?
Собираюсь спросить у Надьки. Она в последнее время такая набожная стала; мне, атеисту, даже неловко. Надька надеется вымолить у Господа встречу со своей Юленькой, вот и старается. Даже в церковь ходит через день.
А и все мы так, людишки жалкие: с просьбами да с жалобами! Есть ли среди нас такие, которые приходят в храм просто так?.. Всем что-то дай, дай, дай!.. Что скажешь, Надя?
— А то и скажу, — отвечает она неожиданно просто, с хорошим выражением лица, — Бог ведь, Борис Петрович, он – совесть твоя, и он – любовь наша общая друг к дружке. Вот и сотвори себе достойную душу! Она и есть – твой кумир. Береги её, слушайся и не пачкай… Я так понимаю, Кактус!
…Ничего себе!.. Надька-то, оказывается, не такой уж и примитив, как я воображал! «А может, — озаряет вдруг меня, — любой человек, какого ни возьми, намного интереснее и сложнее, чем он кажется нам?»
Да взять хоть меня, к примеру. Я и лучше, и хуже того Бориса Силина, которого знают здесь. А, по сути, я и сам себя хорошенько, до самого донышка, так ещё и не понял.
«Познай самоё себя…»
* * *
Мы теперь с Надькой постоянно спорим. Я нахожу в этом новое, ни с чем не сравнимое удовольствие.
Нет, мы не ругаемся, хотя Надежда всё так же ворчлива и бестактна, как и раньше. Мы спорим в самом прямом смысле этого слова. И мне с ней интересно.
— Вот насчёт «подставь другую щёку» я не согласен, хоть ты меня режь! – горячусь я.
— А ты ж, глупый, буквально понимаешь! – терпеливо, как учительница со стажем, втолковывает Надька. – Конечно, и я себя по лицу бить не лам, а тут же развернусь и врежу! «Подставь другую щёку» — это, Кактус, про терпение. Ну вот, например: обделаешься ты – а я помою. Хоть и покричу, а стерплю. Правильно? Ведь не оставлю тебя в дерьме лежать, так? Вот и выходит, значит: подставляюсь опять под следующий такой же удар. А Бог видит! И думает он, Отец наш: какая всё-таки молодец эта Скамейкина, вот ещё немножечко – и надо будет её наградить!
…Можно и не договаривать: наградить встречей с дочкой. Я Надьку уже насквозь вижу.
* * *
Гадала мне однажды цыганка. Помню, совсем молодой был, лет тридцать пять, что ли. Пристала, как репей: «Что было, что будет, чем сердце успокоится! Чистую правду поведаю, сокол ясный, красавец писаный!»
Остановился, протянул ей ладонь. Зачастила:
— Ой, ждёт тебя судьба счастливая, а жизнь долгая! Позолоти ручку – всё расскажу!
Мне было и смешно, и любопытно одновременно. Да и цыганочка была миленькая, смуглолицая, белозубая и нахально-болтливая.
— Проживёшь ты, миленький, до восьмидесяти лет! – пообещала она, пряча в рукав мою «денежку». Добавь что-нибудь, я ещё расскажу!
Я протянул её купюру покрупнее:
— Вижу! – засияла она. – Ой, вижу, что ошиблась; прости, дорогой! Проживёшь ты, оказывается, не до восьмидесяти, а до восьмидесяти пяти лет! Позолоти ручку!
Я путём несложных арифметических действий тут же вычислил, почём у неё «пятилетка», и мне сразу стало скучно. Обыкновенная шарлатанка, никаких чудес.
— Я мог бы тебе проплатить лет за триста, дорогая, — сказал я. – Но больше не хочу. Не верю я тебе.
От досады, что с крючка сорвалась такая небедная рыбка, цыганка рассердилась не на шутку:
— А ещё ты будешь болеть, индюк жадный! – пожелала она мне в спину. – И лежать будешь, как дитя малое, новорожденное! И не захочешь своей долгой жизни, проклянёшь её!!
…Надо было тогда отдать ей все деньги, какие имел при себе. Пусть бы наобещала счастья с три короба! Ведь, как ни крути, пока всё сбывается по её ведьминскому слову. И до восьмидесяти пяти уже совсем недолго ждать.
* * *
Почему я всю жизнь так стремился остаться один? Даже если жил с кем-то – всё равно стремился.
Свобода?.. Отсутствие обязанностей?.. Одни права, и все – мои: что хочу, то и делаю. Или это другие от меня всегда старались уйти? Вот и Надька – ведь, и в самом деле, может отыскаться эта её Юленька; чего в жизни не бывает? И уедет Надька – не оглянется. И не вспомнит даже…
Я всё время искал удовольствий, чтобы быть счастливым. Искал и находил, но счастливым себя никогда не считал. А, с другой стороны, счастье – это ведь процесс, а не результат, как сказал один умный человек.
Могу теперь добавить: счастье – это процесс, если знаешь, что будет в результате.
Что интересно: все мои женщины были обо мне разного мнения! Одни говорили, что я – замкнутый, другие – что я душа компании; те называли эгоистом, а эти – гордым и бескомпромиссным парнем. У меня так много разных обличий, что я уже сам растерялся: как же всё-таки назвать себя одним словом?.. Я, кажется, догадываюсь: это – «кактус». Устойчивый и беззащитный одновременно, колючий и сочный, копящий в себе эгоистическую влагу. А наружу – одни шипы. И лишь иногда (редко, в виде экзотического сюрприза) – цветок, неожиданно трогательный на фоне корявого зелёного тела.
…Надька вчера мне заявила, как прокаркала:
— Борис, твоё сердце, не занятое Богом, может занять Враг Человеческий!
Я чуть не подавился (она как раз кормила меня). Она что, — в монастырь собирается?..
— Да не смотри на меня, как на больную! – прикрикнула Надька. – Это мне в церкви вчера одна умная женщина сказала. А мне понравилось!
Ну, час от часу не легче. Хоть бы предупреждала… Мне уже начинает мерещиться, что Надька – это и не Надька вовсе, а сама Смерть. И вдруг, в один ужасный момент ляпнет ни с того ни с сего (и я подавлюсь на самом деле):
— Борис!!! Собирайся!!
И взмахнёт своей косой, которую пока прячет где-нибудь за вешалкой.
…Есть же на свете люди (действительно счастливые!), которым некогда и неинтересно вот так разбирать по косточкам свою жизнь! Ах, если бы я был до отказа чем-то (или кем-то!) занят, а не валялся бы, как хлам, который забыли вынести!
Что же получается?! Что смерть – это презентация жизни?..
Значит, когда меня отсюда вынесут, тогда и огласят окончательный приговор: а какова же была моя жизнь? Ведь, пока я существую, я могу всё, что угодно, ещё добавить в палитру своего присутствия… А потом – в лучшем случае промолчат, потому что о мёртвых принято «или хорошо, или никак». И если не получается «хорошо»…
Вот оно, «гробовое молчание».
А, может, высмеять себя напоследок, как следует? Разнести в пух и прах, оглушить едким сарказмом все воспоминания? Может, веселее будет уходить?..
Стоп! Ну почему именно «уходить»?.. Просто (так не к месту!) вспомнилась глупая корыстная цыганочка. Забыть, и всё!
А вдруг я ещё встану? (И тут же мысленно бездарно помолился: «Господи, дай ещё пару раз выйти к скамейке под подъездом!»)
Надо просто верить – и всё! Верить, что начну свободно двигаться; и, может быть, даже завтра. Или в понедельник, например! Эх, и большое же расстояние у меня между «хотеть» и «сделать»! Софочка Гутман называла это «ленивая душа», а Василий Васильевич клеймил как «безволие».
А как про меня говорил Завгородний? – «концентрированный ум…» И тут же добавлял, вздыхал: «Но малопроизводительный…»
И ещё вот что нехорошо: самолюбие во мне раздуто невероятно. Хотя сам я лупил по чужому самолюбию не раз и не два. А что такое «прощение» и что значит «простить»? – это забыть, как тебе кто-то наплевал в душу.
Вот и выходит, что «прощение» — это чистой воды лицемерие, блеф! Никто и никогда не забывает оскорблений, нанесённых лично ему (а тем более – публично!), и фраза «я вас прощаю» обозначает лишь то, что оскорблённый берёт на себя обязанность не вспоминать вслух оскорбителю свою обиду. И больше ничего!!!
А впрочем, теперь всё это – только слова, слова… Наступил тот момент, когда мне лично важно уже только одно: не КОГДА, а КАКИМ ОБРАЗОМ?
А, может быть, я отношусь к категории таких людей, отсутствие которых и есть великим счастьем? Может быть, я задуман как фон, на котором?.. Или нечто такое, в сравнении с которым?..
…Интересно, а не так ли начинается тот самый маразм, которого я очень боюсь?
Чувствую, что для сохранности мозгов мне сейчас лучше подробно вспоминать: «Наша Таня громко плачет».
* * *
…Ужасный, ужасный сон! Накрутил себя с вечера, философ недоделанный, вот и получи!
А привиделось мне, будто Надька надела белое платье и фату, а меня обрядила в чёрный бархатный фрак, и повезли нас в церковь венчаться. Причём везли меня прямо в кровати, но без одеяла. Наверное, чтоб мой наряд было хорошо видно. И только подкатили мы к крыльцу, вышел поп и сказал:
— Развожу вас, дети мои, ибо Надьке Скамейкиной пришло письмо! От дочки!!
И полетели мы назад по воздуху, обгоняя кровать, а Надька по дороге вопила на весь город:
— А вот Кактус свободный! Кому Кактус нужен за квартиру?!
Влетели мы с Надькой в форточку, а возле телевизора уже женщина какая-то ожидает. Обняла её Надька, расцеловала, да и говорит:
— Вот, Борис Петрович! Новая супруга тебе, а зовут её Вера!
— Да! – сказала басом Вера. – А когда и я к дочке уеду, то передам тебя своей подружке по имени Любовь.
— Кактус! – обрадовалась Надька. – Значит, сбудется у тебя мечта про Веру, Надежду и Любовь! Счастье-то какое!
Потом мы долго танцевали, взявшись за руки, вокруг моих очков, которые почему-то лежали на полу. Затем Надька начала прощаться, долго целовалась то со мной, то с Верой, то с телевизором…
— Наденька, и косу свою забери! – попросил я. – Ту, что за вешалкой прятала…
— Заметил-таки, пень старый! – засмеялась Надежда. – Ишь, а притворялся, что в маразме!
Но согласилась: «Ладно, заберу. Живи!»
…Мы ещё долго махали ей вслед, даже устали. А потом Вера повернулась ко мне и сердито спросила: «Ну, Борис Петрович, какие желания исполнить за право наследования? Говори, не стесняйся. Всё сделаю!»
— Верочка, называй меня, пожалуйста, «Кактус»! – от души попросил я…
Вместо эпилога
Открытое письмо автора своему герою
Здравствуй, дорогой Борис Петрович! Вот и пришло время нам расставаться, а жаль… Подошёл к концу роман, и я по-настоящему привязалась к тебе.
Я тебя придумала, воззвала к жизни, сочинила биографию… Такое ощущение, что я тебя родила – и, значит, несу ответственность за это до конца своих дней.
Да, конечно, я – намного младше тебя (пока, во всяком случае…), но ощущение материнства упорно не проходит. По времени – ты мог бы стать моим отцом; к моменту моего рождения тебе было бы чуть больше тридцати. Но вышло – наоборот. Наверное, так бывает?..
…Я завершила свой роман и оставила тебя жить (или, может, доживать?). Не смогла я похоронить тебя. Уж не знаю, рад ты этому или нет, но для меня это было бы настоящей утратой.
Так что ты живи ещё, сколько Бог ласт. Пусть у тебя будет запасное время сказать себе всё, что ты должен, и понять всё, что хочется. А потом – «лёгкой жизни я просил у Бога; лёгкой смерти надо бы просить…» Как точно подмечено, как мудро!
Мы, Борис Петрович, «все там будем». Не бойся ты так уж сильно! И прости меня ещё раз: я ведь и сама могла сочинить тебе лёгкую смерть. Не поднялась рука; хочешь – верь, хочешь – нет…
Ты не сердись, дорогой, что придумала я тебя больше «чёрным», чем «белым». Понимаешь, создание литературного образа тоже имеет свои законы, и если сказал «а», то нужно сказать и «б». Один поступок порождает другой, и иногда я против своей воли приписывала тебе ещё что-то, потому что ты ДОЛЖЕН был делать именно это.
Я не судья тебе, Борис Петрович. И никто никому не судья… Ты – это часть меня самой, хочу я этого или нет. И, как настоящая (сейчас говорят – «биологическая») мать, я выделила тебе кое-что и из собственных мыслей.
Ты дорог мне такой, какой получился, ведь любят не за что-то; любят – вопреки всему. Ведь любили же тебя и другие женщины, и тоже, наверное, вопреки.
Но моя любовь – сильнее, потому что она материнская. Самая нетребовательная и всепрощающая на свете.
Может быть, доживу и я до твоих лет… И ещё лучше, ещё яснее пойму тебя. Ведь пока что я могу только догадываться: ну как там, «за восемьдесят»?
И всё-таки, Борис Петрович, несмотря на все обличения, сделала я тебе подарок: останешься ты навсегда живым на страницах моей книги. А это немало, я точно знаю. Рукописи-то не горят!
Если бы ты, Борис Петрович, придумался больше «белым», чем «чёрным», — мне и сказать было бы почти нечего. Это как с хорошим учеником: про него редко вспоминают на собрании. Ну, молодец, гордость школы… И всё! А про плохого – часами можно докладывать!!! Так что спасибо тебе от всей души: было мне где развернуться.
…И я, Борис Петрович, как и ты, только учусь верить: на ощупь, неумело. И мне есть кому упасть в колени: простите, ради Христа, если можете! И только одно я поняла несомненно: надо успеть сделать столько добра, сколько догадаешься. А догадываться – почаще.
…Вот и я скромно надеюсь, что мой роман – это всё-таки доброе дело. И пострадал ты от меня не зря, дорогой мой герой. Мы с тобой вместе – за Человека.
Весна – осень 2011 года.
К О Н Е Ц
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.


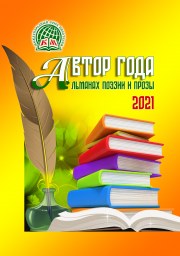


Если истина понимает, что сама не права…
Но сможешь ли ты это понять однажды,
Снова наступив на грабли сути бытия?
СПАСИБО!