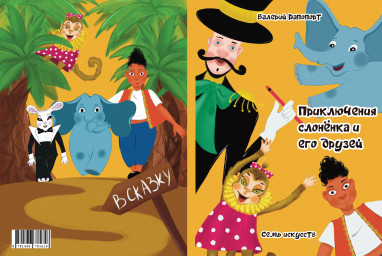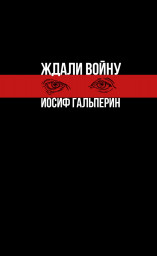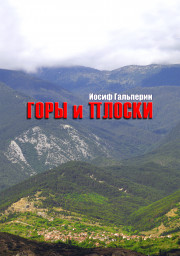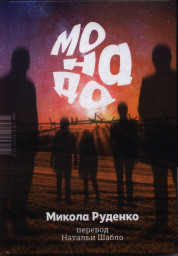Глава 5. Мадам.
Как всякому народу, подвергнувшемуся колонизации, адыгам пришлось расстаться со всеми своими старинными обычаями. Сейчас мало уже кто помнит даже то, почему от Черноморских берегов Адыгеи шла интенсивная торговля людьми. Конечно, в России это было обычное дело-то — продажа человека. А что тут такого, что русский русского продавал и покупал, как скот? И до сих пор это дело было «привычное», как и было во времена коммунистов.
Но ведь в самой Адыгее никаких рабов никогда и не было. И пришлых беглых рабов там принимали как своих и обратно не выдавали. Например, имеется в литературе описание какого-то французского путешественника 16 века, посетившего какой-то адыгский горный аул где-то в районе нынешнего Туапсе, где все население имело явные признаки негроидной расы. Там и дети и женщины и мужчины расхаживали в национальной кавказской одежде, но имели ярко шоколадный цвет кожи и кучерявые волосы мулатов. Тот французский путешественник смекнул, что всё население аула потомки каких-то беглых рабов, наверняка откуда-то из близлежащих земель ислама. Понятно, что из тех земель, откуда сбежали эти негры, до их африканской родины было им никак не добраться, поэтому эти взбунтовавшиеся рабы на угнанном судне добрались до какого-то им не известного берега, откуда взяли пешком курс на север вместо родного юга. И не ошиблись в избранном пути, найдя себе в этой новой земле и хороших соседей, и жен, и друзей в необъятных просторах Адыгеи.
И ещё вопрос к Адыгее, почему на всём побережье шла интенсивная торговля людским товаром (и рабами в том числе), но именно в самой Адыгее рабовладения никогда не было до прихода туда Российской империи? Когда и сами адыги начали порабощать и своих соседей и родных соплеменников? Стали появляться с приходом России в земле адыгов не только рабы, но и рабовладельцы. Как и на Руси, из грязи в князи попёрлись эти нищие адыги, которые стремились в угоду своим завоевателям, за счет предательства своего народа стать богатыми и успешными новоявленными князьями, хотя в их родном народе издревле ни князей, ни рабовладельцев никогда и не водилось. А отчего же тогда всегда шла интенсивная торговля людьми с Черноморского побережья Адыгеи?
Так уж смешно ли это, что дочь просила родного отца продать её в рабыни в теплые и не голодающие дальние страны, лишь бы не вкалывать до смерти на какого-то местного бездельника мужа-извращенца, чтобы её дети на родине не умирали голодной смертью. А если с побережья продавались мужчины, так это были явные преступники, воры или убийцы, выкуп за которых пойдёт семье погибшего или обворованного, и кровной мести за преступление никогда не возникнет в Адыгее. А уж «невесты» из Адыгеи продавались в огромном количестве во все гаремы Востока и Африки. Но и множество детишек всех полов шло на продажу из портов Адыгеи. Но уж это было совсем просто. Детей всегда почитали в Адыгее. А что было делать с теми детьми, которым не было пристанища на родине? Законы древней Адыгеи были очень суровы. Если ребенок рождался от родителей, которые состояли в каком-либо кровном родстве, вплоть до седьмого-восьмого колена, то за его рождение обязанность родственников его отца была убить этого самого презреннейшего в Адыгее человека. И убийство это не вызывало никакой кровной мести, а после чего продавали с побережья и провинившегося, если ещё ему повезло остаться в живых, и мать, и дитя.
Адыгский народ издревле очень строго относился к близкородственному скрещиванию. Считалось, что после произошедшего неуправляемого «греха» своих родителей (инцеста), эти их дети должны жениться и плодить своих детей только с другими народностями, то есть «развести» свою «кровь» «свежей кровью» других народов, после чего их потомкам опять можно вернуться в свой народ со «свежей кровью». И этот обычай объясняет малочисленность наследственных заболеваний среди народа адыгов. Нет близкородственного скрещивания среди этого народа, и этим обеспечивается здоровое потомство, безо всяких наследственных болезней.
А теперь поведу речь о каком-то странном и давно забытом древнем обычае адыгов отдавать своих дочерей в «жены Богу». Тот обычай прекратился сразу после войны 1812 г. России с Наполеоном. А до того времени неважно было, кого брали эти эмиссары из каких-то дальних восточных стран в «жены Богу». Могли взять и маленькую девочку, и вдовую женщину с кучей детишек, и даже целую семью вместе со всеми своими детьми. Совершенно непонятно было и то, что по истечении многих лет эти переселенцы могли вернуться на родину в виде очень богатых родителей с детьми. Их дети возвращались, иногда вместе со своими семьями, получивших и образование и полный достаток в тех далёких странах, чтобы поселиться и дальше жить в своей родной стране. Значит, о рабстве там речи быть не могло. Надо полагать, что где-то далеко была какая-то древняя диаспора адыгов, нуждавшаяся в притоке «свежей крови» со своей родины в качестве женихов и невест.
А вот тот маршрут переселения адыгов из своих исконных земель, с адыгской Кубани в «жены к Богу», и имеется возможность проследить глазами маленькой девочки из какого-то рода адыгского племени натухаевцев. А вот кто такие эти натухаевцы? Что за название и какой такой национальности, о которой осталась только память в географических названия? Сейчас даже знамя Адыгеи, развевающееся на свадебных машинах, мало кто может понять: знамя-то это зелёное, как положено в исламе, но почему-то на том знамени тринадцать звёзд. А это по количеству племен в Адыгее. Сколько племён, столько и звёзд на знамени. Сейчас известны только такие племена: шапсуги, бжедухи, абадзехи, натухаевцы …. вот, пожалуй, что и всё. Кроме как разве что как убыхи. Вот сейчас уже никому неизвестно, что за народ такой жил когда-то в районе Сочи, и с которым насмерть бились царские войска за обладание этим «райским» уголком Кавказа. Все, что осталось от этого адыгского племени, только экзотическое название «убыхи». Звучит красиво, и недалёкие умом местные жители города Сочи, вместо своей национальности русских или белорусов, стали обозначать свою национальность «убыхской», при этом совершенно не подозревая, как и все окружающие их жители города Сочи, что пытаются «примазаться» к простому адыгскому народу.
Была эта адыгская девочка самой последней, кто был отправлен из Адыгеи в «жены Богу» ещё до русско-французской войны 1812 г., как в путешествие за три моря. Вначале этот ребёнок увидел Черное море, после чего был переход через сушу (Турция?), а затем ещё было ещё одно море, надо полагать, что Эгейское. После чего опять был долгий переход через сушу (Аравия?). А затем настало очень долгое путешествие по морю бескрайнему и бесконечному (Индийский океан). А по прибытии был берег огромный и бесконечный. И ей предстояло путешествие по суше огромной страны. Вот девочка прибыла в огромный город на берегу великой реки Брахмапутры (всё это пересказываю из своих детских впечатлений от рассказов древних адыгских старух, мечтавших получить хоть какие-нибудь подарки от этой своей очень богатой родственницы из дальних стран).
Никакого Бога этой девочке почему-то не предоставили в мужья на её новом месте жительства. А вместо Бога, её просто устроили жить и предоставили возможность учиться. А этому тщеславному ребёнку так хотелось получить в мужья самого лучшего мужа в виде всем известного Бога. Спросила девочка об обещанном в мужья Боге, а вместо этого повели девочку по всяким храмам: мол, на тебе, выбирай, что за Бог тебе понравится? Храмов там было великое множество, а ни единый тот бог в мужья этой девочке отчего-то пойти не пожелал. Так и пришлось этой девочке жить и учиться без Бога-мужа, пока не подрастёт. А как подросла эта девочка в адыгской диаспоре, так и заприметила себе парня, и вовсе не Бога, а простого парня из адыгов- стражников. А так как, этот парень ей очень понравился, то и пошла она за него замуж, за неимением иного какого-то мужа в виде Бога.
Жили эти супруги сначала очень счастливо. Парнишка оказался очень грамотным и быстро достиг важного положения в обществе, и не только в адыгской диаспоре воинов-охранников. Оказалось, что он вовсе не чистокровный адыг, у него отец был вовсе не из адыгов, а француз. Со временем муж этой адыгеечки дослужился до высокой должности коменданта города-крепости. И звали его Александр. И детишки у них были, но только лишь одни последние роды прошли плохо для мадам. Хотя сами роды были настолько легкими, что совсем её не обременили, как будто то вовсе не роды были, а так просто спину слегка потянуло, да расстройство сильно жидкое у кишечника было. Сама не заметила, как ребеночек вышел. А вот у повитухи столько радости было, когда она приняла дитя и, не показав, объявила родильнице, что это мальчик. Как и та ещё радость была у повитухи, что этот новорожденный мальчик тут же и умер, как только его унесли от родильницы. Но мадам не отличалась слабым слухом и прекрасно расслышала, что её муж Александр за дверью от восторга произнес для повитухи: «Маленький граф родился». Вот эту дуру-мадам сразу и проняло. Даже мертвого ребенка ей не показали эти хамы. А она-то «поняла всё и сразу»: это как же так получается, что её муж вдруг оказался французским графом и только её мертвого ребенка признал своим наследником-графом? А у неё есть и старшие сыновья? Неправильно это, вот её старший сын и есть граф. А она мать графа, получается она и есть самая настоящая графиня.
Ясно, что сошедшей с ума дамочке младенца того «мертворожденного» никто не показывал. Просто ей объявили, что этот младенец родился с такими множественными уродствами, что всё равно не смог бы выжить. После чего отношения с мужем у мадам испортились настолько, что больше дети у них не рождались.
Но мысль о графстве накрепко засела в голову мадам. Дальше с этой мадам всё пошло наперекосяк. Не в лад и невпопад эта женщина стала скандалить безо всякой причины. Научилась, наверное, что чин графский велик. За последнего хама стала держать мужа за то, что мертворождённого ребенка назвал графом, а своего старшего сына беспричинно презирает, не назвавши графом. А она, как женщина-мать обязательно добьётся, чтобы графский титул остался в семье за её старшим сыном. На голову старшего сына, мальчика лет восьми мать стала плести языком такие глупости о его графстве, что малыш совсем обезумел от приказов матери. И что мать ему приказала, то и исполнил перед своим отцом. И произошло это в самое неподходящее время, когда шел в крепости торжественный приём каких-то восточных владык Сиама. Мадам, по-видимому, решила устроить большой скандал со свидетелями и послала сына выступить перед гостями отца с хорошо отрепетированной ролью обвинителя сыном отца своего. А плохо то, что худшего момента для скандала ей выбрать было невозможно: при этом разговоре отца с сыном были нежелательные свидетели не только из Европы, но и из других стран Востока. Приём там был такой высокопоставленных гостей Сиама с множеством высоких чинов. И этот Александр, как должностное лицо по своим обязанностям был обязан приговорить сына, пошедшего против воли отца своего, к смертной казни. Вот так и приговорил повелитель Александр своего старшего сына к смертной казни. А жену-дуру об этом и не оповестил. Узнала как-то потом от посторонних людей. И старшего своего сына она никогда больше не увидела, даже мертвым. Не по адыгским законам в той адыгской диаспоре жил её муж Александр. Слишком высокую должность стал он занимать по законам Сиама.
А дальше мадам с мужем совсем невмоготу жить стало. Вроде бы, как и сама-то живёт не хуже, чем графиня, а муж совсем стал сатрап и хам. Тому Александру совсем до неё никакого дела не стало. Только по своей работе где-то носился этот убийца её старшего сына. Осталась бы совсем одна эта мадам госпожа «графиня», да только благодаря невнимательности того Александра, не обращавшем на жену никакого внимания, у неё появился новый друг француз среди множества других европейцев, обитавших в то время в королевстве Сиам на берегах реки Брахмапутры. А звали того француза Левасёр. Вот, не мне ему название придумывать, как и те, вполне официальные приключения Левасёра, описанные в Индии о тех событиях начала 19 века. Любовь там такая была у мадам с тем Левасёром, что мадам прокралась в дом своего мужа Александра и выкрала все те бумажки, что попросил украсть её любовник Левасёр. И заодно из дома мужа мадам захватила все деньги и драгоценности. И после чего сбежали любовники на Запад, подальше от этого места в Индию. А вы что думали, что мадам ещё и своих остальных детишек с собой вместе с Левасёром прихватила в путешествие? Нет, конечно.
А что было дальше? Новость о том, что вся эта крепость была уничтожена вместе со всеми жителями того города, застала госпожу мадам на пути в Индию со своим любовником. Но, а какие могли быть проблемы у мадам по поводу гибели её детей? Ведь не она же как-то там могла повлиять на убийство своих детей какими-то пиратами с Востока? Сколько бы авторы Индии и других стран не излагали эти события в своих произведениях, а всё одно, никак не понять людям эту глупую адыгскую женщину.
Дальше посмотрим, куда эта сладкая парочка прибыла? А в Калькутту. Может, я изложу те события, и читатель по хроникам и произведениям английских авторов сможет сверить эти события с тем описанным в английской литературе анекдотом о мерзкой жадной твари, презираемой всеми порядочными людьми в образе портовой шлюхи города Калькутты?
Вот тогда-то и прибыла очень приличная и порядочная мадам в качестве супруги Левасёра в город Калькутту к полному восторгу тамошнего высшего общества. Надо сказать, что у мадам было очень хорошее, почти европейское образование, полученное ею в той крепости на берегу реки Брахмапутры, а про её «супруга» Левасёра и так всем было хорошо известным, что он английский шпион и дворянин. Ну и куда бы ещё ехать бы этой супружеской чете? Разве что в Европу? Но только супруг Левасёр по прибытии в Калькутту вдруг так чем-то захворал, что стал и не выходить из дома, запираясь на все засовы, вздрагивая от каждого шороха и вытащить этого супруга из дома, мадам никак не удавалось никуда, несмотря на многочисленные приглашения знатного общества города Калькутты.
А мадам принимала все приглашения и отбоя не знала от этих приглашений во все английские знатные дома Калькутты. Где её встречали с нескрываемым восторгом и выслушивали все её рассказы о своей прежней жизни. Занятая посещением приёмов и балов, мадам еле справлялась с самыми новомодными нарядами из Европы и даже времени не нашла поскандалить со своим супругом по поводу ускорения их предстоящего отъезда в Европу. А вот Левасёр как-то совсем сник. Мог целыми днями проваляться в постели, запершись на все запоры, пока мадам увеселялась в высшем местном обществе. Всё сложилось хорошо у мадам в Калькутте, но мадам хотелось большего: попасть в Европу, предстать перед тамошними дворянами и блистать в высшем обществе в образе вдовой французской графини.
Вот и пришла как-то поутру мадам к своему исхудавшему любовнику Левасёру поскандалить. Тот смирённо выслушал её притязания на своё отбытие важной графиней в Европу. И в ответ обратился к ней с простой просьбой, мол, де он совсем оголодал и просит её саму приготовить ему еду, а то от кухни местного повара он совсем отощал. И пришлось мадам пойти вместе со слугами на местный базар за провиантом. Купила мадам провизию, нагрузила ею слуг и пошла домой. А по дороге домой вдруг обнаружила, что её кошелёк с деньгами украли. По прибытию к своему дому, оглянувшись, мадам обнаружила исчезновение и шедших за нею с ношею слуг. Немало удивившись, мадам попыталась войти в свой дом, но какой-то незнакомый слуга стал ей препятствовать. Мадам от возмущения такой наглостью стала кричать. Из её дома выбежали какие-то люди, которые немало удивились утверждению этой мадам, что она здесь живёт. Эти хозяева заявили ей в ответ, что здесь они прожили много лет и ни о какой мадам и тем более о её супруге Левасёре никогда ничего и слыхом не слыхивали. Мадам стала кричать и убиваться, что после её ухода из дома прошло не больше часа, а её супруг успел её бросить и обокрасть так, что тут уже какие-то люди поселились. Конечно, эти хозяева её пожалели и провели в дом и показали обстановку этого своего жилища. И ничего в том доме не напоминало мадам ни о Левасёре, ни об их прежнем здесь проживании.
Мадам всё сразу и поняла. Этот её коварный Левасёр специально послал её на базар, а сам тем временем скрылся со всеми её деньгами и драгоценностями. И, прекратив свою истерику обитателям этого своего дома, мадам выскочила из дома на улицу, решив нажаловаться на Левасёра своим друзьям по балам и приемам Калькутты.
При появлении мадам в первом же знакомом доме слуги стали не пускать её в дом, а на её крики последовал приказ хозяев гнать эту совершенно незнакомую им даму. Такая же история повторилась в каждом доме, куда обращалась мадам за помощью и сочувствием. Наконец, мадам осталось только обратиться к властям. А там ей и открылось, что никакого Левасёра никогда и не водилось в этой Калькутте, и никакой мадам, якобы прибывшей из Сиама там никто никогда и не знал. Осталась мадам в том, в чём пошла на базар. Кое-какие украшения, бывшие на ней, она сразу же продала. Но положение это спасло ненадолго. Власти её объявили безумной, а остальные жители Калькутты отказывались признаваться, что когда-то принимали её в своих домах.
Без денег, без работы, мадам, что оставалась делать? Идти в прислуги? Так её ни к одному дому не только европейцев, а нищих местных жителей близко никто не подпускал. Немало удивившись такому странному поведению жителей Калькутты, мадам пришлось перебраться в порт, где моряки с проходивших кораблей точно ничего о ней не знали. Там ей осталось заняться только древнейшей профессией. А так как мадам к тому периоду своей жизни уже не отличалась ни молодостью, ни красотой, то и обслуживала клиентов как самая низкооплачиваемая проститутка. Впрочем, и этот источник доходов скоро совсем иссяк. Потрёпанная проститутка и в порту мало какому пьянице могла понадобиться. И тут мадам повезло. Удалось прибиться ей в дом какого-то нищего старика. А поскольку тот был стар и одинок, то по истечении нескольких лет осталась мадам вдовой в его хижине, где могла спокойно дожить свой век.
Но, а как же не вспоминать мадам о своем былом величии, о своем богатстве. И больше всего не давал покоя мадам её графский титул. Вот и шли проклятия в адрес коварного Левасёра, лишившего её всего, что у неё было. И никак не взять в голову той глупой мадам, что тот Левасёр давно уже мертв. И не проклинать бы надо его, а благодарить за то, что тот, чуя свою неминуемую смерть, успел спровадить её из дома. И всё оставшееся ему краткое время жизни, Левасёр провёл в страшных мучениях, моля своих палачей о пощаде. Почему не бежал, бросив свою любовницу? Так в своей шпионской миссии по краже документов из крепости и передаче тех документов тем пиратам, уничтоживших всё население крепости, Левасёр нажил себе такого могущественного врага, что не было ему места на земле, где можно было бы скрыться от мести старшего брата Александра де Гадль, от деверя глупой мадам.
Вот тогда-то в бедняцкой хижине и взбрело в глупую голову мадам просить всех богов о возврате её титула графини. Молилась она всем местным богам, да всё без результата. А тут какие-то пришлые люди стали рассказывать ей о каком-то индийском живом боге, который может всё. Как скажет тот бог, то и надо исполнить, так вскорости всё и сбудется.
Совсем сошла с ума старуха. Бросила свой дом и отправилась бродить по дорогам Индии на поиски того непоседливого бога. Тому богу сидеть бы себе, как все боги, в храме и принимать подношения от посетителей. А этот бог носится себе по всем дорогам Индии со страшенной скоростью и периодически все ещё начинают говорить, что того бога убили там, где его и не было вовсе. Потому, что вроде бы как тот живой бог бессмертный. И у него есть уже и сто смертей и сто могил только в одной Индии.
Вот и бродила бедная старуха по дорогам без цели, пока вдруг не услыхала в толпе, что этот живой бог здесь бродит. Давай та мадам распихивать толпу, чтобы показали её того бога. А везде, куда не глядит эта глупышка, нет никакого бога. А вместо бога местный люд ей и показывает какого-то нищего плешивого оборванца. А этот оборванец ещё и всем радостно улыбается своей щербатой улыбкой. А кто их разберет тех индийцев, с чего им вздумалось называть какого-то нищего бродягу своим богом. Так подумавши, мадам всё же решила изложить этому нищему свою просьбу о возврате ей её титула графини и приличного положения в обществе. Долго излагала бывшая мадам живому богу свои требования. За это время сползла улыбка с лица бога. Стал бог мрачнее тучи. А как мадам кончила, бог стал говорить какую-то странную речь, из которой та мадам ни полслова не поняла. Но не поняла не потому, что не знала этого языка, на котором говорил живой бог. Просто то, что сказал ей тогда бог, показалось мадам какой-то несусветной чушью.
А бог сказал приблизительно вот что: «Не много ли ты, женщина, себе от меня требуешь за то, что я не так уж и сильно утруждал твоё лоно». Сказал себе так и зашагал прочь. А народ вдруг стал расступаться перед старухой. Дальше пошла старуха по свободному пространству. И вдруг ей под ноги полетел камень. И ещё камень её под ноги кто-то бросил… Камни кидали явно так, что бы ими не попасть в старуху и ей не навредить. А всё равно мадам стало почему-то страшно. Побежала прочь из города. Так и шла дальше. И к кому не обратится за подаянием или водицы испить попросит, а в ответ люди кидают камни ей под ноги. Где не появится, в каком селении, а везде всё одно и то же: люди в ответ молча кидают ей камни под ноги. Сколько так бродила эта несчастная и где её настигла смерть, неизвестно. Везде ей дорогу люди устилали камнями, брошенными под ноги.
А что произошло? Как уже поняли, тот улыбчивый бог и был наш знакомый Нана Сахиб. А эту историю предательства женщины, ставшей причиной гибели стольких людей и всех своих детей только из-за своего желания стать богатой, никто в Индии не забыл. В местном эпосе были повествования, где авторы пьес давно описали эти события. Только самой той мадам ничего об этом не было известным. Да и её саму никто ранее и не подозревал в участии в таком низком предательстве. Кто же мог предположить в грязной нищенке эту коварную даму? А вот Нана Сахиб её опознал по её требованиям о возврате своего графского титула и «сдал» народу Индии, как преступницу. Полагалось предательницу своего мужа и детей забить камнями по индийским законам, но на мать Нана Сахиба никто не посмел поднять руку… Вот и доживала свой век в бесприютной нищете родная мать Нана Сахиба, мучаясь людским осуждением, но не чьей-то местью за своё преступление.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.