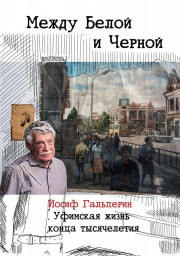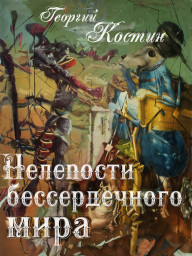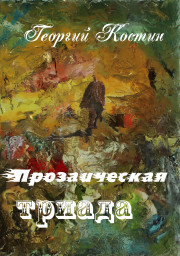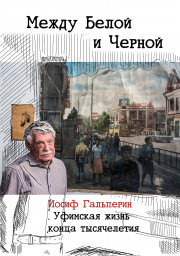Молния
Было это давно, когда единый могучий Советский Союз успешно противостоял империи мировой организованной преступности, для краткости называемой США. Эта сатанинская шайка адова сразу после страшной мировой бойни разожгла войну в Корее, которую с позором проиграла, потом она полезла во Вьетнам, где весной 1975 года её разгром оказался полным и сокрушительным. Пришлось убираться к себе за бугор под прикрытием авианосных ударных групп.
Командование советского ВМФ усилило разведку акватории Индийского океана. Экипажи самолётов — разведчиков морской авиации и командиры подводных лодок ТОФа получили специальные боевые задачи.
Четыре десятка самолётов Ту-95РЦ использовались очень интенсивно, и они буквально походили на "челноков". Их можно было видеть повсеместно, как в южных, так и в северных широтах. Казалось, что для них нет пространственно-временных ограничений.
На Тихоокеанский флот, в 304 гвардейский отдельный дальнеразведывательный авиационный Краснознаменный полк (304 ОДРАП), самолеты Ту-95РЦ начали поступать в 1965 году с базированием на аэродроме Хороль.
В 1954-56 годах аэродром получил бетонную ВПП 1 класса 3000 Х 60 м для посадок Ту-16 и Ту-95 с комплексом наземных сооружений. Первый Ту-95РЦ с заводским номером 65МРЦ105 приземлился на эту полосу в апреле 1965 году. В 1965-69 годах аэродром получил 22 машины Ту-95РЦ.
На авиационном жаргоне все модификации Ту-95 называют либо «шмель», либо «мохнатый». Это потому, что у него сдвоенные пропеллеры на каждом двигателе и при работе они создают видимый круг, действительно напоминающий машущие крылья шмеля. Двигатели очень надёжные и экономичные, но весьма шумные.
Для полноты рассказа отдельно остановлюсь на конструкции «мохнатого».
Фюзеляж представляет собой конструкцию типа полумонокок обтекаемой формы, круглого сечения, с гладкой работающей обшивкой, подкрепленной набором шпангоутов и стрингеров. Технологически он делится на передний фонарь, носовую часть, включающую в себя переднюю негерметическую кабину и обтекатель кормовой пушечной установки.
Фонарь и носовая часть фюзеляжа образуют переднюю герметическую кабину, в которой расположены места экипажа (летчики — командир корабля, помощник командира, штурман, второй штурман, старший бортовой техник, старший воздушный стрелок-радист и офицер по системам РЭП). Вход в кабину производится через отсек передней стойки шасси и люк в полу. Аварийное покидание самолёта осуществляется при помощи подвижного пола через люки в обеих кабинах,
К средней части фюзеляжа крепится центроплан, здесь же расположен бомбовый отсек. Значительная часть свободного объема занята контейнерами с топливными баками, ближе к наружной поверхности вмонтированы спасательные лодки ЛАС-5-2М. В кормовой гермокабине размещены рабочие места воздушного стрелка-радиста и командира огневых установок, прицельные станции и оборудование. Далее крепится кормовая пушечная установка с обтекателем радиолокационной прицельной станцией.
Для обзора боковых полусфер в кабине имеются блистеры из органического стекла. Фонарь кормовой кабины остеклен прозрачной броней.
Крыло на 95-м кессоной конструкции. Состоит из центроплана, двух первых отъемных частей и двух вторых отъемных секций. Кессон образован передним и задним лонжеронами, верхними и нижними панелями с толстой работающей обшивкой. Между нервюрами в кессоне размещаются мягкие топливные баки. На верхней панели есть узлы крепления гондол двигателей. Нижняя панель в местах установки основных стоек шасси усилена двумя балками.
На крыле расположены органы управления самолетом. Элерон металлической конструкции проходит вдоль всего размаха вторых отъемных частей крыла и разделен на три отсека, во избежание заклинивания при прогибе крыла. Односекционный щелевой закрылок расположен на первой отъемной части и разрезан на две части обтекателем шасси.
Оперение цельнометаллическое, свободнонесущее, однокилевое, стреловидное. Угол стреловидности вертикального и горизонтального оперения 40D. Стабилизатор кессоного типа состоит из двух половин, стыкующихся между собой по оси самолета. Руль высоты тоже из двух частей и имеет так же, как и руль направления, соответствующую компенсацию.
Шасси самолета трехстоечное, со сдвоенными баллонами. Основные стойки — двухосные, убираемые в полете в крыльевые гондолы (что является фамильной чертой большинства туполевских машин), носовая стойка — одноосная, убираемая по "потоку" в фюзеляж. На основных стойках расположены тележки с четырьмя тормозными колесами, имеющими пневматики 1500х500 мм. Передняя стойка с двумя колесами и пневматиками 1100х330 мм крепится к передней части фюзеляжа.
Управление самолетом осуществляется с помощью двух штурвальных колонок и двух пар ножных педалей, соединенных с органами управления тягами. В управлении элеронами частично применена тросовая проводка. В системе управления рулем направления и элеронами включены обратимые гидроусилители.
В зависимости от модификации, на Ту-95 применялись ТВД НК-12 мощностью 12000 л.с., НК-12М, НК-12МВ либо НК-12МП (каждый мощностью по 15000 л.с.), расположенные в мотогондолах, воздушных винтов типа АВ-60 и системы управления. Винты — четырёхлопастные металлические изменяемого шага, установленные соосно. С начала 60-х гг. бомбардировщики оснастили двигателями НК-12МВ с системой автофлюгирования, и отказ перестал восприниматься как фатальное событие.
Топливная система включает в себя топливные баки и систему автоматического измерения расходования топлива, которая обеспечивает в полете диапазон допустимых центровок машины. Горючее типа Т-1, ТС-1 или Т-2 располагается в 74 крыльевых и фюзеляжных мягких топливных баках. Общий запас топлива для самолета Ту-95М может достигать 88,5 -100т.
Гидравлическая система включает две подсистемы: высокого и низкого давления. Нагнетание высокого давления создается автономным гидронасосом с электроприводом, в системе низкого давления — от гидронасосов, установленных на двигателях.
Радиосвязное оборудование состоит из KB радиостанции, командной радиостанции, работающей в коротковолновом и среднем диапазоне волн, УКВ радиостанции, аварийной радиостанции.
Радионавигационное оборудование включает автоматический радиокомпас, радиовысотомеры малых и больших высот, доплеровский измеритель скорости и угла сноса, системы навигации, посадки, аппаратуры контроля места положения самолета.
После проведённой в 70-х гг. модернизации устанавливались: радиолокационный прицел РПБ-4 «Рубидий-ММ-2» либо Р-1Д «Рубин-1 Д», сопряжённые с оптическим бомбоприцелом ОПБ-11РМ (ОПБ-112), станция оповещения о радиолокационном облучении СПО-2 «Сирена-2», аппаратура РЭП СПС-1 либо СПС-2. Для управления оборонительными установками предназначались 4 оптические прицельные станции ПРС-153, а также прицельная РЛС ПРС-1 «Аргон». Кроме того, в грузоотсеке размещались системы автоматического сбрасывания диполей АСО-95 и АСО-2Б. Для контроля результатов бомбометания и ведения попутной авиаразведки установлен фотоаппарат АФА-42/100.
Пожалуй, ключевым элементом на Ту-95РЦ была аппаратура «Успех», антенна которой размещалась под зашитым грузовым отсеком. С ее помощью осуществлялись поиск кораблей вероятного противника и передача их координат на подводную лодку — ракетоносец с последующей коррекцией траектории полета ракет. В процессе доработок самолета Ту-95 сняли бортовую РЛС "Рубидий-ММ", ее место занял ретранслятор бортовой системы целеуказания, под грузовым отсеком установили антенну РЛС, закрытую громадным обтекателем. Поскольку с самолета сняли все плановые аэрофотоаппараты, исчезла надобность в отсеке для осветительных бомб. Это место занял обтекатель станции радиотехнической разведки "Квадрат-2", внутри отсека разместились ее блоки, а на концах стабилизатора установили антенны системы "Арфа", закрытые обтекателями.
На самолете были размещены мощные разведывательные станции СРС-4, СРС-5 «Вишня», СРС-6, СРС-7 для ведения общей и детальной радиотехнической разведки. Документирование результатов разведки осуществлялось с помощью фото и регистрирующей аппаратуры ФРМ-2, "Ромб-4а" и "Ромб-4б". Разведывательная аппаратура, работающая в широком диапазоне волн, могла обнаруживать большое количество работающих РЛС и автоматически записывать их частоты и другие характеристики, оперативно передавая данные.
Электросистема самолета состоит из основной сети постоянного тока, питающейся от 8 генераторов типа ГСР-18000М по 2 на каждом двигателе. В качестве аварийного источника используются аккумуляторные батареи 12 CAM-55. Две вторичные системы переменного тока питаются от преобразователей ПО-4500 и ПТ-1000. Кроме того, на каждом двигателе установлены генераторы переменного тока нестабильной частоты типа СГО-ЗОУ.
Ту-95РЦ были вооружены 6 спаренными 23-мм пушками АМ-23, расположенными в 3 оборонительных установках: верхней ДТ-В12, нижней ДТ-Н12, и кормовой ДК-12. Верхняя установка ДТ-В12 размещалась в средней части самолета вне герметической носовой кабины и служила для кругового обстрела верхней полусферы.
Управление установкой — дистанционное, электрическое, осуществляется в виде основного управления с верхней прицельной станции и в виде вспомогательного управления — с кормовой оптической прицельной станции или от радиолокационной прицельной станции ПРС-1.
В походном положении с целью уменьшения лобового сопротивления верхняя установка опускается в специальную шахту фюзеляжа самолета. Спуск и подъем установки происходит с помощью специального гидравлического устройства, входящего в общую гидросистему самолета. Величина спуска 240 мм. Время подъема установки 3 с, время спуска 5с.
Нижняя установка ДТ-Н12-С монтируется в нижней части фюзеляжа хвостового отсека и предназначена для кругового обстрела нижней полусферы из двух пушек АМ-23.
Управление установкой — дистанционное, электрическое, осуществляется в виде основного управления с блистерных прицельных станций и в виде вспомогательного управления:
— с кормовой оптической прицельной станции или
— от радиолокационной прицельной станции ПРС-1.
В отличие от верхней установки, кормовая установка ДК-12 предназначена для защиты самолета от истребителей и ракет со стороны хвоста. Установка размещена в хвостовой части фюзеляжа самолета за герметичной кабиной стрелков, завершая своим обтекателем аэродинамическую форму фюзеляжа.
Дистанционное электрическое управление кормовой установкой осуществляется: по основному управлению — с кормовой оптической прицельной станции ПС-153К и от радиолокационной прицельной станции ПРС-1; по вспомогательному управлению — с верхней оптической прицельной станции ПС-153ВК и с блистерных оптических прицельных станций ПС-153БП и ПС-153БП. Управление стрельбой ведется с помощью прицельно-вычислительного блока ПС-153. В его состав входят четыре прицельные станции ПС-153, радиолокационная прицельная станция ПРС-1 и вспомогательный блок ВБ-153.
На бомбардировщике Ту-95 имеются 4 прицельных поста: верхний, кормовой и два блистерных (левый и правый). Верхний пост оборудован станцией кольцевого типа, имеющей круговое вращение по горизонту, остальные посты — станциями стоечного типа с ограниченными углами поворота. Прицельные станции кольцевого и стоечного типа позволяют определять дальность.на дистанции от 200 до 2000 м.
Радиолокационная прицельная станция ПРС-1 работает в зоне наиболее вероятных атак истребителей: +35° по азимуту и углу наклона. Станция ПРС-1 обнаруживает цель независимо от условий видимости на дальностях до 4000-5000 м при автономной работе или при наводке от оптической прицельной станции.
После захвата цели ПРС-1 осуществляет ее автоматическое сопровождение, вводя исходные данные в автоматы управления воздушной стрельбой (АВС-153) и на пушечные установки. На дистанциях от 200 до 2000 м ПРС-1 выдавала дальность до цели точнее, чем стрелок при работе с оптической прицельной станцией, особенно на больших дальностях. Максимальная погрешность по дальности составляла менее 70 м. Ближе 200 м у ПРС-1 была мертвая зона. ПРС-1 могла управлять всеми тремя пушечными установками самолета Ту-95. Кормовая установка снаряжалась снарядами ПИКС – инфракрасные ловушки, а верхняя и нижняя – ПРЛС – противорадиолокационными. И те и другие не предполагали стрельбу по цели – ПИКСы пускались веером в случае необходимости, а ПРЛС выстреливались по специальным меткам, нанесенным на блистеры ВСР (воздушный стрелок-радист, место в передней кабине, куполообразный блистер) и «Вишни». Красной краской, по дуге вправо на стекло наносились 4 круглые отметки с цифрами, прицельные станции наводились на эти отметки и по каждой давалась очередь. На дальности 2000 м снаряды взрывались, выбрасывая металлическую мишуру, которая образовывала облако. Иногда в ходе противоракетного маневра с креном 30° с одновременной стрельбой противорадиолокационными патронами из верхней пушечной установки создались условия, при которых открывались замки заливных горловин баков, расположенных недалеко от среза стволов. После чего баки взрывались и самолёт разрушался… Бывало, что во время перекачки топлива шланг на заправщике обрывался, перехлестывал через кабину Ту-95, разбивал блистеры и колотил по рулям, грозя катастрофой. Тогда командир принимал решение отстрелить часть шланга из верхней установки, КОУ виртуозно обрезал злополучные шланги. С тех пор на заправку "мохнатые" летают с полным боекомплектом верхних пушек.
В процессе модернизации радиолокационный стрелковый прицел ПРС-1 заменили на ПРС-4, станцию радиоэлектронного противодействия СПС-2 — на СПС-3, станцию предупреждения СПО-2 — на СПО-3, радиовысотомер РВ-2 — на РВ-УМ; автоматический радиокомпас АРК-5 — на АРК-11, радиостанцию РСИУ-4 — на РСИУ-5. На самолете была установлена новая пилотажно-навигационная система "Путь-1Б", курсовая система КС-6Д, доплеровский измеритель скорости и угла сноса ДИСС-1 и радиотехническая система ближней навигации РСБН-2С, а также радиостанция 1-РСБ-70А. Некоторые машины оснастили системой попутной радиотехнической разведки "Ромб-4".
Это не был лучший самолет морской авиации, но он не был и худшим, а по прошествии некоторого времени летчики, забыв о тесных и неуютных кабинах, не приспособленных для длительных полетов сиденьях, повышенных шумах и вредных вибрациях, способствовавших образованию камней во внутренних органах, о переживаниях и нервном напряжении при выполнении заправок в полете, когда пульс превышал нормальный в полтора-два раза, с тоской и нежностью вспоминали о самолете, взлетный вес которого превышал вес трех-четырех тяжелых танков со всем их содержимым.
В 1970г. полки гарнизона Хороль приняли участие в стратегических учениях ВМФ СССР "Океан". Восемь самолётов (командиры кораблей Гладков, Хаяров, Старцев, Меленный, Бандорин и др.) с дозаправкой в воздухе на маршрутах в виде расходящегося веера произвели вскрытие надводной обстановки в Норвежском море и Атлантическом океане до рубежа полуострова Н. Шотландия — Канарские о-ва. Продолжительность полёта составила 22 ч. На завершающем этапе маневров 18-21 апреля 1970 г. экипажи полковника И.Ф. Гладкова и майора А.И. Старцева выполнили трансатлантический перелет с посадкой на кубинском аэродроме Хосе-Марти. После этого полёты на Кубу, вплоть до развала некогда великой страны производились регулярно с периодичностью 25-35 полётов в год. В достаточно напряжённой обстановке удалось изучить некоторые особенности района. На участке маршрута от 55 до 36° с. ш. встречались струйные течения, скорость которых на высоте 5000-10000 м достигала 200-300 км/ч, что увеличивало продолжительность полёта на 2,5-3 ч. Иногда перелёт на о. Гавана был вообще невозможен.
На участке маршрута от 60 до 30° с. ш. на высоте 9000-10000 м на отрезке длиной 800-1500 км и глубиной до 150 км встречались фронтальная облачность и отдельные мощно-кучевые облака. В этом случае приходилось отклоняться от линии заданного пути до 100-200 км.
Немаловажное значение имело положительное отклонение температуры воздуха от стандартной атмосферы, достигающее 10-15° на участке маршрута южнее 40° с. ш., что приводило к увеличению расхода топлива.
По опыту полётов средний часовой расход топлива на режиме максимальной дальности на скорости 740-710 км/ч достигал 4,91 т, средний километровый расход — 7,5 кг/км, что на 12-14% выше расчётного значения.
Экипажам приходилось учитывать интенсивное воздушное движение между Старым и Новым светом и выбирать высоту полёта между эшелонами международных авиалиний.
Подобные перелёты отличались большой сложностью и требовали хорошей физической и психологической подготовки экипажей, умения использовать средства радиотехнического обеспечения по маршруту полёта. Но благодаря базированию самолётов Ту-95РЦ на Кубе стало возможным обнаружение в Западной Атлантике двух авианосных ударных групп, совершающих переход от берегов Америки в район Норвежского моря для участия в учениях НАТО "Стронг Экспресс". За обеими группами в течение двух суток вели наблюдение самолёты Ту-95 РЦ, вылетавшие с аэродромов Кубы, а затем его продолжили самолёты — разведчики авиации СФ с базовых аэродромов. По тем временам это внушало уверенность, что в случае чрезвычайных обстоятельств выдвижение авианосцев к нашим границам незамеченным не пройдет.
Ту-95 РЦ здорово там насолил американцам, поэтому 4 августа 1976 года на перехват пары советских разведчиков по тревоге вылетели два американских истребителя. Один из них, наплевав на заключённое в 1974 году соглашение между СССР и США, стал выполнять вокруг самолета ТУ-95РЦ экипажа А.Красносельских фигуры высшего пилотажа. Скорее всего, стараясь запугать советский экипаж, возможно, с целью отвадить в дальнейшем русских пилотов проводить воздушную разведку в непосредственной близости от берегов США, где находилось множество важнейших стратегических секретных объектов — военных баз и полигонов, демонстрируя при этом новую американскую военную авиационную технику и её мощь. В ходе этого, заодно, американский пилот проводил и своего рода "обкатку" нового самолета-истребителя F-15. В процессе головокружительных кульбитов американского пилота — бандита, тот, в конце концов, выпустил ракету, которая пролетела рядом с советским военным самолетом и ушла в небо, падая в океан. Наблюдая все это, экипаж ТУ-95РЦ расценил, что его агрессивно атакуют и КОУ экипажа врезал по бандиту из всех шести стволов трёх огневых установок. Американский самолёт рассыпался в воздухе на части, получив по полной программе. В результате чего американский бандит был убит сразу. Второй американский истребитель, видя падение в океан обломков своего подельника визуально, приборно, и контролируя радиоэфир, дрожа, от страха, атаковал ТУ-95РЦ, подбив его, после чего сразу отскочил и помчался на утёк в базу, опасаясь возмездия от ведомого ТУ-95РЦ, в зоне действия оружия которого он находился в момент нападения.
Учитывая, что все четыре двигателя самолета — разведчика, падающего в штопорном положении в океан работали, а его экипаж был жив, можно сделать вывод, что попадание снарядов или ракеты было в киль самолета, отчего он потерял управление и перешел в режим сваливания. Падающий в Атлантику экипаж успел передать, что испытывает сильнейшие перегрузки и что штурвалы вырывает из рук. В создавшейся аварийной обстановке экипаж предпринимал попытки вывода самолёта в режим горизонтального полёта, но без киля это оказалось невозможным. По словам родственников погибшего экипажа, последними словами в кабине самолета были мат членов экипажа и крики штурмана — навигатора А.Ф.Бычкова, направленные командиру: "Аркаша!!! Выводи!!! Выводи!!! Падаем!!! Падаем!!! П-ц!" Весь экипаж (12 человек) погиб: командир-пилот 1-го класса, майор Красносельских А.И., помощник командира корабля (ПКК или 2П), капитан Гарынычев Ф.Е., штурман-навигатор 1-го класса капитан Бычков А.Ф., бортинженер, капитан Скороходов Л.И., ст.лейтенант Позняк В.А., ст.лейтенант Васильев Н.Ф., ст.лейтенант Лебедев Е.Н., прапорщик Трифонов М.Н., прапорщик Грибалев В.И., прапорщик Тараненко А.И., прапорщик Федяшов В.А., военный переводчик (выпускник ВИИЯ) Колибабчук В.М.
Второй ТУ-95РЦ находился на другом эшелоне полета и, вполне возможно, чисто визуально ничего не видел, но слышал по радио переговоры летчиков и наблюдал обстановку радиотехническими средствами. После падения ведущего ведомый экипаж, по команде с командного пункта ВВС КСФ, снизился до 300 м., места приводнения ведущего не обнаружил, а потом был возвращен обратно на Кубу. Экипаж продержали там без разъяснения причин целый месяц, а по возвращении в Советский Союз, без объяснения причин расформировали, и распределили по разным другим воинским частям и гарнизонам. По обоюдному желанию администрации бровеносного миротворца и перетрусивших после нарушения действующего соглашения штатов, дело это засекретили, исказили, а в СМИ пустили ДЕЗУ, что причиной катастрофы явилась ошибка экипажа советского самолета.
Начальнику разведки 392-го ОДРАП полковнику Георгию Бульбенкову из гарнизона Федотово довелось лететь в Гавану после той катастрофы. Была надежда, что кому-то удалось уцелеть на поверхности воды, тогда можно было бы навести на них какой-то из ближайших советских теплоходов. Командование очень интересовала и судьба секретных документов, находившихся у экипажа. Их запросто могли обнаружить и утащить американцы. От неминуемой в этом случае замены шифров и позывных спас случай. Портфель с бумагами удалось выловить экипажу нашего сухогруза, направленного радиограммой из Москвы в район падения самолета.
Для поиска сбитого самолета и подъема его останков был создан специальный отряд в составе спасательных судов "Трефолев", "Алдан", СБ-38, танкера "Дубна" и теплохода "Аджария". Возглавлял его командир бригады спасательных судов капитан I ранга Марат Иващенко.
К сожалению, в самом начале операции судами, которые поднимали плавающие предметы самолета, была допущена ошибка: место катастрофы на карту нанесли, но буй не выставили. Точное место катастрофы было потеряно, ошибка в определении места в этом районе составляла величину до семи миль. Поэтому подошедшим судам отряда пришлось организовать поиск на значительной площади, применяя все средства и силы.
Спасательные суда занимались тралением в расчете зацепить на грунте выступающие части самолета. Трал часто цеплялся за камни и отрывался. Решили пойти на нарушение инструкции и проводить осмотр дна не из неподвижной наблюдательной камеры, а во время движения судна со скоростью 3-4 узла.
За время поиска спасательными судами была протралена площадь 593 квадратных километра. Только со "Трефолева" визуально на ходу и на якоре было осмотрено более 30 квадратных километров дна.
Советские спасательные суда весь период работ "пасли" натовские канадские корветы, сменяя друг друга через каждые десять дней, а с вертолетов они снимали на кинопленку ход работ. Работа продолжалась уже почти полтора месяца, а результатов не было. 17 сентября командир, видя, что экипаж судна измотан, дал команду прекратить поиск и отдыхать. Тогда в дело вмешался САМ Господь, ибо случай – псевдоним Бога, когда Тот не желает называть Своего Имени. Началась цепочка счастливых случайностей. О распоряжении командира не знал офицер Юрий Шамин, который готовился к заступлению на "собачью вахту" с 4 до 8 утра и в тот момент отдыхал. Утром, как обычно, он сыграл побудку. Узнав об этом, командир Иващенко не стал отменять приказ своего офицера. Работы продолжились. Корабль, идя галсами, вновь стал обшаривать дно. И тут "Трефолева" обогнала стая дельфинов, которые в районе форштевня сделали левый поворот. Подобные маневры стая выполнила несколько раз, пока Иващенко, не усмотрев в этом осознанные действия морских животных, не отдал приказ следовать за дельфинами. И почти сразу на глубине 43 метров старшина второй статьи Кириллин, сидевший в наблюдательной камере, увидел фрагменты погибшего самолета. Это было 18 сентября.
А затем началась работа по подъему останков тел и аппаратуры, перечень которой содержался на нескольких листах. На борт "Владимира Трефолева" были подняты останки всех 12 членов экипажа и более чем 300 приборов, деталей и частей самолета.
По завершении работ моряки-североморцы выполнили скорбный ритуал: с воинскими почестями, по большому сбору, в форме первого срока экипаж "Владимира Трефолева" предал останки летчиков водам Атлантического океана. В гарнизоне Кипелово с воинскими почестями хоронили пустые гробы...(чтобы судебно-медицинская экспертиза не нашла следы иностранных пуль, боевых ожогов и ран). После того, когда останки погибшего экипажа и секретное оборудование было поднято на поверхность, останки самолета были разбомблены глубинными бомбами.
В начале 1970х годов экипажи 304 ОДРАП приступили к освоению нового района воздушной разведки в Индийском океане. Начиная с 1971 г. по просьбе гвинейского правительства отряд кораблей ВМФ стал постоянно базироваться в Конакри, где был создан пункт материально-технического обеспечения (ПМТО). В порту Луанда (Ангола) также готовился к развертыванию ПМТО для сил ВМФ, действующих в Восточной Атлантике.
В Индийском океане отрядом судов обеспечения тыла ТОФ было организовано маневренное базирование кораблей оперативной эскадры в Бербере (Сомали).
В феврале 1972 г. достигнута договоренность с гвинейским руководством о кратковременном (до 5-6 суток) пребывании самолётов Ту-95РЦ на аэродроме Конакри (для отдыха лётного состава и осмотра техники) с периодичностью два раза в месяц. Новым шагом в организации боевой службы явилось комбинированное использование аэродромов Кубы и Гвинеи в 1973 г. С них одновременно вылетали навстречу две группы самолетов Ту-95РЦ. Следуя различными маршрутами, они одновременно вскрывали надводную обстановку на значительных по площади районах Атлантики. Главный штаб ВМФ высоко оценивал результаты этих полетов, считая, что они позволяют оценить характер и интенсивность судоходства в этой части океана. Ранее подобной возможности просто не существовало.
Но был и еще один положительный фактор, который не вписывается в рамки сухих, лишенных эмоций отчетов штабов и управлений. Это восторг, испытываемый экипажами советских боевых кораблей, несущих службу вдали от Родины при появлении над ними самолетов с красными звездами! А то "Орионы" да "Орионы"...
Интенсивность разведполётов Ту-95РЦ была настолько высока, что моряки НАТО стали называть самолёт «Восточный экспресс».
Дальние разведывательные самолёты, подобных которым в морской авиации ещё не было, достигали районов, климатические особенности полётов в которых следовало учитывать, чтобы успешно и без потерь решать поставленные задачи.
Климатические и метеорологические условия выполнения полётов самолётами Ту-95РЦ на Тихоокеанском театре оказались весьма разнообразны. Охотское и Японское характеризуются значительной облачностью, в зимнее время она достигает 5-7 баллов, в летнее 8-9 баллов. В летнее время, особенно в южной части Тихого океана нередко встречаются кучевые облака вертикального развития высотой до 13000 м.
Перед полетами над водной поверхностью экипажи тщательно готовились: получали позывные кораблей ВМФ, изучали топографические особенности объектов разведки по планам и фотоснимкам, а также системы их противовоздушной обороны, ТТД ЛА вероятного и главного противника, авианосцев, АПЛ и ПЛАРБ, надводных военных кораблей, судов обеспечения, изучали метеообстановку на маршруте. Скрытности предстоящих полетов уделялось не меньше внимания: радиообмен "маскировался", полеты старались выполнять под нижней кромкой облаков, чтобы самолеты не могла обнаружить из космоса разведка США. Маршруты полетов намечались и прокладывались с таким расчетом, чтобы исключить возможность обнаружения разведчика.
И вот они стоят на бетонке аэродрома — огромные серебристые 100-тонные четырёхмоторные птицы – модификации стратегического бомбардировщика, которые вместо бомб и ракет в фюзеляже несут мощный радиолокационный комплекс, позволяющий обнаруживать надводные и подводные корабли противника на дальности до 450 километров.
Впереди серым бетоном стелется трехкилометровая взлетно-посадочная полоса аэродрома. Экипаж на местах. Слово командиру корабля:
— КОУ, читать карту.
В наушниках шлемофонов всех членов экипажа раздается чуть хрипловатый голос КОУ – командира огневых установок:
— Компасы.
На исполнительном старте чтение контрольной карты, которая на авиационном жаргоне иногда зовется «молитвой», поручается ему, сидящему в хвостовом отсеке самолета и управляющему огнем шести стволов авиационных двадцатитрехмиллиметровых пушек АМ-23.
Густым басом о курсе взлета отвечает штурман корабля:
— 10, на взлет!
И на хрипотцу КОУ: «Курсоглиссадные приборы?», вновь басит:
-Включены.
— Управление передним колесом?.
— На пять, включено. Э
Это уже рапортует с правого кресла помощник командира корабля или «правак». И он же на: «Закрылки», отвечает:
— Двадцать три, на взлет.
— Винты до упора,- хрипит КОУ. –
По команде, – включается борттехник.
На этом миссия КОУ на взлете заканчивается. Прижимая пальцем ларингофон почти к кадыку, он произносит:
— Читать закончил.
И устраивается на сидении поудобнее, упираясь ногами в ожидании, когда инерция при взлете начнет отрывать его, сидящего «задом наперед», от спинки кресла.
Командир запрашивает командно-диспетчерский пункт (в просторечии КДП):
— 22-й, осмотрен по карте, разрешите взлет.
Помощник руководителя полетов, находящийся на поле рядом с ВПП подтверждает, что полоса свободна.
С КДП — голос руководителя полетов:
— Двадцать второй, ветер слева, 40-50 градусов, до 5 метров, взлет разрешаю.
И командир — КДП:
— Взлетаю.
А экипажу:
— Двигатели к взлету, винты на упор!
Воздушное судно взрывается нетерпеливой дрожью в ожидании рывка в небо.
Борттехник из-за спины «правака» докладывает о своей готовности к взлету, и что двигатели работают нормально, винты на упоре.
Командир:
— Экипаж, взлетаю, держать газ, ноги с тормозов.
Застучали под колесами шасси стыки железобетонных плит. Скорость 150. Двигатели работаю нормально. Скорость растет: 180, 210, 250, …
Вот пройден рубеж в 270 километров в час. Взлет продолжается. Штурвал на себя, переднее колесо в отрыв. Нос поднимается. Руки на штурвале чувствуют резко возросшую нагрузку. У командира корабля впечатления такое, что он поднимает самолет в небо на своих руках …
Скорость 310 – отрыв!
Мы на взлёт, мы на взлёт, мы на взлёт — все моторы как буйволы,
И бежит полоса, и уходит земля из — под ног!
Перед нами встаёт безконечное, синее, буйное…
Без чего не прожить, не любить, ни дышать бы не смог…
Раскрученные колеса тормозятся, шасси убирается. Подъем в один метр в секунду до скорости 360 километров в час, а затем по мере нарастания скорости в несколько приемов убрать закрылки, лечь на курс и плавно вверх — за облака…
Взлет самолета, да еще с максимальным взлетным весом дело ответственное, а такого как ТУ-95РЦ и подавно. Можно совершить «подрыв», то есть выйти за критический угол атаки, когда происходит срыв воздушного потока, теряется подъемная сила и катастрофа неминуема. Некоторые летчики про взлет на «девяносто пятом» говаривали: «Это как тигрицу целовать: и страшно, и никакого удовольствия».
А взлетный вес максимальный — под 180 тонн при 90 тоннах керосина в баках.
Старший штурман сидит в полностью застеклённой кабине в носу самолёта и видит перед собой и со всех сторон только небо. Наверное, ему кажется, что он летит сам по себе, ведь огромный самолёт у него за спиной. Он даже не слышит рёва двигателей, они тоже сзади. И весь экипаж сзади, и связан он с ним по внутреннему переговорному устройству.
Летный экипаж самолета состоял из 11 человек. Катапультных кресел на самолете не было, и экипаж в аварийной ситуации покидал машину, летящую со скоростью свыше 700 км/ч, «дедовским способом» — через люки в нижней части фюзеляжа.
В кормовой кабине Ту-95РЦ находились рабочие места двух членов экипажа:
Командира огневых установок и оператора радиоразведки (РР или в обиходе «оператор Вишня» или просто «Вишня»). Расположение мест – на двух уровнях, вход через люк, открывающийся вниз — вперед. Над люком, как бы на втором этаже – рабочее место КОУ; прямо по ходу движения влезающего через люк – место оператора. Оба сидения расположены спиной к направлению полета, операторское крепится к полу кабины, сидение КОУ к бортам кабины, стрелок как бы висит в воздухе на высоте примерно 1,5м от уровня люка или пола. Сидение может перемещаться на рельсах в горизонтальной плоскости, сидение оператора перемещается влево — вправо и вокруг оси (для удобства работы с прицельными станциями).
Кабина как бы разделяется на две части бронешпангоутом с закрепленной на нем аппаратурой. В отсеке КОУ расположены прицельные станции, включая радиолокационную и минимум оборудования для поддержания жизнеобеспечения. Со своего места КОУ может управлять кормовой, верхней и нижней турелями по отдельности или группой. В отсеке оператора находится станция радиоразведки «Вишня», иногда станция «Печора», две прицельные станции в каждом блистере, управление системами герметизации, обогрева, магнитофон «Лира», сумка с переносным бортовым прожектором, сумка с фотоаппаратом. Ну и соответственно – масса разных пультов, кнопок, коробочек, вентилей, кронштейнов и т.д.
Борта и потолок кабины покрыты зеленой тканью типа лавсана, под ней теплоизоляция. Пол у оператора и люк – тонким войлоком.
Эргономика кабин – отвратительная, такое чувство, что многочисленные штучки-дрючки рассовывали абы как – сидишь в переплетении труб, шлангов, кабелей – все наружу, ничего практически никакой обшивкой не прикрыто. Несколько угнетает и утомляет.
Операторы особо благодарили конструкторов за две вещи –
1) тангенту (педаль) СПУ, расположенную прямо под правой ступней (при работе связного оборудования на основном канале тангента служила для выхода в эфир, а не для связи внутри самолета, так что операторов нередко «пороли» за оглашение окрестностей песнями, мнениями об окружающем мире и призывами вроде «инженер, дайте тепла в корму» — человек нечаянно зажимал педальку и в эфир шло все, что он говорил)
2) – кронштейн с кабелями, укрепленный над спинкой (без заголовника) и целящийся прямо в мозжечок сидящего. При аварийном касании земли тюкаешься темечком в острый угол кронштейна и избавляешься от дальнейших мучений.
Все вышесказанное заставляло вырабатывать определенные позы безопасности, особенно при разбеге и посадке – левая нога вытянута и упирается в порожек шпангоута, правая согнута, поднята или отведена в сторону и тоже во что-нибудь упирается, голова склонена влево, руками держишься за трубы подачи воздуха.
Толчки, удары и тряска на взлете/посадке а иногда и при попадании в турбулентность были весьма ощутимы.
Самое приятное в кабине оператора – два огромных блистера, каплеобразных. Сидя на рабочем месте оператора, оказываешься как бы в аквариуме – есть пол и потолок, а стены стеклянные. Обзор – супер, включая вниз, под самолет. Такое чувство полета – дух захватывает. Еще приятное – малочисленность населения и приличная дистанция до ближайшего командира. О расслаблении: у КОУ в полете обязанностей минимум – закрыть и загерметизировать люк, зачитывать «карты», наблюдать за воздушной обстановкой, докладывать периодически командиру, что в корме все спокойно (иногда даже не удосужившись проверить, на месте ли оператор). При перехвате иноземными самолетами или при облете кораблей для КОУ придумали забаву – карандашиком зарисовывать вражеские аппараты и всякие на них обозначения. Большую часть полета КОУ проводили или в спячке или в болтании ногами. Иногда от скуки сползали со своего насеста, усаживались на люк перед оператором «Вишни» и пытались вести беседы, или устраивали обеды.
Самая ценная функция КОУ – промаячить «Вишне», погруженному в прослушивание эфира (и отключившемуся от экипажа), что его хочет командир, штурман, оператор РТР или бортинженер.
Часто стрелки упрашивали командиров и бортинженеров разрешить по — полной развлечься с вверенным им хозяйством – повертеть пушками, поработать с радиолокационным прицелом.
Оператор же, как правило, был загружен весьма сильно. После нормального полета на БС (до 17,5 часов, 16 ч – в среднем) руки висели — как плети, глаза – как у рака, в ушах – пробки. Станция «Вишня» располагалась перед лицом оператора, крепилась к потолку и шпангоуту. Для работы с ней приходилось задирать голову и держать руки в позе богомола. Через 5-10 минут они просто падают.
Можно опереться локтями на идущие справа/слева трубы, но тогда пальцы не достают до всех рычажков, да и локти соскальзывают. Выручал матерчатый ремень (обычно от летнего комбеза), привязывали его к трубам, устраивая люльку для локтей.
Глаза через полчаса работы со станцией автоматически начинали бегать вслед за засветками на экране, громкость приходилось постоянно увеличивать – ну, понятно, ухо привыкает к уровню звука и требует его увеличения. К концу полета громкость вывернута на полную, руками вжимаешь лопухи шлемофона…
Воинский долг на Ту-95РЦ исполнялся советским экипажем не только в сложных полетных условиях часто в сопровождении в опасной близости перехватчиков супостата, но и в сложных бытовых условиях на борту.
Длительность полета могла достигать 23 часов. Ели и пили члены команды продукты из бортпайка. Худо — бедно питание потребности соответствовало. А вот, так сказать, процесс обратный питанию конструкторами самолета был решен примитивно на уровне «удобства тут же». Романтика неба частично разбивалась о быт.
Многие летчики о боевых самолетах конструкторского бюро Туполева говорили, что, когда там разрабатывали новый самолет, то сначала рисовали летательный аппарат, компоновали двигатель, вооружение, оборудование, а потом топором вырубали места для членов экипажа.
Для малой нужды каждому члену экипажа выдавались сосуды, похожие на термос, емкостью в один литр. А большую естественную потребность удовлетворять в полете предписывалось самым примитивным образом — в парашу. В кормовой кабине оператору радиоразведки, сидевшему между прозрачными блистерами, расположенными по обоим бортам, такую нужду приходилось бы оправлять на виду у перехватчиков противника. Как вспоминают операторы, одно только представление такой картины напрочь отбивало охоту и заставляло терпеть до дома.
Предвидя подобные трудности в полете, экипаж Ту-95РЦ перед тем как занять места в кабинах, естественно, облегчался по малой нужде на летном поле. Отдельные личности проявляли неуважение к боевой машине и старались это совершить на колесо.
Многие почитали такое действие просто святотатством, а один из заместителей командира ОДРАП, если увидит какого-нибудь прапорщика за сим греховным занятием, то в полку считалось, что таковой прапорщик может застрелиться или увольняться из армии. Гнев замкомполка был ужасен.
Летчики народ творческий и частенько стихи пишущий. И однажды над Атлантикой в открытом эфире этот замкомполка спросил своего ведомого, может ли тот от скуки выдать стишок?
И минуты через три с высоты 10 тысяч метров в радиусе триста – триста пятьдесят километров любой «противник» мог услышать в эфире не совсем приличное, но очень патриотическое:
«Мой девиз: Не с…ть под самолетом,
По большому не ходить в штаны».
Только так добьемся мы чего-то,
Если перестанем с…ть в масштабе всей страны.
И нужно сказать, что сами летчики совершали полеты на пределе дальности для самолета и физических возможностей человека.
На подходе к Гвинее над океаном попали в мощный тропический фронт. Стихию было не обойти ни по фронту, ни по высоте. Командир принял решение: пересекать. С ведомым экипажем разошлись. И влетели в самую «кухню погоды». Самолет трясло, как в лихорадке, ломало в воздушных течениях, было темно, как ночью и, сменяя друг друга, то дождь, то град лупили изо всех сил по кабине. Держали самолет вдвоем – командир и правак.
Приподняли нос бомбардировщика, и самолет стал набирать высоту. Но от сильной перегрузки остановились все четыре двигателя. Самолет перешел в безпорядочное падение. Командир побелел, потом нашелся и крикнул: "Леша, запускай!" Бортинженер стал запускать двигатели. Ничего не получилось.
Неуправляемый самолет падал. Бортинженер увидел, как очумелый от страха стрелок-радист тянется к гашетке аварийного покидания самолета. Она находится на приборной панели между командиром и правым летчиком. Если ее из левого положения перевести в крайнее правое, то пиропатроны отстрелят люк внутрь самолета, потом начнет двигаться по направлению к открытому люку эскалатор. Летчики должны вывалиться в проход со своего места, вцепиться в эскалатор, после чего они будут доставлены к выходу. А там — выкарабкивайся из самолета, как можешь. Неэффективная система спасения. Тем более, что на то место, куда должна отстрелиться крышка люка, была установлена аппаратура радиопомех рядом с которой сидел оператор.
Если пиропатроны люка сработают, то крышка люка убьет оператора. Потом крышку заклинит, и никто не спасется.
Давление в кабине аварийно падало. Уши заложило, по переговорному устройству связь держать стало невозможно. Бортинженер продолжил попытки запустить двигатели. Но ничего не получалось. На случай полной остановки двигателей в полете не было никакой инструкции. Самолет падал 9 километров. Наконец, на высоте 3000 метров бортинженер запустил один двигатель, прогрел и разрешил командиру нагрузить его. Командир стал управлять самолетом. Бомбардировщик перестал падать и перешел в плохо управляемый полет со снижением. На высоте 1500 метров инженеру удалось запустить второй двигатель на той же плоскости. Потом ожили и другие два двигателя. Но беда одна не ходит…
Из грозы вырваться не удавалось. Вокруг самолёта бушевало пушистое пламя огней святого Эльма. Весь экипаж замер от ожидания чего – то непоправимого. И оно случилось. Молния ударила в киль самолёта. Страшный треск и грохот стоял в ушах. Потом всё стихло. Самолёт потерял практически все генераторы. Но силовая установка работала, а аккумуляторы давали скудную пищу оставленным включёнными немногим приборам.
Остаток киля всё-таки не дал машине опрокинуться в гибельный штопор. Командир осторожно набирал высоту, разворачивая самолёт на север. Запасы электроэнергии быстро таяли. Радиооборудование вышло из строя, связи с базовым аэродромом и ведомым экипажем установить не удалось. Прожорливую радиолокацию даже не пытались включить. Командир продолжал набирать спасительную высоту. «Шмель» во — всю старался ему помочь, отчаянно молотя воздух всеми своими винтами. Ровный рёв турбин вселял надежду, что они, родимые, не скиснут посреди океана и донесут экипаж домой…
Наконец вышли из грозы. Солнце заиграло весёлыми зайчиками на остеклениях кабин. Внизу, на сколько хватало глаз, синел океан. Совершенно пустой. Ни кораблей, ни островов…
Высота 12 километров. Скорость оптимальная для экономии топлива. Началось долгое висение в нежно — голубом пространстве.
В корме, для поддержания нескисающего настроения «Вишня» травил байку:
«Обычная средняя школа. По каким-то причинам длительное время будет отсутствовать учитель истории. Чтобы не срывать учебный процесс, принято решение о том, что вести его уроки будут другие преподаватели. Первому провести урок истории выпало преподавателю начальной военной подготовки, полковнику запаса, в прошлом военному лётчику и специалисту по расследованию авиационных происшествий. Вот входит он в класс.
— При входе старшего по званию в помещение подаётся команда «смирно»!
— Вот так, теперь нормально, вольно. Садитесь.
— Ваш преподаватель отсутствует по объективным причинам, и сегодняшний урок истории проведу я. Тема нашего занятия...
Полковник спешно пролистывает журнал с планами занятий.
— Ага, мифология древней Греции… Прекрасно!
— Ну, кто нас просветит по этому вопросу...
Полковник надел очки, пять минут изучает классный журнал. Затем со вздохом отодвигает его в сторону и принимается изучать класс. Расплывается в улыбке, заметив ученика, тянущего руку.
— Вот вы, молодой человек, что вы хотите донести до нашего сведенья?
Ученик пытается начать отвечать, но полковник с досадой обрывает его.
— Военно..., курса..., простите, учащийся, прежде чем давать ответ, должен назвать свою фамилию.
Ученик вскакивает, замирает по команде смирно, называет свою фамилию и чётким, строевым шагом выходит к доске.
— Ведь можете, когда захотите, — удовлетворённо произнёс полковник, — Слушаю вас.
Тем же чётким, внятным голосом, ученик пересказывает миф о Дедале и Икаре. Полковник слушает с неподдельным интересом.
— Как, и это всё? — по окончанию ответа ученика воскликнул он.
— Что значит, это всё, что было в учебнике, ну-ка, дайте мне его сюда!
Открыв учебник на нужной странице, полковник сначала бегло её прочитывает, затем, хмыкнув, принимается изучать более внимательно, заглядывает на следующие страницы, перечитывает оглавление, и, потратив на это дело четверть урока, с досадой отодвигает от себя учебник.
— Ну что взять с этих историков! Тяжелейшее авиационное происшествие с гибелью лётного состава и всего пару строчек! Гуманитарии, одним словом.
— Ах да, вы садитесь, пять, — полковник вспомнил о стоящем у доски ученике,
-Материал вы знаете на "хорошо", но за строевую выправку увеличиваю балл.
— А мы с вами, — обратился он к классу, — сейчас подробно разберём этот случай, ликвидируем, так сказать, пробелы в вашем образовании.
Полковник расхаживал взад вперёд вдоль доски. Он явно был сейчас в своей тарелке.
— Итак, что нам известно? Во время перелёта по маршруту остров Крит, и по непроверенным данным, остров Сицилия, — полковник нарисовал на доске два кружочка и прочертил между ними линию, — Произошло авиационное происшествие, по степени тяжести именуемое катастрофой.
— Суть в следующем: ведомый Икар проявил акт воздушного хулиганства, самовольно изменил режим и профиль полёта. В результате чего термическое воздействие на летательный аппарат превысило установленные ограничения, что стало причиной ослабевания его конструкции, ну и далее разрушения. Разрушенный аппарат столкнулся с водной поверхностью, пилот Икар погиб.
— Ведущий Дедал дальнейший полёт по заданному маршруту прекратил и произвёл вынужденную посадку на первую подходящую площадку, то бишь остров, название которого история не сохранила.
— Но, — полковник вновь обратился к классу, — Нас интересует, были ли ещё какие нарушения лётной работы, прямо, или косвенно способствовавшие развитию аварийной ситуации?
— Если вы вдумчиво прочитаете документ, — полковник кивнул на учебник, — то найдёте немало.
— Первое, — полковник загнул палец, — Вылет не был санкционирован царём Миносом, а это уже само по себе преступление.
— Второе, подготовка Икара была явно недостаточной и велась с нарушениями. Дедал сосредоточился исключительно на лётной практике и упустил теоретическую подготовку.
— Третье, не отрабатывались действия в особых случаях.
— Четвёртое, я не нашёл упоминаний об статических испытаниях летательного аппарата Дедала, не говоря уже о его сертификации по нормам лётной годности ИКАО.
— Пятое, полёт осуществлялся при отсутствии на борту спасательных средств.
— Шестое, руководство группой в ходе перелёта было неудовлетворительным. По сути, ведущий Дедал от своих обязанностей самоустранился и только пассивно наблюдал за эволюциями ведомого Икара.
— Вы что-то хотите сказать, молодой человек? — полковник заметил ученика, отчаянного тянувшего руку.
— Что вы говорите? Перегрев — ошибочная версия? Да-да, с поднятием на высоту температура падает...
— А вы умеете видеть и думать, юноша, — одобрительно сказал полковник, — Я этот факт упустил, похоже, здесь мы имеем дело с сокрытием реальных обстоятельств катастрофы...
— Как ваша фамилия? Ставлю вам твёрдую пять! — полковник наклонился над журналом. Я надеюсь, что вы, молодой человек, скажете своё слово в истории расследования авиационных происшествий.
Звонок сообщил об окончании урока.»
Дружный хохот подсказал сказочнику, что цель достигнута, полморсос восстановлен до нужного уровня. Полёт продолжался. Шли самым коротким путём к советской территории. Связи по – прежнему не было. Гирокомпас скис. Летели, как выразился командир: «по пачке «Беломора»».
Облачность закрыла солнце. Опять затрясло в кучёвках, выросших вверх до 13 вёрст. Инженер по команде выключил все потребители, кроме самых необходимых. Плотность электролита близилась к плотности воды…
Штурман нервно ёрзал в своей кабине. По его расчётам уже началась территория СССР, а командир и не думает снижаться. Он вылез со своего места и очутился возле командира. На немой вопрос: «Где мы?» полушутя ответил: «В самолёте. А если серьёзно, то пора менять эшелон. Под нами уже Союз. Родные небеса.»
Небеса принимают нас другами,
Но бывает, оскалятся так, чернотою насев,
Всё хохочут дождём, и сверкнут смертоносными дугами,
Мы в холодном поту, но штурвал от себя к полосе… к полосе!
Экипаж это импульс, и пульс как всегда — до нормального,
Солнце днём по глазам, ночью месяца медный карниз.
Небеса небесами, летай — не летай, но земляне мы –
Наше тело с душой и мозгами всё тянется вниз!
А земля хоть и пухом, но твёрдая,
Это ты понимаешь, долбя её чёрствой киркой.
Да не встретиться с ней самолётной железною мордою –
Лучше мягко сойти, и дотронуться нежно рукой… нежно рукой!
Командир проткнул облачность на восьмистах метрах. Внизу лежала тайга, прорезанная на счастье экипажа железной дорогой. За эту нить Ариадны командир уцепился мёртвой хваткой. Самолёт выписывал в небе все изгибы посланного им судьбой королевского пути. Вдруг промелькнула станция. Штурман тут же попросил командира передать экипажу, что бы все читали название. Самолёт пошёл на второй заход и снизился до ста метров. Оглушительно ревя четырьмя турбинами, «мохнатый» прошёл над станцией вторично. КОУ доложил, что видел название на белом фоне над дверью. Первая буква «Б». Командир пообещал ящик коньяку тому, кто успеет прочитать злосчастную надпись. Самолёт на пятидесятиметровой высоте вновь появился над станционной халабудой, из которой уже начали разбегаться люди.
— На станции – паника.
Доклад «Вишни» командир прервал грозно:
— Доложите, что прочитали!
— Первая «Б», пять букв…
— Я тебя, на тросе кола заземления повешу, когда сядем…
На ПЯТОМ заходе, когда на станции уже никого не осталось, кроме чемоданов незадачливых пассажиров, «Вишня» торжествующе сообщил:
— Вешайте, товарищ командир. «БУФЕТ» там написано!
— ____________________!!!!!
Восстановив ориентировку над следующей станцией, где услужливый натренированный «Вишня» прочитал название уже с ТРЕТЬЕГО пятидесятиметрового захода, командир несколько успокоился. Топлива до известного запасного аэродрома должно было хватить. Впритык. На один заход. Тут скисла четвёртая турбина.
— Четвёртый во флюгере!
Это инженер. Он очень обрадован, что задымивший было двигатель не угостил экипаж огоньком.
— Штурман, сколько до полосы?
— Дотянуть можно, наверное…
Командир вцепился короткопалыми волосатыми клешнями в штурвал. Правак безысходно молчал, гоняя желваки. Турбины дожирали остатки топлива. Тайга не кончалась. Натягивало плотный туман.
Ну, давай, ну давай,
Ну, давай, командир, доворачивай!
Нас болтает налево направо — внизу полоса…
Ну, давай, командир, доворачивай, ты же удачливей…
Ты её подтяни, ты коснись, я нажму тормоза!
А земля… самобранною скатертью,
Если падаешь камнем, её не подвинуть рукой!
Помню, взял я комочек сырой, и сказал словно матери:
Ты же помнишь, какой он был парень, и лётчик какой!
Так давай, так давай, так давай, командир, доворачивай!
Нас болтает налево – направо, внизу полоса…
Ну, давай, командир, доворачивай, ты же удачливей…
Ты её подтяни, ты коснись, я нажму тормоза!
Бомбардировщик зарулил на стоянку, турбины остановились. На экипаж навалилась мощная расслабуха. Никто не мог пошевелить даже пальцем. Не было сил встать с кресел. Самолет окружили пожарные машины, скорая помощь. Все стояли около самолета и ждали, когда появится экипаж. Близко к самолету никто не подходил — это опасно: может убить током. На обшивке самолета от трения металла о воздух образуется статическое электричество высокого напряжения, которое можно снять с самолета только тросиком заземления, а он должен выбрасывается экипажем.
Наконец командир корабля сказал: "Леня, выходи..." Бортинженер ответил: "Не могу встать, Володя..." Тогда командир сказал: "Приказываю выходить!" Инженер — человек военный, а приказ есть приказ. Он открыл люк, выбросил заземление, спустил вниз лестницу.
На КДП запасного аэродрома командир прижал к уху чёрный эбонит казённого телефона. Ответил дежурный по их родному аэродрому. На вопрос, где командир полка, тот уклончиво ответил, что в Доме офицеров.
— Что за мероприятие у вас там?
— Да вот, поминки…
— А по кому?
— Ваш экипаж поминают…
-_____________!!!!!
-Я сейчас доложу…
— Так. Скажи, что нормально сели на запасном. Киль разбит вдребезги молнией, четвёртый полностью сдох, почти до пожара. Всё радиооборудование – в хлам. Пусть пришлют борт побыстрее. У меня всё.
Прошло много лет. Лётчики самолётов – разведчиков дальней авиации давно на пенсии. Они с грустью вспоминают о погибших товарищах, об Африке, прекрасной Кубе, Вьетнаме, где было все так интересно и необычно, об ушедшей молодости и о том, что им уже никогда не придется встретиться с друзьями, распыленными слепым случаем по закоулкам раздробленного на осколки отечества.
Последний полет Ту-95РЦ на авиабазе Хороль был выполнен 24.06.1993 г 1.12.1993г. 141 МРАП и 304 ОДРАП были расформированы, авиационная техника полков (самолеты Ту-95РЦ и различные модификации Ту-16) была передана в 3723 авиационную базу хранения резерва самолетов, утилизации авиационной техники и вооружения ВВС ТОФ. Часть личного состава, вооружения и техники, гвардейский титул 141 МРАП были переданы в 568 МРАП.
В лихие 90-е МО просто бросило спецобъект. Теперь в Хороле появилась новая традиция: молодожены должны обязательно проехать на машине по огромной ВПП брошенного аэродрома. Был и план возрождения объекта силами гражданских ведомств и частных лиц, но аэродром до сих пор числится за МО, которое не отдает его никому. Сегодня на территории фактически брошенного аэродрома Хороль функционирует 76 авиационная комендатура морской авиации Тихоокеанского Флота.
Источники:
1. Газета "Совершенно секретно", "Пролетая над Фолклендами", Олег Дзюба, № 9 (208) за сентябрь 1996 г.
2. "Подъем со дна океана", издание "Мурманский Вестник", выпуск № 20 от 5 февраля 2005 г.
3. "Воздушный транспорт № 2 ", "На грабли наступают не только в российской авиации", Валентин Дудин, заслуженный военный штурман СССР.
4. "Авиапанорама", "Не скажут ни камень, ни крест, где легли"., Валентин Дудин, 30.11.96 г.,
5. "Авиация непосредственной поддержки сухопутных войск"., Майкл Тейлор, М. Изд-во ЭКСМО — Пресс, 2000 г.
6. "Спецслужбы США"., Пыхалов И.В., СПб., "Издательский Дом "Нева"";"ОЛМА-ПРЕСС",2002 г.
7. "Туполев Ту-95"., С.Мороз, Киев, "Архив-пресс",1999 г.
8. "Авианосцы", том 2., Норман Полмар, М,"АСТ", 2001 г.
9. "Мир Авиации", № 2, октябрь 1995 г., "Горячее небо "холодной войны"", Александр Котлобовский (Киев), Игорь Сеидов (Ашхабад).
10. "Обреченные на подвиг." В.Решетников, М., Эксмо, "Яуза", 2007 г.
11. "Дальняя Авиация. Первые 90 лет.", В.Михеев, В.Котельников, В.Раткин, "Полигон-Пресс",2005 г;
12. "Империализм: шпионаж в Европе вчера и сегодня.", Юлиус Мадер, М.: Политиздат,1984г.
13. "Комната 3603. Рассказ о деятельности английского разведцентра"., Хайд М., "Международные отношения", 1967 г.
14. "Катастрофа над Японским морем", "Челябинский рабочий", Анатолий Летягин, 12.03.2003 г.
15. "Тайны подводного шпионажа"., Е.А.Байков, Г.Л.Зыков, М., "Вече", 2002 г., серия "Особый архив".
16. Документальный фильм "Загруженные смертью"., серия № 14, студия " Red Stars /Красные Звёзды","Авиафильм", автор сценария и главный режиссер А.Нестеров, автор идеи и продюсер В. Савин,1997 г.
17. Документальный фильм "Битва над океаном"., РТР, студия "Крылья России", режиссер — постановщик Александр Славин, 2004 г.
18. Документальный фильм "Сбит над Советским Союзом"., "ZDF" (Германия), режиссер Дирк Полманн, 2003 г.
19. Документальный фильм "Кровь авиации"., сериал "Ударная сила", серия № 114, телекомпания "Останкино", автор, продюсер и ведущий программы Александр Ильин ,2007 г.
20. Документальный фильм "Морская авиация — На службе флота"., студия "Крылья России", режиссер Андрей Кулясов, 2007 г.
21. Документальный сериал "Крылья над миром". Режиссеры: Ричард Тодд, Стэнли Хичкок, США, 1999 г.,
22. Художественный фильм "Случай в квадрате 36-80"., киностудия "Мосфильм", режиссер Михаил Туманишвили, 1982 г .
23. Художественный фильм "Железный орёл-2", США, режиссёр: Сидни Дж. Фьюри, 1988 г.
26. www.odrap.ru/
27. www.avia.ru/
28. www.airwar.ru/enc/spy/rc135e.html
29. nvo.ng.ru/
30. rc135.com
31. pentagonus.ru/publ/17-1-0-855
32. Записки бывшего штурмана 392 ОДРАП Василия Шиловского.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.