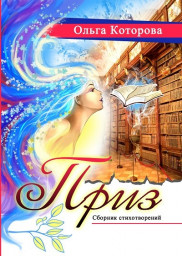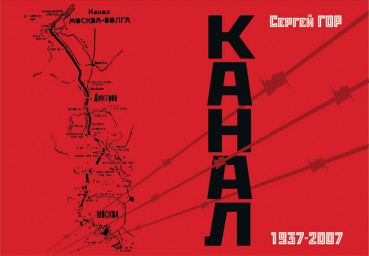Тяжёлый жезл маршала Ерёменко
Если уважаемым читателям доводилось бывать на книжных рынках столицы, и они не оставались равнодушны к славному боевому прошлому нашей страны, то наверняка бросалось в глаза большое количество книг о полководцах Великой Отечественной войны, изданных к 70-и летию Победы. Сталин, Шапошников, Рокоссовский, Василевский, Конев, и даже Тимошенко с Мерецковым, не говоря уже о Жукове, оказались представлены в литературных трудах писателей — документалистов достаточно полно. Но не ищите среди этого разнообразия книгу о маршале А.И. Ерёменко. Таковой нет. Есть только работы самого Андрея Ивановича, включая его военные дневники. И ситуация эта в данном сегменте информационного поля далеко не случайна. Чем же не угодил Андрей Иванович хозяевам PR-пространства?
Здесь необходимо понять, что главной фигурой, активно ненавидимой некоторой частью властьимущих, является безусловно Иосиф Виссарионович Сталин, ясность «вины» которого безусловно очевидна. Именно товарищ Сталин превратил коммунизм Мордехая Леви (К. Маркс) из оружия разрушения России и её государственности в оружие консолидации русского государственного ядра и сплочения ещё здоровых защитных сил русского и других славянских народов против транснационального антихриста, персонифицируемого в те уже далёкие времена бандой Шикельгрубера. (А. Гитлер) Преемственная линия от родоначальников русской смуты здесь вполне ясна, ибо вышибленный из СССР Бронштейн, с конца тридцатых числился «почётным арийцем».
Поношения и дискредитация товарища Сталина, начатые Перлмуттером (Н. Хрущёв) на ХХ съезде капээсэсихи (КПСС – организация изменников родины в 1956-1991 годах) не привели к желаемому результату даже в наши дни. Скорее наоборот, образ Сталина засиял на фоне затеянной пигмеями кампании десталинизации сильнее и сильнее с каждым прожитым нами годом. Не по зубам он оказался этим картавым карликам.
А вот на Андрее Ивановиче Ерёменко можно было отыграться. Даже в гнилую оттепель, когда Ерёменко получил звание маршала, имя полководца замалчивалось, фотографии публиковались крайне редко. Политработники, бывшие в 1941 году членами военного совета фронта, припомнили, как тяжёлый кулак Андрея Ивановича проходил, и не раз, по их поганым мордам. А возведённый в ранг великого полководца маршал Жуков писал о своём коллеге так: «Еременко в войсках не любили за глупость и чванство». (Больше ни один человек на страницах мемуаров Георгия Константиновича им оскорблен не был.)
Виной всему явилось следующее. Андрей Иванович ДВА РАЗА не дал участникам военно – фашистского заговора Тухачевского сдать СССР Шикельгруберу. Сегодня, опираясь на работы Арсена Бениковича Мартиросяна наличие заговора в Красной Армии к июню 1941 года можно считать доказанным.
Сталин инициировал тщательное расследование причин трагедии 22 июня 1941 года, которое он в глубокой тайне вёл еще в начале войны, и которое в принципе-то никогда не прекращалось — просто на некоторое время активность разбирательства была снижена.
К концу 1952 года Сталин практически завершил это расследование — уже был завершен опрос оставшихся в живых генералов, командовавших частями в западных приграничных округах накануне войны. И это очень сильно встревожило высший генералитет и маршалитет. Особенно того же Жукова. Не случайно же они так резво переметнулись на сторону Хрущёва и чуть позже помогли ему осуществить государственный переворот 26 июня 1953 года.
Смертоносная убойность материалов этого расследования для генералитета и маршалитета была велика. В 1989 году знаменитое издание «Военно-исторический журнал» начал печатать некоторые материалы этого расследования, в частности, результаты проведенного Сталиным опроса генералов — когда они получили предупреждение о нападении Германии. Кстати говоря, все показали, что 18-19 июня, и только генералы Западного Особого военного округа черным по белому написали, что никаких указаний на этот счет не получали, а некоторые и вовсе узнали о войне из речи Молотова. Так вот, едва началась публикация, как тут же редакции «ВИЖ» так дали по рукам, что печатание материалов немедленно было прекращено.
Выходит, что даже тогда эти материалы были опасны для генералитета и маршалитета. Не публикуют их полностью и до сих пор. Следовательно, они по-прежнему представляют угрозу. Впрочем, и для властей тоже, потому как публикация этих материалов в полном объеме вызовет термоядерный взрыв во всей исторической науке, ибо перевернет буквально все и придется на коленях просить прощения перед могилой Сталина за всю клевету и грязь, которые на него обрушили после 5 марта 1953 года.
Результаты деятельности на поприще игры в поддавки с Вермахтом Наркома обороны Тимошенко, Начальника Генштаба Жукова, Командующего ЗапОВО Павлова впечатляют. На ШЕСТОЙ день войны сдан Минск, уничтожена почти вся наша фронтовая авиация, связи нет, Западный Фронт отходит в безпорядке, местами бежит, бросая оружие и технику…
На фоне такого военного поражения заговорщики надеялись убрать товарища Сталина, как наиболее опасного врага, а потом, получив от Шикельгрубера свои серебряники, прозябать в синекуре функционеров третьего рейха в порабощённой России. Власов явился наиболее характерным воплощением их мечты, сбывшейся, правда, только в девяностых годах прошлого века во времена меченого дьяволом ставропольского мерзавца (имени его не хочу ставить в эту книжку).
Сталин уже утром 22 июня, судя по всему, заподозрил неладное именно на Западном Фронте, потому, что в 7 часов утра он звонил первому секретарю ЦК КП (б) Белоруссии Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко и заявил ему, что поскольку получаемая от военных информация его не удовлетворяет, потребовал от него начать сбор сведений о положении противника через местные партийные органы. (В сб. Великая Отечественная катастрофа. 1941 год. Причины трагедии. М., 2007, с. 174-175.)
Жуков, как начальник Генерального Штаба отвечал за связь, за получение этой самой информации, которую Сталин вынужден был искать через Пономаренко. Известие о взятии немцами Минска Сталин получил из сообщения английского радио, а не от Жукова и Тимошенко из Наркомата обороны. Следовательно, Тимошенко и Жуков намеренно скрывали информацию от руководства страны о ситуации на Западном Фронте. Согласитесь, что сокрытие информации — это уже есть должностное преступление. По свидетельству А.И. Микояна (Микоян А.И. Так было. — М.: Вагриус, 1999, — 612 с.), 29 июня вечером у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, Микоян и Берия. В связи с тяжёлым положением Западного Фронта Сталин позвонил в Наркомат обороны Тимошенко, но тот ничего путного о положении на Западном направлении сказать не смог. Встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем поехать в Наркомат обороны и на месте разобраться с обстановкой. В Наркомате Сталин держался очень спокойно, спрашивал, где командование Западным Особым военным округом, какая имеется связь. Жуков докладывал, что связь потеряна и за весь день восстановить ее не могли. Затем Сталин спрашивал о том, почему допустили прорыв немцев, какие меры приняты к налаживанию связи и так далее. Жуков ответил, какие меры приняты, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает. Около получаса говорили довольно спокойно, но выяснив всё его интересовавшее, Сталин подвёл итог: что за Генеральный штаб, что за начальник Штаба, который так растерялся, что не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует, раз нет связи, Штаб безсилен руководить. Трепещущий от липкого смертельного страха разоблачения своих грязных дел Жуков выбежал в другую комнату и, по словам Микояна, «буквально разрыдался». Из посещения Наркомата обороны Сталину стало ясно, что Тимошенко и Жуков подмяли всех под себя, отказываясь предоставлять какую-либо правдивую информацию о событиях на Западном Фронте.
Андрей Иванович Ерёменко так отзывался о Жукове (Военный дневник // (ВИЖ). 1994. № 5. С. 19-20 / Запись от 19 января 1943 года): «Жуков, этот узурпатор и грубиян, относился ко мне очень плохо, просто не по-человечески. Он всех топтал на своем пути, но мне доставалось больше других. Не мог мне простить, что я нет-нет, да и скажу о его недостатках в ЦК или Верховному Главнокомандующему. Я обязан был это сделать, как командующий войсками, отвечающий за порученный участок работы, и как коммунист. Мне от Жукова за это попадало. Я с товарищем Жуковым уже работал, знаю его как облупленного. Это человек страшный и недалекий. Высшей марки карьерист… Следует сказать, что жуковское оперативное искусство — это превосходство в силах в 5- 6 раз, иначе он не будет браться за дело, он не умеет воевать не количеством, и на крови строит себе карьеру…
Мы знаем, что Жуков приезжал под Сталинград (в Сталинграде он не был, там стреляли) и сидел с Маленковым в отрытом для них блиндаже в 30 км севернее Сталинграда и оттуда пытался нам помогать. Он хотел помочь нам, он имел прямые указания от Сталина, но у него ничего не вышло, а то единственное решение, которое он принял, принесло большой вред. Он завернул к себе все резервы, которые шли в Сталинград, это нам стоило очень дорого, мы из-за этого отдали врагу Тракторный завод.»
Командующий ЗапОВО Д.Г. Павлов и его подельники, саботируя Директивы НКО и ГШ о приведении в повышенную боевую готовность войск округа после 10 июня продолжали заниматься ослаблением готовности войск. Это выразилось в отсутствии горючего в округе, размещении авиации на самой границе, удержании в Бресте трех дивизий и ещё нескольких частей, которые, согласно «Планов обороны» округа, и тем более после Директив и приказов Москвы от 11–18 июня, должны были уйти из города и занять оборону вокруг него. Именно ослаблением готовности войск занимался Павлов, устраивая «плановые показательные» учения на артполигоне под Брестом 22 июня, располагая там бронетехнику брестских дивизий, как на выставке.
Ослаблением боевой готовности является отмена 21 июня приказа ГШ о приведении авиачастей в боевую готовность с 20 июня. Ослаблением мобготовности является и то, что Павлов после получения Директив НКО и ГШ от 11–18 июня не вернул в части артиллерию округа с приграничных полигонов, а зенитная осталась под Минском (в 500 км от границы). Более того, Павлов отправлял артиллерию округа на «стрельбы» в том числе и после 15 июня – рапорт начальника контрразведки 10-й армии уже неоднократно приводился: «…по распоряжению штаба округа с 15 июня все артиллерийские полки дивизий, корпусов и артполки РГК были собраны в лагеря в двух местах: Червонный Бор (между Ломжей и Замбровом) – 22 полка 10-й армии и в Обуз-Лесном – артполки тыловых дивизий армии и других частей округа…».
Самая важная фраза в обвинительном заключении изменника: «Павлов… не готовил к военным действиям вверенный ему командный состав, ослабляя мобилизационную готовность войск округа…». Для командира его уровня «ослабление мобилизационной готовности войск» и есть самое большое преступление, его вполне достаточно для расстрела. Важно также, что «ослабления мобилизационной готовности» вполне достаточно, чтобы напавший враг смог беспрепятственно разгромить обороняющихся.
Генерал-лейтенант С.Ф. Долгушин (Как и почему погибла авиация 11 САД под Гродно):
«Впрочем, многое и до этого дня делалось, будто по заказу (немцев): — начат ремонт базового аэродрома в г. Лида, — не были подготовлены запасные площадки…, — было уменьшено число мотористов и оружейников до одного на звено. Мало того, что Тимошенко в декабре 1940 г. перевел нас на положение как солдат, так еще и сняли с самолёта оружейника и моториста!
Перед самым нападением, днем 21 июня в полку побывал командующий ЗапОВО Д.Г. Павлов и командующий ВВС ЗапОВО И.И. Копец. Я лично докладывал данные разведывательного полета к границе, возле которой находился немецкий аэродром, на котором вместо 30 (примерно) самолетов Ме-110, насчитал до 200-т боевых самолетов различных типов.
Закончили мы полёты примерно в 18 часов 21 июня. Часов в 19 нас разоружили – поступила команда: «СНЯТЬ С САМОЛЕТОВ оружие и боеприпасы» Мы все думаем: зачем же?! За ужином мы обменивались мнениями – все были до того возмущённые злые: как это так – сначала мы вылетали на перехват имея всё оружие лишь на одну перезарядку, а дальше – в такое тревожное и какое-то неприятное время, у нас вообще отняли оружие, у истребителей! И мы спросили: «Почему сняли оружие?! Кто такой идиотский приказ издал?!»
Я даже к командиру полка Емельяненко обратился. А он разъяснил командирам эскадрилий: «Приказ командующего» (ЗапОВО Д.Г.Павлова).
Оружие сняли, а в 2.30 раздается сигнал – тревога… И в момент налета немецкой авиации летчики вместо «сокращенных» Тимошенко оружейников занимались установкой пушек и пулеметов на истребители.»
Понимал ли Павлов, за что его судят? Конечно, вполне понимал и отдавал себе отчет в том, что он сделал: «благодаря своей бездеятельности я совершил преступления, которые привели к поражению Западного фронта и большим потерям в людях и материальной части, а также и к прорыву фронта, чем поставил под угрозу дальнейшее развертывание войны».
Как было сказано в одном из вопросов в первом же протоколе – «Если основные части округа к военным действиям были подготовлены, распоряжение о выступлении вы получили вовремя, значит, глубокий прорыв немецких войск на советскую территорию можно отнести лишь на счет ваших преступных действий как командующего фронтом»…
Павлова пытались «отмазать», хотя вопрос об отстранении Павлова был поднят по некоторым данным уже 25-26 июня! Вот что пишет историк А. Мартиросян в своей книге «22 июня: Блицкриг предательства» (М., 2012 г.):
«Ворошилов, который в начале войны по указанию Сталина прибыл на Западный фронт, чтобы отстранить Павлова от должности и под охраной отправить в Москву, вместо того, чтобы уже 27 июня исполнить это указание, пустился в неуместные рассуждения о том, что-де не надо арестовывать Павлова. И даже накатал телеграмму в адрес Сталина, в которой предлагал всего лишь отстранить Павлова от командования фронтом и назначить его командиром танковой группы, сформированной из отходящих частей в районе Гомель-Рогачев. (Сыромятников Б. Трагедия СМЕРШа. Откровения офицера-контрразведчика. М., 2009, с. 209.)
К концу июня 1941 года Сталину стало ясно, что Западный Фронт неуправляемо бежит, и надо срочно переламывать ход событий. 30 июня был образован ГКО, который возглавил Сталин. Прямо на первом же его заседании было принято решение об отстранении Павлова от командования Западным Фронтом, замене его генерал-лейтенантом А.И Еременко. Генерал был на примете у вождя после штабных игр на картах в Генеральном Штабе, проводившихся в начале сороковых. Андрея Ивановича срочно вызвали аж с Дальнего Востока, хотя выбор генералов в европейской части страны у Сталина был достаточно широкий, но решение было принято в пользу Андрея Ивановича.
1-го июля в 11 ч. 05 мин. из штаба Западного Фронта в Москву была отправлена телеграмма следующего содержания: «Наркому обороны маршалу Тимошенко. Командование войсками Западного фронта сдал генерал-лейтенанту А.И.Еременко 1 июля 1941 г. Д. Павлов. В командование войсками Западного фронта вступил 1 июля. А.Еременко». (ЦА МО РФ. Ф. 226. Оп. 2133. Д. 1. Л. 14.)
Вот как Андрей Иванович сам повествует об этом тяжелейшем времени:
«28 июня прямо с аэродрома я явился в Наркомат обороны к маршалу С. К. Тимошенко.
— Ждем вас, — сказал он и сразу же приступил к делу.
Из краткого сообщения наркома об обстановке я понял, что положение на фронтах еще более серьезно, чем мне представлялось. Причины наших неудач нарком связывал главным образом с тем, что командование приграничных округов не оказалось на высоте положения. В этом была, конечно, известная доля правды.
Когда С. К. Тимошенко кратко охарактеризовал обстановку и показал на карте, какую территорию мы уже потеряли, я буквально не поверил своим глазам.
Нарком отрицательно охарактеризовал деятельность командующего Западным фронтом генерала армии Д. Г. Павлова и выразил сильное беспокойство за судьбу войск этого фронта.
— Вот, товарищ Еременко, — сказал он мне в заключение, — картина вам теперь ясна.
— Да, печальная картина, — ответил я
После некоторой паузы Тимошенко продолжал:
— Генерал армии Павлов и начальник штаба фронта отстранены от занимаемой должности. Решением правительства вы назначены командующим Западным фронтом, начальником штаба фронта — генерал-лейтенант Г К Маландин. Немедленно выезжайте оба на фронт.
— Какова задача фронта? — спросил я.
— Остановить наступление противника, — ответил нарком.
Тут же С. К. Тимошенко вручил мне предписание о назначении меня командующим Западным фронтом, и в ночь на 29 июня я вместе с Маландиным выехал под Могилев.
На командный пункт Западного фронта, находившийся в лесу недалеко от Могилева, мы приехали рано утром. Командующий в это время завтракал в небольшой, отдельно стоящей палатке. Я зашел в палатку, а генерал Маландин пошел искать начальника штаба фронта. Генерал Павлов приветствовал меня по своему обыкновению довольно шумно, забросав множеством вопросов и восклицаний:
— Сколько лет, сколько зим! Какими судьбами к нам вас занесло? Надолго ли?
Вместо ответа я протянул ему предписание. Пробежав глазами документ, Павлов, не скрывая недоумения и беспокойства, спросил:
— А меня куда же?
— Нарком приказал ехать в Москву, — ответил я.
Павлов пригласил меня к столу.
Я отказался от завтрака и сказал ему:
— Нам нужно поскорее разобраться в обстановке на фронте, выяснить состояние наших войск, осмыслить намерения противника.
Павлов после непродолжительной паузы заговорил:
— Что можно сказать о создавшейся обстановке? Ошеломляющие удары противника застигли наши войска врасплох. Мы не были подготовлены к бою, жили по-мирному, учились в лагерях и на полигонах, поэтому понесли большие потери, в первую очередь в авиации, артиллерии, танках, да и в живой силе. Враг глубоко вторгся на нашу территорию, заняты Бобруйск, Минск.
Павлов ссылался также на позднее получение директивы о приведении войск в боевую готовность.
К. Е. Ворошилов сказал мне:
— Дела очень плохи, сплошного фронта пока нет. Имеются отдельные очаги, в которых наши части стойко отражают яростные атаки превосходящих сил врага. Связь с ними у штаба фронта слабая. Павлов плохо руководит войсками. Нужно немедленно подтягивать резервы и вторые эшелоны, чтобы закрыть образовавшиеся бреши и задержать наступление противника, по-настоящему организовать управление войсками.
Борис Михайлович Шапошников был более конкретен, он указал мне, на какие направления необходимо безотлагательно бросить резервы.
После этого разговора я имел беседу и с членом Военного совета фронта секретарем ЦК КП Белоруссии П. К. Пономаренко, который, как и маршалы, дал отрицательную оценку управления войсками со стороны штаба и командования фронта.
В течение всего первого дня командования войсками фронта я изучал по документам свои войска, изучал противника, отдавал отдельные распоряжения, советовался с начальником штаба фронта и с другими офицерами и генералами штаба фронта. Меня ни на минуту не оставляла мысль о том, что нужно взять в руки нарушенное управление войсками и заставить их драться не разрозненно, а организованно по определенному замыслу, во взаимодействии всех родов войск. Я совершенно ясно понимал, что только войска организованные, связанные единой идеей боя, могут остановить продвижение противника, преградить ему путь к нашей столице, нанести ему поражение.
В результате десятидневных боев в районе Могилева и пятидневных в районе Борисова врагу был нанесен немалый урон в живой силе и технике. Эти бои явились началом организованных действий наших войск на западном направлении.»
Занималось грандиозное Смоленское сражение, где в оборонительных боях легла почти половина довоенной Красной Армии. Через полтора месяца встречных жарких боёв Командующий Брянским Фронтом был ранен. Сталин в очень сложной обстановке нашёл возможность и время лично приехать в больничную палату Андрея Ивановича. После госпиталя генерал получил в командование 4-ю Ударную армию Северо-Западного Фронта. Блестящий зимний Торопецкий Удар Ерёменко впоследствии вошёл в академический учебник Бундесвера. Зимой 1942 года Андрей Иванович отрезал кратчайшие пути снабжения группе армий «Центр», которая после поражения под Москвой отскочила во Ржев, оставаясь кинжалом, направленным в сердце русской столицы. 23 дня Ерёменко командовал наступающей армией с носилок, получив тяжёлое ранение в самом начале Торопецко-Холмской операции. Он был доставлен в госпиталь только после длительной потери сознания. Пока же Андрей Иванович мог командовать, на все предложения отправиться на лечение отвечал отказом, отчётливо понимая, что наступление в той обстановке может легко захлебнуться, достаточно одного неверного шага. Трагичный пример разгрома Брянского Фронта после того, как генерал был ранен и эвакуирован в тыл, ярко горел кровавым пятном в памяти Ерёменко, давая силы оставаться во главе 4-й Ударной армии, ведущей непрерывные встречные бои.
Весной и летом 1942 года, когда Ерёменко лечился после тяжёлого зимнего ранения, Тимошенко и Перлмуттер устроили второй в эту войну разгром Красной Армии под Харьковом, в районе Барвенковского выступа. 300 тысяч потеряли. Фронт побежал аж до Волги…
Сталин вызвал Андрея Ивановича 2 августа. Начиналась Сталинградская эпопея. Второй раз за время войны Ерёменко пришлось останавливать бегущий дезорганизованный заговорщиками фронт. Собирать подразделения, налаживать управление, подготовлять и проводить контрудары. Ерёменко — единственный из военноначальников справился с такой задачей дважды. Потом он стал командующим сразу двумя фронтами, что было во время войны просто уникально.
Наступление немцев на Сталинград продолжалось. Но в самом городе командующий VI полевой армии фельдмаршал Паулюс неожиданно натолкнулся на весьма грамотно построенную оборону и чрезвычайно эффективно действующие из заволжских степей артиллерийские кулаки, нейтрализовать которые Люфтваффе не смогло, благодаря их высокой подвижности и отличной маскировке. В результате немцы плотно завязли в городских боях, продвижение их сил за Волгу так и не состоялось.
Поздняя осень Сталинграда 1942 года. Тяжело нависшее над Волгой ноябрьское небо, полное вражеских самолётов, несущих в своём чреве тонны смертельного груза. По реке идёт «сало» — мелкий битый лёд. Маленьким трудягам – бронекатерам всё тяжелее пробиваться к сражающемуся городу, подвозя подкрепления и боеприпасы. Многие судёнышки уже навсегда успокоились на волжском дне. Огонь Великой Битвы пылал над речными волнами, почти не угасая. На правом берегу противник нажимал, увеличивая мощь своих атак. В жестоких встречных боях таяли силы защитников города, всё меньше становились наши правобережные плацдармы.
В эти ноябрьские дни в штабе Фронта появился необычный гость. Облачения священнослужителя русской православной церкви резко контрастировали с мундирами офицеров штаба. Это был первый помощник и правая рука местоблюстителя Патриаршего Престола Сергия Старгородского – митрополит Николай Ярушевич.
Воины сражающегося Сталинграда получали всемерную помощь. Но кроме снарядов, мин и танков требовалось главное – Божья Помощь, без которой, как известно, победы не будет.
Командующий Фронтом – генерал – полковник Ерёменко тепло принял митрополита Николая. Рассказал о тяжёлых боях в городе, о том, что в подвале одной из разрушенных церквей чудом оставшийся в живых батюшка служит уже 12 дней непрерывный молебен о даровании победы русскому оружию.
Отец Николай сказал, что имеет поручение от товарища Сталина – доставить на сражающийся правый берег Волги святыню – Казанскую икону Божьей Матери и отслужить перед нею молебен.
Андрей Иванович нахмурился и хранил молчание.
Тогда митрополит Николай стал рассказывать, как эта святыня была направлена в Сталинград. Сразу после начала войны митрополит гор Ливанских Илия Карам, обезпокоенный судьбой России, спустился в подземелье одного из храмов. И там, через несколько суток безпрестанной усердной молитвы, ему явилась в огненном столпе Пресвятая Богородица. Она поведала подвижнику, как спасти Россию от дьявольского нашествия двунадесяти языков.
Илия в точности передал её слова в Россию своим друзьям, которые ознакомили с ними товарища Сталина.
Выполняя волю всевышнего, Казанская Богородичная икона была направлена сначала в Ленинград, а теперь прибыла на берега Волги.
Отец Николай сделал паузу. Молчал и Андрей Иванович. Он, как никто другой, осознавал опасность переправы через Волгу, забитую «салом». И без того небыстрый бронекатер в ледяном крошеве превращается в удобную мишень. Вражеская артиллерия без труда пустит ко дну хрупкую скорлупку…
Как бы читая его мысли, отец Николай проговорил:
— Порт – Артур сдали, когда промасоненные генералы не допустили на землю крепости Порт – Артурскую Богородичную икону, направленную туда Царём. Та же история только с Песчанской иконой произошла в германскую войну 14 года. Повторять ошибок недавнего прошлого не стоит. Бог не без милости. Прорвёмся.
Перед глазами Андрея Ивановича встали картины его боевой юности, опалённые огнём Великой войны. Штыковые атаки, ранение, потом смута, позор Брестского мира, великое собирание земель русских, освободительный поход в западные области Малой и Белой Руси…
Андрей Иванович решительно встал, подошёл к полевому телефону. На проводе был командир отряда бронекатеров. Андрей Иванович отдал приказ готовить ночной прорыв парой на участке напротив разрушенной мельницы.
Позвонил он и командующему артиллерией, что бы тот организовал контрбатарейную артподготовку на время речного прорыва.
А отец Николай уединился в одном из помещений штаба, вознося молитвы перед доверенной ему святыней.
День клонился к вечеру. Андрей Иванович получил доклады о готовности сил прорыва и артиллерийской поддержки. Сумерки быстро доедали короткий ноябрьский свет. Сталинград горел, отбрасывая багровое зарево на полусотню вёрст в округе. Артиллерийские расчёты уже поднесли к орудиям снаряды, командиры проверяли прицелы и сверяли квадраты по карте «Дон». Моторы бронекатеров были прогреты и работали на малых оборотах в ожидании пассажиров.
«Сало» шло по чёрным волнам в красноватых отблесках непрерывного пожара. Казалось, что это вскрыта израненная плоть великой русской реки.
Митрополит Николай и Андрей Иванович Ерёменко прибыли на стоянку бронекатеров, соблюдая предосторожности маскировки. Командующий Фронтом принял доклад командира отряда речных судов. Ещё раз оглядел правый берег, сверкавший вспышками выстрелов, и сказал:
— С Богом, отец Николай!
Священник легко, почти невесомо, прошёл по сходне на бронекатер, неся в руках драгоценную святыню.
Кораблик отвалил от берега, развернулся, раздвигая бортами тяжёлое «сало». И вот дан полный ход. Дизеля, надрывая коленвалы, вышли на предельные обороты. На корме отчаянно трепетал флаг Военно Морского Флота, почти касаясь пенного буруна, переходящего в льдистый кильватерный след. Пара катеров устремилась к правому берегу, навстречу огню и ливню свинца. Скоро осколки и пули дробно застучали по броне боевой рубки. С верхней палубы грозно и методично бил по берегу спаренный ДШК. Белые деревья разрывов встали возле бортов, обрушиваясь ледяными водопадами на низкие палубы. Прожектора противника пытались взять кораблики в свои холодные пронизывающие лучи. Но вовремя заговорила фронтовая артиллерия, затыкая батареи противника и гася его прожекторные посты.
Отец Николай стоял в боевой рубке головного катера с молитвой на устах. Катер пробивался сквозь плотный заградительный огонь. Левый триплекс иллюминатора бокового обзора вдруг пошёл сетью снежно-белых трещинок, сквозь которые ясно проглядывали тёмные кружочки застрявших крупнокалиберных пуль. Кораблик накренился на правый борт, резко снизив скорость. Командир катера маневрировал, сбивая пристрелку вражеских пулемётов. Резкий разворот, стоп, полный ход к спасительным обрывам, нависшим над волжской водой.
Фронтовая артиллерия била во — всю уже по самому берегу, подавляя вражеские пулемётные гнёзда. Их огонь заметно ослаб, а вскоре прекратился. Над немецкими позициями стояла сплошная стена разрывов. Двести стволов русских пушек смешивали с землёй незваных гостей. Немец почти не отвечал, истошно вопя по радио о помощи Люфтваффе.
И вот нос головного катера уткнулся в прибрежный песок. Отец Николай сошёл на истерзанную землю правого берега. Катера тотчас отошли назад, взяв раненых и донесения в штаб Фронта.
Люди в наших траншеях хотя и были предупреждены о визите священника, но поверили в это только увидев сходящего на берег отца Николая в развивающихся облачениях.
Он творил молитву перед иконой Казанской Богоматери всё время перехода. Праздничное облачение священника сверкало золотым шитьём, солдаты с удивлением и трепетом провожали взглядом человека, нёсшего святыню Русского Православия в самое пекло Сталинградского сражения.
Несколько офицеров сопровождали отца Николая, проведя его по ходам сообщения к стенам разрушенной мельницы. Там, под защитой толстых стен, были собраны на молебен защитники города.
Богородичную икону установили на два снарядных ящика – своеобразный Сталинградский Алтарь образца начала ноября 1942 года. Отец Николай приступил к молебну без промедления.
Величественно и мощно лились древние молитвы над непокрытыми головами советских воинов, насмерть стоявших среди руин Великого Города, несшего в своём названии имя Русского Мессии, поднявшего Родину из пепла и кровавой смуты. В далёком восемнадцатом году здесь решилась судьба новой, Советской России, ставшей защитницей и историческим правопреемником Московии – Третьего Рима.
Теперь Божий перст опять указал на крутые волжские откосы, наметив точку поворота в праведной битве Православного Света с сатанинской оккультной тьмой, покорившей почти всю планету. Свет новой зари пробивался сквозь облака дыма, вставая из-за Волги неотвратимым багровым сиянием. Занимался ещё один день войны, приближая победную поступь русского солдата к улицам немецкой столицы. Наступал тот самый момент истины, Апостольской Истины – Держателем и Хранителем которой издревле была Россия – единственная в мире Держава.
Просто и безхитростно обратился отец Николай к пастве, стоявшей перед ним в серых опалённых страшным огнём шинелях. Скоро на плечах этих воинов засверкают тяжёлым золотом звёзды, оттеняя суровое шитьё широких погон. И новая армия, отбросив масонские треугольники и ромбики, увенчанная символами чести русского воинства понесёт Сталинские победные знамёна почти до Ла – Манша. А в небесной вышине, благословляя на подвиги, её будет сопровождать Пресвятая Богородица, которую ясно увидят немцы над атакующими неприступный Кёнигсберг советскими войсками.
Так в ноябре 1942 года рождалась победная славянская весна, через три года озарившая планету солнечной радостью грядущей мирной жизни.
Андрей Иванович Ерёменко стал не только выдающимся полководцем Великой Отечественной войны, но и её талантливым летописцем. После победы под Сталинградом Ерёменко по настоянию вождя находился на отдыхе в Цхалтубо. Там по свежим впечатлениям родилась поэма «СТАЛИНГРАД».
Ты разглядел ли, мой читатель,
В чернилах кровь глубоких ран? -
Ведь я не купленный писатель,
Я – Сталинградский ветеран.
Поэма пронизана глубочайшей победной энергетикой РУССКОГО СТАЛИНСКОГО прорыва, остановить который нашим врагам не удалось даже в сегодняшние непростые дни. А тогда, в 1943 году ненавидевшие русских людей и Сталина «поэты» так отнеслись к этому произведению (К. Симонов):
«В тот вечер у меня дома ужинал командующий Третьей армией Александр Васильевич Горбатов, на несколько дней по служебным делам приехавший в Москву. Было довольно поздно, уже поужинали и пили чай, когда раздался решительный стук. Я открыл дверь. Передо мной стоял пожилой человек, одетый по-домашнему в желтую байковую с голубыми отворотами зимнюю пижамную куртку и с портфелем под мышкой. Лицо его было мне знакомо, но домашность одеяния в первую секунду помешала узнать его.
– Как, принимаешь гостей? – сказал он, протягивая мне увесистую руку, тонким, теноровым, никак не шедшим к его крупной, грузной фигуре голосом.
Уже пожимая его руку, я все еще никак не мог сообразить, кто это. И, только скользнув глазами вниз, увидев ниже пижамной куртки генеральский лампас, вдруг сообразил, что это бывший командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович Еременко, о котором я слышал, что он в ожидании назначения находится сейчас в Москве и живет в том же доме, что и я.
– Пришел к тебе как спецу своего дела, хочу спросить совета, – сказал Еременко и покосился на приоткрытую дверь в столовую. – Кто у тебя там?
Я сказал кто.
– Ну тогда ничего, – сказал Еременко и прошел вместе со мною в комнату, продолжая держать портфель под мышкой и заметно прихрамывая – на нем были войлочные домашние туфли, – видимо, продолжала болеть раненая нога.
Он поздоровался с поднявшимся навстречу Горбатовым, и я пригласил Еременко к столу, выпить чаю.
Минут пятнадцать прошло в чаепитии и разговорах о фронтовых делах. Генералы говорили друг с другом, а я, подливая чай, не столько слушал их, сколько думал о загадочных для меня словах Еременко: в каком смысле и по какой части я для него спец и о чем он собирается со мной советоваться? Никаких здравых объяснений в голову не приходило.
Выпив два стакана чаю, Еременко неторопливо вытащил из кармана очешник, надел очки и, потянувшись за портфелем, положил его к себе на колени.
– Написал о Сталинграде поэму, – сказал он. – Хочу, чтобы послушал и посоветовал, как быть, кому отдавать печатать.
Я оторопел. Ждал чего угодно, но только не того, чтобы этот человек, командовавший Сталинградским фронтом, человек, которого я до этого видел там, в Сталинграде, у входа в подземелье командного пункта, вдруг через год с лишним придет ко мне домой читать поэму о Сталинграде, который обороняли его войска.
По своей натуре я склонен верить в чудеса, в те счастливые «а вдруг», которые очень редко, но все же происходят в жизни. «А вдруг это и в самом деле поэма?» – думал я, глядя, как Еременко вынимает из портфеля какую-то папку и не спеша, даже с некоторой торжественностью открывает ее.
Но когда он уже открыл ее и перевернул один за другим несколько листов, наверное, решая, с чего начать чтение, я краем глаза увидел, что это не черновая рукопись и не машинопись, а что-то каллиграфически выведенное черной тушью с красными буквицами. Должно быть, переписанная набело каким-нибудь писарем, великим артистом своего дела, поэма напоминала внешним видом старые рукописные книги. Меня всегда пугал вид слишком красиво перебеленных сочинений. Испугал и тогда. А Еременко выбрал страницу, с которой решил начать, и, поправив очки, стал читать.
Читал он медленно и выразительно, с тем внутренним чувством ритма, который обличал в нем человека, давно и, наверное, страстно приверженного к громкому чтению стихов.
Прочитав первую страницу, прежде чем перелистнуть ее и перейти к следующей, он сделал большую паузу и внимательно посмотрел на меня. Хотел увидеть, какое это произвело на меня впечатление.
Так повторялось еще несколько раз, иногда при перевертывании, а иногда и посреди страницы, после окончания строфы, которая ему самому особенно нравилась.
Я был в трудном положении и старался подольше ничего не выразить на своем лице, чтобы не помешать ему прочесть столько, сколько захочется. Меня сковывало уважение к этому человеку, и чем дальше, с чем большим внутренним удовлетворением он читал, тем больше меня тревожил проклятый вопрос: что же я ему скажу, когда он в конце концов спросит меня, как мне это понравилось?
В том, что я слушал, не было тех явных погрешностей в ритме и в рифмах, которые отличают совсем уж неумелые стихи и размер, и рифмы, и строфика были тщательно соблюдены. Однако вся поэма была вполне очевидным и вполне сознательным подражанием пушкинской «Полтаве», а верней, тому ее месту где речь идет о Полтавском бое. Подражание было старательным и торжественным, никакого даже самого малейшего намека на что-то свое собственное, ни малейшей крупицы хоть чего-нибудь, выходящего за пределы подражания, в том, что я слушал, не было. Это и предстояло в конце концов сказать сидевшему передо мною и читавшему мне свои стихи человеку, сумевшему остановить немцев в Сталинграде, но неспособному написать в стихах о том, что он сделал в жизни.
Редко когда-либо раньше необходимость рубить правду-матку была для меня так тягостна, как в тот вечер.
– Ну как? Что скажешь? – спросил Еременко, дочитав главу, в которой рассказывалось о пожаре Сталинграда и о первых боях за него. Вложив между страницами футляр для очков, он, кажется, хотел читать дальше, но перед этим желал убедиться в том впечатлении, которое произвело уже прочитанное.
Я было начал издалека, стал обходительно объяснять разницу между поэзией собственной и стихами, написанными в подражание хотя бы и самым прекрасным образцам. Но из моих подготовительных маневров ничего не вышло. Еременко остановил меня с солдатской прямотой:
– Ты мне всего этого не говори. Это мне уже говорили и до тебя, что у меня на Пушкина похоже. Ну и слава богу, если похоже. Ты мне свое мнение скажи: хорошо это, по-твоему, или плохо?
– Плохо, Андрей Иванович, – выдавил я из себя.
– И печатать этого, по-твоему, нельзя?
– По-моему, нельзя, тем более вам.
Еременко ничего не ответил. Молча вынул заложенный в рукопись очешник, снял очки, положил их в очешник, а очешник в карман, бережно сровнял высунувшиеся во время чтения из рукописи листы, застегнул папку, положил ее в портфель, застегнул портфель, положил рядом с собой на пустой стул, где он лежал до чтения, и наконец после долгого молчания сказал:
– Еще стакан чаю налей.
Судя по его мрачному лицу, он, наверное, сразу бы встал и ушел, но остался все-таки выпить этот стакан, потому что здесь присутствовало третье лицо – Горбатов; не захотел при нем сразу же уйти, показав меру своего огорчения и обиды.
Пил чай и переживал услышанное. А я сидел и переживал сказанное.
Допив чай, он встал, попрощался с Горбатовым, хмуро сунул мне руку и, прихрамывая, пошел из комнаты, не обращая больше на меня внимания, словно бы я и не провожал его до дверей.»
Вот такие насквозь лживые «поэты» присвоили себе исключительное право писать и публиковать «своё особенное» в нашей многострадальной стране, являясь, по сути, мелочными конъюнктурщиками ловко вписываясь в ситуацию. Ерёменко совершенно правильно не стал обращать внимания на этого ждименяйщика, пооколачивавшегося пару-тройку дней около фронтовых штабов, а потом в летней синекуре левкассилевского переделкинского дома настрочившего «фронтовые стихи» про жёлтые дожди и метущие снега. Правда же состояла в том, что пассия ждименяйщика ждать лежащего в гамаке с карандашом наперевес «воина» оригинально не стала, и шустро упорхнула от Кирилла – Константина к К.К. Роккосовскому — весовой коэффициент был угадан профессиональной содержанкой с исключительной точностью.
Андрей Иванович писал свою поэму собственной кровью, неоднократно пролитой за любезное его сердцу Отечество. А сколько раз за войну был ранен оригинальный бумагомаратель, взявший аж 7 Сталинских премий, после чего со спокойной совестью обливавший вождя грязью из «глаз человека своего поколения»?.. У них так вообще принято, изданы даже целые книги – руководства как поступать в повседневной жизни. Вспомним давние слова Спасителя — по плодам их узнаете их!
После войны непревзойдённый поэтический титан Бунин, раскусив подлую суть назойливо посещавшего писателя «сына княжны Оболенской», швырнул в лицо этому новоявленному «поэту» свой разорванный советский паспорт. Великий Бунин не пожелал иметь ничего общего с мелким гуттаперчевым человечком, который нагло корчил из себя воина – победителя, раздуваясь до размеров дирижабля.
Из откровений Симонова понятно, что этого картавого писюна больше всего не устраивал факт поднятия темы о Великом Переломе Великой Войны русским человеком, державшим в своих руках живое трепетное сердце сражающегося Сталинграда, который знал уникальные подробности сражения, очень живо и образно их передал почти пушкинским поэтическим слогом. Понятно, что конкурировать с такой сильной полновесно — исторической вещью его оригинально выдуманные вирши про сына артиллериста, или про дороги смоленщины явно не могли. А так проникновенно — правдиво написать о Сталинграде сам «поэт», понятное дело был не в состоянии, хотя тема была весьма перспективной.
Но по настоящему испугало Симонова как идеолога белых и пушистых узко ограниченных кругов то, что поэма находилась не в легко теряемой рукописи, или машинописи, а была любовно переписана и художественно оформлена солдатами — Сталинградцами, что само по себе делало её реликвией, ценнейшим свидетельством – подлинником главной битвы Великой Войны. Прожжённый прагматик Симонов тонко уловил, что поэма, даже не напечатанная его усилиями тогда, несомненно уйдёт в будущее помимо стараний всех его гнусных подельников, и там станет сильнейшим литературно – художественным памятником подвигу русского народа. Ерёменко это прекрасно понял. Осталось прочитать, осознать и оценить мощь и кровавую правду Сталинградской поэмы и нам.
Громыхала победным огнём и рёвом танковых моторов Курская битва. А Андрей Иванович после лечения в госпиталях наводил порядок на Калининском Фронте, стоявшем в глубокой обороне у неприступных по мнению немцев, Смоленских Ворот. Эти ворота Сталинской волей должны были с треском распахнуться в Европу, открывая Красной Армии прямую дорогу в логово фашистского зверя. Вождь перед Тегеранской конференцией поехал именно туда – в район Смоленских Ворот. Несомненно стратегическое предвидение Сталиным ключевого момента предстоящей схватки. Но была и ещё одна, чисто личная мотивировка, проложившая заключительный маршрут поезда Верховного Главнокомандующего подо Ржев, на станцию Мелихово.
В ночь на 2 августа он вызвал к себе в кабинет заместителя наркома НКВД комиссара госбезопасности 2-го ранга Ивана Серова и коротко приказал к утру подготовить поездку в штаб Западного Фронта. Причем обеспечить такую степень секретности, чтобы об этом не знал даже начальник личной охраны – комиссар госбезопасности 3 ранга Николай Власик. Маршрут был сообщён Серову по частям. Сначала – Юхнов, что в 210 км на юго-запад от Москвы по Варшавскому шоссе. Далее – Гжатск (ныне Гагарин), в 130 км на север от Юхнова, в 180 км на юго-запад от столицы. Оттуда – через Вязьму и Сычевку, без остановок в них – в Ржев (230 км на северо-запад от Москвы).
Личная мотивировка поездки заключалась в том, что Сталин не был сыном сапожника, как трактует пожелтевший официоз. Отцом Иосифа был великий русский путешественник, географ и генерал-майор русской разведки Николай Пржевальский. Его имение – Слобода, расположенное недалеко ото Ржева уже год было на линии фронта. Полностью освободить дорогое для Сталина памятное место было поручено войскам Калининского Фронта.
3 августа вся Слобода была освобождена войсками 43 Армии. Руководил боем сам Командующий Фронтом – Андрей Иванович Ерёменко. Сталин встретился с ним 5 августа не в штабе Калининского Фронта, а в скромном деревенском домике в предместье Ржева, что не оставляет сомнений в чисто личной мотивировке этой поездки для Верховного.
Вспоминая ту встречу в деревне Хорошево, Ерёменко позже восторженно писал о Сталине (журнал «Огонек» № 8, 1952 год): «Я, конечно, присутствовал на именинах в день рождения салютов, которые до сих пор гремят в нашей стране по празд¬никам, но моя роль в этом деле была скромная, творцом салю¬тов был лично товарищ Сталин.
Действительно, как и распорядился Верховный Главноко¬мандующий в 24 часа 5 августа 1943 года в городе Москва, сто¬лице нашей Родины был дан первый салют доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород. Войска стали явственней чув¬ствовать одобрение и благодарность народа. Салюты воинов звали на новые подвиги.
С этого времени каждый значительный успех советских войск Москва отмечала салютами побед.
После 5 августа 1943 года почти два года гремели над страной московские салюты, отмечая славный победоносный путь героических советских армий, и каждый из таких салютов приближал знаменательный день нашей окончательной победы!
Наша встреча с товарищем Сталиным продолжалась около трех часов, но время пролетало очень быстро и незаметно и, казалось, что мы беседовали всего несколько минут. На протя¬жении всей беседы, в словах, в выражениях и жестах товарища Сталина чувствовалась твердая уверенность и решительная настойчивость. Временами, это уже к концу беседы, когда товарищ Сталин несколько отвлекался от обсуждаемых вопросов, он много шутил.
Затем зашла речь обо мне.
— Сколько Вам лет? — спросил Иосиф Виссарионович. Я ответил.
— Да, Вы еще совсем молоды, — весело сказал он.
В своих указаниях товарищ Сталин хорошо ориенти¬ровал об обстановке, о перспективах и предстоящих ближай¬ших задачах. Его оценки были необычайно кратки, ясны и глу¬боки, о многом, может быть, еще не время писать и говорить.
Встреча с товарищем Сталиным для меня была весьма полезной, она дала очень много для расширения кругозора командующего фронтом.
После разговоров о кадрах и об оперативном искусстве, товарищ Сталин внимательно посмотрел на карту, которую полтора часа тому назад я прикрепил к стене и сказал мне:
— Ну, докладывайте, как Вы спланировали Смоленскую операцию, — а потом, улыбнувшись себе в усы, с ехидцею добавил:
— Вы Смоленск сдавали, Вам его и брать.
Я ответил:
— Постараюсь выполнить Ваш приказ, товарищ Сталин.
После этого я подошел ближе к карте, начал излагать план Смоленской операции. Вначале я коротко охарактеризовал операционное направление — Смоленские ворота, а затем дал подробную характеристику позиций противника, их укреплений и дал оценку силам врага, вывел соотношение сил, для чего также подробно охарактеризовал состав наших сил и средств.
После этого, я коротко изложил общий замысел и план операции, который вытекал из поставленной мне задачи.
Смоленская операция проводилась нашим фронтом во взаимодействии с правым флангом Западного фронта, тоже нацеленного на Смоленск. Действия двух фронтов должны были слиться в единый удар.
Я докладывал товарищу Сталину, что основная ведущая идея наступательных операций войск Калининского Фронта состоит в том, чтобы взломать всю оборону противостоявшего нам противника на всю глубину на всем фронте, взломать по частям, последовательно создавая наше превосходство в силах и средствах на избранных направлениях.
Центральное место в моем докладе Верховному Главнокомандующему все же занимала Духовщинско-Смоленская операция. Это и понятно, потому что выполнением Духовщинско-Смоленская операции войска фронта открывали так называемые Смоленские ворота, раскалывали левое крыло фронта ЦГА и получали возможность выхода на широкий оперативный простор, на поля Белоруссии и Прибалтики, откуда открывались пути в Восточную Пруссию. Смоленские ворота должны были стать для нас воротами в Западную Европу.
Докладывая план наших действий, я подробно остановился на каждом этапе операции. Вся операция планировалась в три этапа (подготовительного этапа я не считаю).
Первый этап — артиллерийская подготовка, атака и прорыв оборонительной полосы противника.
Второй этап — развитие прорыва и захват города Духовщины (открыть Смоленские ворота).
Третий этап — выход на рубеж Смоленска, захват Смоленска и поворот левого крыла войск Калининского фронта на запад — на Витебск.
Вот в таком разрезе я докладывал товарищу Сталину план Смоленской операции. При анализе каждого этапа, я детализи¬ровал группировку войск и характеризовал частные задачи на каждом этапе.
Товарищ Сталин внимательно выслушал мой доклад и в ходе изложения доклада задал мне ряд вопросов.
Касаясь вопроса организации прорыва сильной обороны про¬тивника, товарищ Сталин задал мне вопрос.
— Сколько у нас орудий на километр фронта? — спросил он меня.
— Сто шестьдесят, — товарищ Сталин.
— Мало, — сказал он. — Мало, надо не менее 200 орудий на километр фронта. Артиллерия должна сопровождать пехоту огнем от рубежа к рубежу, она должна прокладывать путь пехоте двойным валом, а для этого требуется до двухсот орудий на один километр. Особенно,- продолжал товарищ Сталин, — не должна отставать от пехоты артиллерия сопровождения, она должна шагать вместе с пехотою нога в ногу. Нужно за счет второстепенного направления усилить артиллерийскую плотность.
При обсуждении третьего этапа операций товарищ Сталин обратил мое внимание на то, что я имел недостаточно сил для развития успеха и тут же подошел к столу, на котором стоял телефонный аппарат, поднял трубку и произнес:
— Дайте 2-12, — и сейчас же получил ответ.
Слышимость была замечательной. Я стоял в стороне, но хорошо слышал, как товарищ Штеменко ответил:
— Я слушаю, товарищ Сталин.
— Товарищ Штеменко! прикажите, чтобы 3-й кавкорпус к 10 августа и одну общевойсковую армию к 20 августа перебро¬сили в распоряжение товарища Еременко в район города Белый. Поняли?
— Так точно, понял, товарищ Сталин,- ответил т.Штеменко.
Иосиф Виссарионович положил трубку и продолжал разби¬рать вопросы авиационного обеспечения. Он также нашел, что у меня маловато бомбардировщиков и тут т приказал деть мне несколько вылетов авиационного полка туполевских самолетов-бомбардировщиков Ту-2, которые до этого времени еще нигде не применялись.
В конце моего доклада я попросил у товарища Сталина дополнительно один боекомплект тяжелых снарядов, Товарищ Сталин тут же по телефону отдал приказание тов. Яковлеву отгрузить мне снаряды в первую очередь.
Во время доклада Сталин слегка нервно, но все же размеренно шагал по освещенной августовским солнцем комнате, периодически останавливаясь и замирая, что-то озабоченно вспоминая.
— А кто, товарищ Еременко, отличился в бою у Слободы?
— Слободу полностью заняли позавчера войска 43-ей армии генерала Голубева, 940-го стрелковый полк 262-й стрелковой дивизии.
К концу третьего часа нашей беседы, чувствовалось, что все вопросы, связанные с операцией, разобраны.
Вскоре вошел генерал для поручений и доложил, что машины поданы.
Мы все вышли из домика. Машины стояли не во дворе, а на улице против калитки.
Иосифу Виссарионовичу была подана машина ГАЗ-61, наш советский вездеход.
Я сел в свой «Виллис», и уже из машины еще раз взглянул на небольшой скромный домик, который с этого дня стал историческим, так как здесь побывал наш Верховный Главнокомандующий, здесь он принял важнейшие решения, сыгравшие значительную роль в судьбах Великой Отечественной войны. Машины тронулись, впереди машина товарища Сталина, затем моя, а за мной машины охраны. Простой небольшой домик с мезонином остался позади.
Мы ехали вдоль улицы села Хорошево, расположенного бук¬вой «Т» на возвышенности, нисходящей к Волге, которая выглядит здесь в верховьях очень небольшой речушкой.
Слева от нас возвышенность круто обрывалась к реке, а на ее противоположном берегу виднелся совершенно разбитый и сожженный немцами лесозавод, справа впереди редко разбро¬санные домики второй улицы деревни. Я не знал тогда еще, что позднее, после войны, сюда приедут из Москвы лучшие предста¬вители академии архитектуры и будут составлять замечательные проекты нового советского села, с большими площадями, велико¬лепными общественными зданиями, стадионом, асфальтированными дорогами. А именно так и было уже через год после окончания войны. И пройдет несколько лет, как этого села нельзя будет узнать. Тогда оно действительно по-настоящему будет оправды¬вать свое поэтическое наименование.
Станция Мелихово, где находился поезд Верховного Главно¬командующего, расположена от села Хорошево в полтора — двух километрах и через несколько минут мы уже были на станции, вернее на месте, где когда — то была станция, а теперь было пустое место и небольшая землянка с высоким накатом, заменившая станционное здание.
Проселочная дорога пересекла железнодорожные пути, и мы повернули вправо к станции. Справа тянулись три железнодорожных линии, на одной из них стоял поезд товарища Сталина, другая была только что расчищена для сквозного движения поездов, по сторонам от рельс лежали многочисленные следы недавних разрушений и горячего дыхания воины. На третьем пути ле¬жал сваленным ударами бомб пассажирский состав и много то¬варных вагонов.
Товарищ Сталин пригласил к себе в вагон, который стоял тут же неподалеку. Вагон товарища Сталина был обычный пассажирский с несколькими купе и небольшим салоном, просто, но со вкусом обставленный он пожалуй, выглядел несколько строго.
Иосиф Виссарионович пригласил меня к столу. Обед прошел в оживленной беседе. Товарищ Сталин, как всегда, держал себя очень просто, настроение у него как и во время приема, было приподнятое и бодрое.
Менее отвлечённый здесь содержанием своего доклада и большой важностью вопроса, который обсуждался в домике в Хорошево, я всматривался в лицо, во всю фигуру Верховного Главнокомандующего, вслушивался в его речь, его замечания и шутки и в сознании невольно возникали параллели с впечатлениями от других встреч, от многих других разговоров по телефону и передо мной стоял уже сложившийся во времени образ Сталина, так правдиво обрисованный Анри Барбюссом. Его скупые, но яркие слова и оценки, кажется, схватили самое главное в образе нашего Верховного Главнокомандующего.
Сталин производил на меня глубокое впечатление. В его образе отчетливо выделялись его сила, его несравненно здравый смысл, развитое чувство реальности, широта его познаний, изумительная внутренняя собранность, страсть к ясности, неумолимая последовательность, быстрота, твердость и сила решений, умение молниеносно оценить обстановку, умение ждать, рассчитывать во времени, не поддаваться искушению, хранить грозное терпение.
Все это в нем покоряло и пленило меня, как и каждого человека, кто с ним встречался.
После обеда Иосиф Виссарионович тепло распрощался со мной и подарил мне на прощание две бутылки вина Цинандали.
Эта встреча со Сталиным осталась в моей памяти, как самое яркое, незабываемое, неизгладимое впечатление на всю жизнь.»
Осенью 1943 года неприступные Смоленские Ворота, жалобно скрипя, широко распахнулись на запад под мощным ударом бронированных и артиллерийских кулаков Красной Армии. Намотав на танковые траки кишки уже бегущей группы армий «Центр», советские войска победно встречали 1944 год, год ДЕСЯТИ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ.
Андрею Ивановичу Ерёменко сначала довелось участвовать в третьем ударе. Ударе по Крыму. Он был назначен командующим Отдельной Приморской Армией, вместо проваливавшего дело И. Петрова, в июле 1942 года позорно сбежавшего из осаждённого Севастополя, бросив порядка 100 тысяч своих солдат. Буденный, согласовав решение по Севастополю со Ставкой, издал тогда директиву для Севастополя, в которой генерал-майор Петров был назначен командующим СОР. Директивой предписывалось:
«Октябрьскому и Кулакову срочно отбыть в Новороссийск для организации вывоза раненых, войск, ценностей, генерал-майору Петрову немедленно разработать план последовательного отвода к месту погрузки раненых и частей, выделенных для переброски в первую очередь. Остаткам войск вести упорную оборону, от которой зависит успех вывоза».
Но, Петров, не будь дурак, тут же поручил умереть за Родину генералу Новикову и отбыл на подводную лодку вопреки приказу Буденного возглавить оборону! Дальше – больше.
В начале ноября 1943 года часть десантных войск была высажена северо-восточнее Керчи, где захватила небольшой плацдарм. 318-я стрелковая дивизия полковника Гладкова и два батальона морской пехоты захватили плацдарм в районе поселка Эльтиген, южнее Керчи. Они прорвались к окраине Керчи, заняли гору Митридат и Угольную пристань. До позиции основных сил десанту оставалось километра три. Но соединиться с главными силами так и не удалось. Большая часть десанта бесцельно погибла. Начались поиски виновников трагедии. Петров обвинил в неудаче флот, а Владимирский, соответственно, Петрова. «Сугубо осторожные, замедленные действия фронта, — писал после войны Владимирский, — привели к неиспользованию благоприятной обстановки, когда Керчь, по сути дела, была уже в наших руках. Это заставило меня дать резкую телеграмму в Ставку о своем принципиальном расхождении с генералом И. Е. Петровым в вопросе о совместных действиях».
Вышедшие 9 января десантные корабли попали в шторм и не успели вовремя прибыть к месту высадки, однако запланированная артподготовка была проведена в назначенный срок, что указало немцам, уже заметившим советские корабли, место высадки, и они подтянули туда резервы. Высадка проходила так, что хуже не придумаешь — при первом авиационном налете разом погибли командир отряда высадки и его главный штурман. Вступивший в командование начальник штаба был убит при следующем налете. Часть десантников погибла еще на кораблях, часть высадить не смогли вообще, а те, кого все же высадили, через день едва смогли прорваться к своим…
Не лучше получилось 22 января при десанте в Керченском порту. План десанта был составлен плохо, каждый батальон решал свою отдельную задачу на приличном для уличных боев расстоянии друг от друга (до 1 километра). Это сразу привело к потере связи между частями, а потом и к потере управления боем со стороны командования. Немцы в этой ситуации поступили грамотно — отрезали десант от побережья, так что командир флотилии просто отказался высаживать второй эшелон: к берегу было не подойти. Операция закончилась также, как и с Тархуном: изрядно поредевшие советские батальоны были вынуждены прорываться к своим из окружения.
Нахальный Петров вот как рассказывал о том трагичном керченском деле писателю Карпову:
«Прибыл в Москву, ждал вызова к Сталину. Когда я уезжал из Крыма, все, да и я, предполагали, что меня отзывают для нового высокого назначения.(КАКОВ УРОДЕЦ, А? –Авт.) Фронт ликвидировался, я командую армией, но все же я уже был командующий фронтом. Но на душе у меня было неспокойно, обычно при таких назначениях спрашивают мнение, согласие. А тут приехал Еременко, а меня, как говорится, в двадцать четыре часа и без объяснений — в Москву. Дождался я приема, а передо мной были какие-то или конструкторы, или строители. Они вышли из кабинета Сталина как из парилки. Видно, был крупный разговор. Захожу и сразу вижу — Сталин очень раздражен. Он стоял посередине кабинета, и по тому, как зыркнул на меня, я понял: быть беде. «Докладывайте!» — бросил Сталин, не здороваясь. Я не понял, что он имеет в виду, спросил: «О чем, товарищ Сталин?» — «О том, как утопили людей и корабли в проливе». Я все же не понимал, что конкретно он хочет знать. Молчал. А его, видно, распирало, и прорвалось: «Всю свою армию переправили в Крым, зачем еще десанты? Кому нужны эти новые потери? Надо с плацдарма наступать, а вы новые десанты посылаете. Кому они нужны? Вот и угробили людей и корабли, а успехи мизерные». Только тут я понял, о чем идет речь. Хотел объяснить, что эти десанты проводились представителем Ставки, но тут же понял: это будет выглядеть, как попытка оправдаться. Но я не чувствую себя виновным — зачем оправдываться? И я молчал. Мне казалось, что запал в Сталине кипел еще от предыдущего разговора. Но как бы там ни было, а говорил он мне очень обидные вещи. И я наконец не выдержал и ответил: «Товарищ Сталин, я не виновен в том, за что вы меня ругаете». Он вскинул на меня глаза в упор: «А кто?» Я молчал, жалея, что возразил ему и пытаюсь оправдываться. «Кто?» — еще раз резко спросил он. «Пусть разберется и доложит Генеральный штаб», — ответил я. Тут он тихо, но грозно сказал: «Вы не виляйте, товарищ Петров, у меня нет времени на долгие разбирательства, говорите прямо — кто?» Я подумал: почему я должен брать все на себя? Тем более со мной не посчитались, поступили элементарно неуважительно, сами все затеяли, а когда не получилось, как говорится, спрятались в кусты. И я решился. И конечно, напрасно, только уронил себя в глазах Сталина. До сих пор жалею.
Я сказал, что эту операцию организовывал лично представитель Ставки. Сталин некоторое время смотрел на меня так пронизывающе — думал, прожжет глазами. Потом очень тихо сказал, помахивая пальцем перед своим лицом из стороны в сторону: «Мы вам не позволим прятаться за широкую спину товарища Ворошилова. Вы там были командующий, и за все будете нести ответственность вы. Идите...»
Ну и затем приказ о снятии с должности, снижении в звании на одну ступень.»
Петров был освобождён от должности командующего Приморской армией, зачислен в резерв Ставки ВГК и снижен в звании до генерал-полковника, но так и остался ни то, ни сё. Мы встретимся с ним на этих страницах ещё один раз.
Вот как описывает Андрей Иванович своё назначение:
«3 февраля 1944 г. я был вызван в Ставку Верховного Главнокомандования. Здесь, кроме И.В. Сталина, были В.М. Молотов, А.С. Щербаков, А.А. Андреев и другие. Сталин объяснил мое освобождение от должности командующего 1-м Прибалтийским фронтом состоянием моего здоровья.
– Есть мнение, – сказал И.В. Сталин, – направить вас в качестве командующего в Отдельную Приморскую армию, действующую в Крыму и на его подступах на правах фронта. В эту армию входят две воздушные армии, и наряду с общевойсковыми соединениями ей подчинены в оперативном отношении также Черноморский флот и Азовская военная флотилия и ВВС Черноморского флота.
Я понимал, что, подробно говоря о составе армии, Верховный Главнокомандующий заботился о том, чтобы не ущемить, что называется, мое самолюбие, поскольку я назначался командовать армией после того, как командовал фронтами.
– Армии предстоят наступательные бои, а дела там идут пока не блестяще. Дважды планировались на ее участке наступательные операции, но попытки осуществить их оказались неуспешными.
И.В. Сталин, как обычно, осведомился о моем согласии с назначением. Я ответил утвердительно.
Прощаясь, Сталин вроде в шутку, но все же вспомнил про статью в журнале «Славяне», заметив с улыбкой:
– А вы, товарищ Еременко, все же любите печататься.
– Товарищ Сталин, вас неверно информировали. Статью о Сталинградской битве у меня вырвали буквально силой, причем действовали от имени ЦК. Мне сказали, что без вашей санкции печатать не будут, так что я здесь ни при чем, – ответил я.
– Товарищ Щербаков, слышите, – воскликнул Сталин, – а вы мне докладывали совсем по-другому. Так нельзя поступать с нашими командующими.
На это замечание Сталина А.С. Щербаков что-то ответил, но что именно, я не расслышал.
– Вы все же фотографироваться любите, – сказал Сталин, обращаясь ко мне.
– Товарищ Сталин, это снова наговоры.
– Так вы же хотели сфотографироваться со мной, когда я приезжал к вам на Калининский фронт.
– Да, – ответил я, – было такое желание, но вы отказались, сказали, что мы сделаем это после войны. В этом своем желании я не видел ничего плохого или тщеславного. Ведь редко Верховный Главнокомандующий выезжает на фронт. Эта фотография была бы исторической. Я ведь такой же человек, как и другие, и желание сфотографироваться рядом с вами нельзя считать плохим качеством моей натуры. Я был делегатом 18-го съезда и видел делегатов, желающих сфотографироваться с вами. Было просто паломничество, все толкались, давились, каждый стремился поближе подойти к вам, хотя народ-то был солидный.
– Ну, ладно, не будем больше вспоминать об этом, – сказал Сталин и пожелал мне успеха.
С совещания в ГКО я ушел в хорошем настроении, будто гора свалилась с плеч, но должен сказать, что в дальнейшем отношение Сталина ко мне было изменчивым: то приятно ласковое, с ехидцей, то грубое, с плохо скрытым недовольством.»
К сожалению, Ерёменко не понял сугубо личного характера поездки Верховного во Ржев. Он привёз на встречу со Сталиным фотокоров и кинохронику, что крайне не понравилось вождю. Отрицательно на их взаимоотношениях сказался и отказ Ерёменко убрать Хрущёва из Сталинграда:
«Случилось это так. В середине октября Иосиф Виссарионович позвонил мне по ВЧ. После обычного приветствия и вопроса о делах на фронте спросил про Хрущева, где, мол, он. По интонации я уловил недовольство и возбуждение Верховного.
Я ответил, что Никита Сергеевич выехал в одну из армий.
После паузы, будто бомба разорвалась, когда Сталин выпалил:
– Ты чего держишь Хрущева у себя? Гони его… – и облил Хрущева такой грязью, что неудобно пересказывать.
Такая вспышка гнева была настолько неожиданной, что я растерялся и долго молчал.
– Почему молчите?
– Товарищ Сталин, – ответил я наконец, – это же не моя категория, он же член Политбюро ЦК.
– Вы его еще не раскусили. Это такой… – И опять принялся его шерстить. Когда закончил, я спокойно сказал:
– Товарищ Сталин, обстановка на фронте очень тяжелая и менять сейчас члена Военного совета просто невыгодно. Прошу оставить товарища Хрущева.
Мой ответ еще больше рассердил Сталина, он крепко выругался и добавил:
– Гоните его, говорю вам. – И так резко бросил телефонную трубку, что в ушах зазвенело.
Такого возбужденного состояния Сталина я еще не наблюдал. Что там стряслось между ними, не знаю до сих пор.»
Ерёменко не был искушен в подковёрной борьбе кащеева царства серых картавых карликов со Святой Русью и поэтому не понял к нашей большой грусти, ни госпереворота 1953 года, ни последующего предательского антирусского ХХ съезда, что, однако, не умаляет его чисто военных заслуг перед Отечеством.
План разгрома войск противника в Крыму разрабатывался командованием 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии с учетом полного взаимодействия войск обоих объединений по цели, времени и месту, по этапам операции.
Замысел операции сводился к следующему: войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии должны были, нанеся одновременные сходящиеся удары в северной части Крыма и на Керченском полуострове, прорвать оборону противника и, развивая наступление в общем направлении на Симферополь, Севастополь во взаимодействии с Черноморским флотом и партизанами Крыма, рассечь и уничтожить группировку вражеских войск.
Войска 4-го Украинского фронта прорывали оборону немцев на Перекопском перешейке и в районе Сиваша, наносили главный удар через Симферополь на Севастополь. 2-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта должна была нанести вспомогательный удар в направлении Ак-Мечеть, Евпатория.
Войска Отдельной Приморской армии, действовавшие с Керченского плацдарма, имели общую задачу разгромить керченскую группировку противника, не дав ей отойти и организовать оборону на Ак-Монайских позициях, и во взаимодействии с 4-м Украинским фронтом очистить Крым от немецко-фашистских и румынских захватчиков.
Армии предстояло двумя одновременными ударами севернее и южнее сильно укрепленного населенного пункта Булганак прорвать оборону противника и развить наступление вглубь Керченского полуострова в направлении на Владиславовку, Феодосию. Задача войск заключалась в том, чтобы в короткий срок разгромить группировку противника в районе Керчи и лишить ее возможности перебросить часть сил в полосу 4-го Украинского фронта на помощь своим войскам, действовавшим в Северном Крыму.
После овладения Владиславовкой и Феодосией войскам Отдельной Приморской армии предстояло преследовать противника частью сил в направлении на Симферополь и далее на Севастополь, частью сил – вдоль южного побережья Черного моря по приморскому шоссе на Севастополь.
Отдельная Приморская армия должна была начать наступление на два дня позже, т. е. после того, как 4-й Украинский фронт выйдет на рубеж р. Чатырлык, г. Джанкой.
Ерёменко быстро поправил положение дел в подчинённых подразделениях и успешно взял город Керчь, развивая наступление на Севастополь:
«Переход войск Отдельной Приморской армии через Крымский хребет остался навсегда в моей памяти. На перевале хребта Яйла в районе Ангарского ущелья, в двухстах метрах от обелиска, поставленного в честь фельдмаршала М.И. Кутузова, я в третий раз в течение минувшей войны был ранен.
Саперы и солдаты других подразделений расчищали дорогу, но дело шло довольно медленно. Я приказал сбросить сгоревшие машины в ущелье и атаковать перевал. Пехота, рассыпавшаяся по ущелью, моряки с криками «полундра» ринулись в атаку. В это время я находился в окопе и наблюдал за ходом боя. Противник, видимо, заметив группу генералов и офицеров, открыл беглый огонь из минометов. Одна мина разорвалась почти рядом, осколок угодил мне в правую руку. Через несколько минут перевал был взят, гитлеровцы бросили орудия и минометы и бежали лесами к морю. Танки и десанты пехоты начали преследование.
С отходом противника на укрепления Севастопольского обвода Отдельная Приморская армия директивой Ставки от 16 апреля 1944 г. включалась в состав 4-го Украинского фронта с 18 апреля 1944 г., а я отзывался в Москву. Перед решением этого вопроса я разговаривал со Сталиным по телефону. Верховный Главнокомандующий тогда сказал:
– Здравствуйте, товарищ Еременко, поздравляю вас с большими успехами по проведенной операции и разгрому противника в Крыму.
– Благодарю за высокую оценку наших действий, – ответил я.
– Скажите, товарищ Еременко, ваше желание: будете ли вы продолжать доколачивать противника в Крыму или согласитесь поехать на другой фронт?
Вопрос оказался неожиданным, я замялся с ответом. Сталин понял это и сказал:
– Подумайте, но трубку не кладите.
(Позже, в Москве уже, мне стало известно, что вопрос стоял так: поскольку фронт действия войск в Крыму сузился, было принято решение назначить командующим одного человека – товарища Толбухина или меня.)
Подумал я две-три минуты и доложил:
– Товарищ Сталин, я не возражаю поехать и на другой фронт, но и не возражаю против того, чтобы задержаться в Крыму. Как решит Ставка, с тем я и соглашусь.
– Хорошо, – ответил Сталин, – тогда передайте армию своему заместителю, а сами завтра же прилетайте в Москву.
Командование армией я передал своему заместителю генерал-лейтенанту Кондрату Семеновичу Мельнику.»
Немцы были сброшены в Чёрное море между мысами Фиолент и Херсонес 12 мая 1944 года.
Потом была Прибалтика. И наши танки помчались по улицам Риги, срывая брусчатку времён. А в центре города, над собором Святого Петра взвилось красное победное знамя. Но перед этим были тяжелейшие бои в болтах и лесах с хорошо вооружённым, полностью укомплектованным, подготовленным и мотивированным противником, руководство которого было весьма квалифицированно, а управление устойчиво. Тимошенко, Булганин и Попов не смогли ничего путного сделать в тех условиях. При огромных наших потерях продвижение войск оказалось мизерным.
Для боевого успеха в тяжёлых условия сильнейшего огневого противодействия на заранее подготовленных позициях, требовалось создать военную машину, по огневой мощи и мобильности превосходящую противника. Андрей Иванович за 3 месяца создал, настроил и потом очень эффективно управлял такой машиной. Вот, как это было:
«На пути из Крыма в Москву я стремился осмыслить и отобрать из накопленного мною опыта руководства войсками в последних операциях полезное для своей предстоящей деятельности. Главное в этом опыте состояло в том, что необходимы стремительные, неожиданные для врага удары, ибо он старался теперь закрепиться на важных в стратегическом отношении рубежах с тем, чтобы по возможности превратить невыгодный ему теперь маневренный характер войны в позиционный. Эти расчеты были связаны с надеждой на выигрыш времени, которое Гитлер намеревался употребить, чтобы добиться сговора с нашими западными союзниками.
Из Генерального штаба я направился в ГКО, который теперь вновь размещался в Кремле. Разговор с И.В. Сталиным был недолгим. Действия Отдельной Приморской армии получили высокую оценку. Верховный Главнокомандующий сразу же сообщил мне, что я назначаюсь командующим 2-м Прибалтийским фронтом, общая задача которого состояла в проведении крупной наступательной операции совместно с 1-м Прибалтийским фронтом, конечная ее цель сводилась к освобождению Латвии, ее столицы Риги и побережья Рижского залива.
В конце нашей беседы было подписано и вручено мне постановление ГКО о назначении командующим войсками 2-го Прибалтийского фронта.
Верховный Главнокомандующий нелестно отозвался о деятельности командования 2-го Прибалтийского фронта.»
Для иллюстрации приведу такой документ.
в секретариат ГКО (II часть) СОВ. СЕКРЕТНО
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 1944 года № ГКО-5689сс
О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ КОМАНДОВАНИЯ 2-ГО ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
Москва, Кремль
2-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии Попова М. М. за полгода своего существования с 12 октября 1943 года по 12 апреля 1944 года провел 14 армейских и фронтовых операций.
Все проведенные за эти полгода операции, несмотря на превосходство в силах над противником и затрату на них большого количества боеприпасов, существенных результатов не дали и 2-й Прибалтийский фронт задач, поставленных перед ним Ставкой Верховного Главнокомандования, не выполнил.
Операция по преследованию противника, отходившего со Старо-Русского направления, в результате успешного наступления войск соседнего Ленинградского фронта, также была проведена неудовлетворительно. Отход противника своевременно обнаружен не был, соприкосновение с ним было утеряно, преследование велось вяло и медленно, что дало противнику возможность отходить планомерно, вывести свою технику, живую силу и закрепиться на заранее подготовленном рубеже.
Такое положение на 2-м Прибалтийском фронте явилось результатом неудовлетворительного руководства фронтом со стороны командующего фронтом генерала армии Попова и Члена Военного Совета фронта генерал-лейтенанта Булганина.
Генерал армии Попов и генерал-лейтенант Булганин не справились с руководством фронтом.
Командование фронтом, и в первую очередь командующий фронтом генерал армии Попов, не организует тщательной разведки противника. Только этим объясняется неожиданный, для командования 2-м Прибалтийским фронтом, и беспрепятственный уход противника из Старая Русса и Новосокольники.
Командование фронтом не знает степени готовности и возможностей своих войск и вследствие этого неправильно определяет возможные сроки начала операций, что приводит к неоднократным изменениям этих сроков, или же операции начинаются при явной неподготовленности войск.
В работе артиллерии 2-го Прибалтийского фронта имеют место крупнейшие недочеты, аналогичные отмеченным в докладе комиссии по Западному фронту, утвержденном Постановлением ГОКО от 12 апреля 1944 года за № 5606сс.
Командование 2-го Прибалтийского фронта зазналось, критически к своим недостаткам и ошибкам не относится и уроков из этих ошибок не извлекает. Правдиво о положении дел на фронте Ставке Верховного Главнокомандования не докладывало и не докладывает, а своими неправдивыми докладами и постановкой задач войскам, не соответствующих директивам Ставки, по существу, вводит Ставку в заблуждение.
Командование фронтом критики не терпит. Указания представителей Ставки и Генштаба на недостатки в работе командования фронтом встречает в штыки.
Исходя из вышеуказанного Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Генерала армии Попова М. М. снять с должности командующего 2-м Прибалтийским фронтом, как не справившегося с командованием фронтом, и снизить его в звании до генерал-полковника.
2. Генерал-лейтенанта Булганина отстранить от должности Члена Военного Совета 2-го Прибалтийского фронта как не справившегося со своими обязанностями.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
(РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д.241 Лл. 108-110,111)
Причины неудач наступательных действий в Прибалтике на первом их этапе раскрыты в книге С.М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны». Штеменко, побывавший с Маршалом Советского Союза Тимошенко в конце марта 1944 г. на 2-м Прибалтийском фронте и наблюдавший удар войск фронта 1 марта 1944 г., пишет, что продолжать наступление в тот момент не было смысла и его временно прекратили, так как враг яростно оборонялся. Нужно было выявить причины неудач и наметить задачи на будущее…
Ерёменко убыл к новому месту службы:
«Было около 2-х часов пополудни, когда мы приехали в Богданово. Машина остановилась около пятистенной колхозной избы, рубленной из добротного сосняка, здесь располагался пункт управления командующего фронтом. Вскоре сюда пришли вызванные дежурным командующий фронтом М.М. Попов и член Военного совета Н.А. Булганин.
Булганин встретил меня холодно. Дело в том, что еще в период моего командования 4-й ударной армией в начале 1942 г., когда Булганин был представителем Ставки ВГК на Западном фронте, мы с ним как-то не поладили.
После обмена обычными приветствиями на вопрос Маркиана Михайловича: «С какими вестями приехали к нам?» – я подал ему решение ГКО. Прочитав документ, он молча передал его Булганину. Стоит ли говорить, как неприятно подействовало содержание этой бумаги на обоих генералов. Начавшийся было разговор наш оборвался. Булганин, не сказав ни слова, быстро вышел из избы.
Не создавая никаких комиссий, подписали акт о том, что я принял, а генерал М.М. Попов сдал войска фронта, вооружение и имущество по состоянию на 20 апреля 1944 г. Одновременно мы подписали соответствующее донесение об этом в Ставку.
Быстрые переносы направлений ударов без скрупулезной маскировки и продуманной дезинформации противника не позволяли осуществить в полной мере замыслы командующего и начальника штаба. Как видно, поначалу генерал Попов и сам полагал, что осуществить наступление, располагая действительно солидными силами, будет нетрудно. Поэтому первая операция не была подготовлена всесторонне. Неудача вызвала обоснованные нарекания со стороны Ставки и затем началась спешка…
Изучая оперативные документы штаба, я установил также, что во фронте не всегда благополучно было с вопросами взаимодействия на поле боя между пехотой, танками и артиллерией, в особых условиях болотисто-лесистой местности.
В целом же в Рижской наступательной операции должны были принять участие три Прибалтийских фронта. Координацию действий 1, 2-го Прибалтийских и 3-го Белорусского фронтов осуществлял Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Общий замысел Ставки предусматривал отсечение прибалтийской группировки вражеских войск от остальных сил врага путем выхода наших войск к побережью Рижского залива; одновременное нанесение мощных ударов на ряде участков обороны группы армий «Север» имело целью расчленение ее сил и уничтожение их по частям.
Исходя из общего замысла Ставки, каждому командующему фронтом были поставлены конкретные задачи с учетом действий его соседей. 2-й Прибалтийский фронт первоначально получил задачу во взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом разгромить группировку войск противника севернее р. Даугава и овладеть г. Рига. Главный удар фронт должен был наносить силами 42-й и 3-й ударной армий в направлении Нитауре, Рига с ближайшей задачей к 14 сентября выйти на рубеж Нитауре, Мадлиена, Скривери (глубина 25–30 км). В дальнейшем фронту надлежало развивать наступление на Ригу.
Перед 1-м Прибалтийским фронтом стояла задача во взаимодействии с нашим фронтом разгромить противника южнее р. Западная Двина, выйти к реке и побережью Рижского залива западнее Риги и не допустить отхода армий «Север» в сторону Восточной Пруссии.
Противник продолжал возводить укрепления и усиливать группировку своих войск в Прибалтике.
3 сентября я провел совещание с высшим командным составом фронта, на котором ознакомил его с новой директивой Ставки, изложил свое предварительное решение и дал командирам и начальникам фронтовых управлений и служб указания по подготовке к операции. Суть предварительного решения сводилась к тому, что главный удар в этой операции должны были нанести 3-я ударная и 42-я армии.
1-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии И.X. Баграмян) согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования от 29 августа 1944 г. должен был нанести удар из района Бауски вдоль левого берега р. Даугава в общем направлении Иецавы, Риги с задачей разгромить войска противника, действовавшие южнее р. Даугава (16-я немецкая армия), и выйти на р. Даугава и побережье Рижского залива в районе Риги, не допустив отхода войск группы армий «Север» в сторону Восточной Пруссии. Ближайшая задача войск ударной группировки 1-го Прибалтийского фронта заключалась в овладении к исходу шестого дня операции рубежом Вецмуйжа, Иецава, дальнейшая – в развитии наступления к устью р. Даугава.
В результате Режицко-Двинской и Лубанско-Мадонской наступательных операций была освобождена восточная часть Советской Латвии.
Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 29 августа 1944 г. фронту была поставлена задача по подготовке и проведению Рижской наступательной операции.
В соответствии с планом 14 сентября 1944 г. все три Прибалтийских фронта одновременно перешли в наступление.
Наша надежда на внезапность не оправдалась. Противник сделал все для того, чтобы не допустить быстрого прорыва на кратчайшем пути, ведущем к Риге. К исходу девятого дня операции общая глубина вклинения в оборонительный рубеж «Цесис» на направлении главного удара 2-го Прибалтийского фронта достигла 16 км. В полосе же правого соседа – 3-го Прибалтийского фронта – противник начал общее отступление, и войска генерала армии И.И. Масленникова утратили соприкосновение с главными силами противостоявшей им группировки. В полосе нашего фронта вражеские войска продолжали вести бои весьма крупными силами, стремясь последовательно и организованно отходить с одного рубежа на другой.
Нужно прямо сказать, что наступление развивалось медленно. Причиной этому был не только характер местности, но и необычайное упорство противника.
Кроме того, в районе 1-го Прибалтийского фронта Шёрнер принял решение нанести контрудар. Немецкое командование стремилось любой ценой удержать как можно дольше в своих руках Ригу и район, прилегающий к ней, забыв о своих флангах. Характерно, что на мемельском направлении перед 1-м Прибалтийском фронтом на протяжении 120 км имелись всего две пехотные дивизии, несколько отдельных частей и небольшая танковая группа, а перед Ленинградским фронтом на островах Эзель и Даго оборонялась только одна пехотная дивизия немцев. Гитлеровцы, видимо, считали, что советское командование сосредоточит основные усилия исключительно на рижском направлении. Действительное развитие событий опрокинуло расчеты немецких генералов.
Ставка приказала командующему 1-м Прибалтийским фронтом генералу армии И.X. Баграмяну быстро перегруппировать свои войска на левый фланг и, нанеся удар в направлении Мемель, выйти на побережье Балтийского моря и отрезать прибалтийскую группировку немцев от Восточной Пруссии.
Перед 2-м Прибалтийским фронтом стояла задача, не останавливая наступления на Ригу, перевести 22 и 3-ю ударную армии на левый берег р. Даугавы, сменить 51 и 4-ю ударную армии 1-го Прибалтийского фронта и подготовиться к наступлению вдоль левого берега р. Даугавы на Ригу и Тукумс.
Наступление развивалось успешно. Противник перешел к методу подвижной обороны, его войска отходили от одного подготовленного рубежа к другому, приближаясь к северным и северо-восточным окраинам Риги. Наличие ряда хорошо подготовленных оборонительных рубежей в тылу позволяло гитлеровцам время от времени сдерживать темп нашего продвижения.
13 октября гитлеровцы, стремясь вывести из Риги войска и военное имущество, продолжали упорно оборонять подступы к южным окраинам города. Они опирались при этом на заранее подготовленный укрепленный городской обвод. Хорошо продуманная система огня, наличие танков и самоходных установок, а также частые контратаки затрудняли продвижение войск 10-й гвардейской армии, перед которыми стояла задача овладеть южной частью Риги.
К 23 часам 12 октября войска 3-го Прибалтийского фронта очистили от противника большой лесопарк (Межапарк) и вступили в северо-восточную часть города. Утром 13 октября правобережная часть Риги была освобождена. Поэтому 13 октября в Москве состоялся артиллерийский салют в честь освобождения Риги.
1 марта 1945 г. я покинул Прибалтику и выехал по вызову в Москву в связи с предстоящим назначением на другой фронт – на какой именно, я не знал.
Москва все еще казалась строгой и по-военному суровой, но все же в ней чувствовалось больше приветливости и оживления, чем в прежние мои посещения. Особую красоту столице придавали салюты, возвещавшие о новых победах наших войск на фронтах войны.
Теперь салюты гремели каждый вечер, а иногда и дважды. Вот и сегодня, в день нашего приезда, мощные репродукторы разнесли торжественные слова приказа Верховного Главнокомандующего о новых победах нашей Красной Армии. До этого мало кому известные населенные пункты, находившиеся где-то далеко на западе, за пределами нашей Родины. Сердце наполнялось гордостью за страну и за наш народ, мужественно вынесший тяготы первых лет войны, твердо и неуклонно идущий к полной победе. Лица людей, высыпавших на улицы, чтобы увидеть красочный фейерверк салютов, сияли радостью. Чувство уверенности в близкой победе невидимыми нитями передавалось по всей стране и касалось сердца каждого солдата на фронте и труженика на заводах и полях в самых отдаленных уголках страны. Оказываясь в тылу, и я каждый раз с волнением слушал звуки торжественной музыки салютов, хотя и не терпелось вновь попасть туда, где рождались они.
По приезде в Москву я остался жить в вагоне на Ржевском (ныне Рижском) вокзале, так как был уверен, что новое назначение получу скоро.
6 марта я был вызван в Кремль. В этот день председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР Михаил Иванович Калинин вручил мне медаль «Золотая Звезда», орден Ленина и Грамоту о присвоении звания Героя Советского Союза, а также ордена Ленина и Красного Знамени за долголетнюю и безупречную службу в Красной Армии.
21 марта Верховный Главнокомандующий принял меня в Кремле и объявил о назначении командующим 4-м Украинским фронтом. Это было мое десятое по счету назначение за период Великой Отечественной войны.»
Случилось такое назначение Андрея Ивановича в связи с тем, что уже знакомый нам генерал Петров, командуя 4-м Украинским фронтом был снят с формулировкой провала наступления на Моравску Остраву и обман Ставки. Вот что пишет об этом К. С. Москаленко:
«Встретив Петрова вместе с членом Военного совета А. А. Епишевым и командующим артиллерией армии полковником Н. А. Смирновым, я доложил, что войска готовы к наступлению, но условия погоды не позволяют начать артиллерийскую подготовку. Она не принесет ожидаемых результатов, говорил я, так как огонь можно вести лишь по площадям, а не по целям. В заключение изложил просьбу: позвонить Верховному Главнокомандующему и попросить перенести срок наступления.
И. Е. Петров не согласился.
– Сроки утверждены Ставкой, они окончательные, – ответил он. – Просить о переносе времени наступления не буду.
После этого он позвонил командующему 1-й гвардейской армией генерал-полковнику А. А. Гречко, который после доклада о готовности войск к наступлению подчеркнул нецелесообразность начинать артиллерийскую подготовку в сложившихся условиях. Прислушиваясь к разговору, я с теплым чувством подумал об Андрее Антоновиче Гречко: и ему опыт подсказывал необходимость отсрочки наступления, так что вдвоем нам, быть может, удастся убедить в этом И. Е. Петрова. К сожалению, командующий фронтом отклонил и просьбу А. А. Гречко.»
После провала наступления и объяснения со Ставкой Петров получил следующую телеграмму:
«Лично Петрову и Мехлису.
Ставка Верховного Главнокомандования считает объяснения генерала армии Петрова от 17.3.1945 г. неубедительными и указывает:
1. Командующий фронтом генерал армии Петров, установив неполную готовность войск фронта к наступлению, обязан был доложить об этом Ставке и просить дополнительное время на подготовку, в чем Ставка не отказала бы. Но генерал армии Петров не позаботился об этом или побоялся доложить прямо о неготовности войск. Член Военного совета фронта генерал-полковник Мехлис сообщил в ЦК ВКП(б) о недочетах в подготовке и организации наступления только после срыва операции, вместо того, чтобы, зная о неполной готовности войск, своевременно предупредить об этом Ставку.
2. Командование фронта и армий не сумело скрыть от противника сосредоточение войск и подготовку к наступлению.
3. Штаб фронта был разбросан, и большая часть его находилась в 130 км от участка наступления.
Проявленное в указанных недочетах неумение подготавливать операцию и определило ее неуспех. Ставка последний раз предупреждает генерала армии Петрова и указывает ему на недочеты в руководстве войсками.
Ставка Верховного Главнокомандования
Сталин
Антонов
17.3.1945 г. 18.30».
Ознакомившись с боевой обстановкой в Чехословакии по материалам, имевшимся в Генеральном штабе, и отличавшимся глубиной анализа, Ерёменко попросил разрешения выехать на фронт немедленно:
«Под вечер проехали станцию Рудня Погаювска. В этих местах 30 лет тому назад в первую мировую войну я впервые участвовал в бою, будучи командиром отделения в звании ефрейтора. В августе 1914 г. получил первое ранение в бою под Львовом. Будто вчера все было. И вновь судьба забросила меня сюда.
В 6 часов 26 марта я вступил в командование 4-м Украинским фронтом и сразу же погрузился в дела.
Изучив обстановку и выслушав мнение Военного совета армии, я пришел к выводу, что решение генерала И.Е. Петрова о наступлении на Моравску Остраву только силами 38-й армии не соответствует сложившейся обстановке.
Поздно вечером я принял общее решение на 27 марта. Смысл его сводился к тому, что 38-я армия продолжала наступление в прежнем направлении, а 1-я гвардейская и 18-я армии, наступая частью сил, главными силами производили перегруппировку и готовились к активным действиям. Это должно было воспрепятствовать переброске войск противника на направление главного удара. Необходимо немедленно добиться перелома.
Моравска Острава – главный пункт, который оборонялся противником на этом направлении, был превращен им в мощный узел сопротивления, но и севернее города по западному берегу р. Одер на десятки километров тянулись полевые укрепления, связанные между собой единой огневой системой и системой всевозможных заграждений.
С востока и северо-востока подходы к Моравской Остраве были прикрыты двумя оборонительными рубежами.
Каждый рубеж представлял собой систему мощных дотов, расположенных в две, а на отдельных направлениях в три и четыре линии с промежутками между дотами от 150 до 700 м. Вторая и последующие линии находились на расстоянии 250–600 м от первой. Доты по качеству постройки и мощи вооружения относились к типу первоклассных сооружений.
По своей конструкции они представляли железобетонные орудийно-пулеметные капониры и пулеметные полукапониры и имели от 2 до 9 амбразур.
Характерной особенностью расположения дотов на местности было отсутствие амбразур в напольной лобовой стенке. Амбразуры располагались по бокам и в тыловой стенке с расчетом на ведение флангового и тыльного огня. При этом из амбразур каждого сооружения можно было полностью просматривать промежутки между двумя соседними дотами и подступы к выходам из них. Расположение дотов было произведено с учетом окружающей местности и давало возможность обстрела всех лощин и высот.
Система дотов на переднем крае и в глубине создавала многослойный артиллерийско-пулеметный огонь и плотно прикрывала подступы к укреплениям. Доты хорошо были замаскированы от наземного и воздушного наблюдения: с напольной стороны стенки засыпались землей, а с тыльной стороны маскировались кустами и маскировочными сетями.
Пятиамбразурные и девятиамбразурные доты – двухэтажные сооружения, имевшие на вооружении по 2 пушки и по 3–7 пулеметов, толщина наружных стен – 1,1–1,2 м, толщина перекрытия – 2,3 м, высота над уровнем земли – 3–4,7 м.
В первые дни наиболее успешно наступление развивалось на смежных флангах 60 и 38-й армий. Уже на третий день наступления левофланговые соединения 60-й армии совместно с 31-м танковым корпусом при поддержке штурмовой авиации вышли к р. Опава в районе Краварже и овладели населенными пунктами Нассидель, Олдржихов, Краварже.
В боях 18 апреля наступающие части 60 и 38-й армий расширили плацдарм на южном берегу р. Опава до 10 км по фронту и овладели несколькими населенными пунктами.
Таким образом, в результате успеха, достигнутого 60 и 38-й армиями, был вбит клин между двумя важными опорными пунктами врага – Моравской Остравой и Опавой. Перерезав железнодорожную линию, соединяющую эти два города, и форсировав р. Опава, мы выходили в тыл гарнизону Моравской Остравы и угрожали с запада сосредоточенным там войскам противника.
Чтобы преодолеть сложную долговременную оборону врага, надо было найти слабые стороны дотов, способы их блокировки и штурма. Эти способы были найдены самими нашими командирами и бойцами.
Дело в том, что все доты были связаны единой огневой системой. Они защищали друг друга. Огонь из дотов сочетался с огнем из окопов и траншей, расположенных перед дотами и вокруг них. Подобраться было к ним очень трудно и огнем артиллерии разрушить почти невозможно. Вместе с тем в этом же заключалась и одна из слабых сторон такой системы обороны. Оказалось, что стоило захватить и уничтожить хотя бы один дот, как стройная огневая система нарушалась, что облегчало подход к другим дотам и уничтожение их.
Оставив в тылу отдельные доты блокированными, пехотинцы и танкисты ворвались в северо-восточное предместье Опавы, очистили его и подошли к р. Опава. Гитлеровцы подготовили мост к взрыву, но наши саперы перерезали шнуры. Это позволило штурмовым группам с вечера 21 апреля завязать бои на правом берегу за город.
Гитлеровцам было приказано сражаться до последнего, на оборону города были брошены наспех сколоченные роты из запасных и тыловых подразделений, а также из разгромленных полков и дивизий. Но удар наших войск был настолько силен, что удержаться врагу не удалось. К 17 час. 22 апреля город Опава был занят нами полностью.
На следующий день по радио был передан приказ Верховного Главнокомандующего о том, что войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, к исходу 22 апреля на территории Чехословакии штурмом овладели г. Опава – важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев. В 23 час. 30 мин. столица нашей Родины Москва салютовала войскам 4-го Украинского фронта 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
К исходу 29 апреля штурмовые группы, овладев многими дотами, сильно расстроили огневую систему противника. В обороне фашистов с северо-запада была пробита брешь.
Таким образом, к исходу 29 апреля наши войска подошли вплотную к Моравской Остраве. Предстоял штурм города, вернее, сразу нескольких городов, тесно связанных между собой.
К 18 часам Моравска Острава и прилегающие к ней города Витковице, Мариански Горы и другие полностью были в наших руках. Противник потерпел здесь полное поражение. По нашим подсчетам, только за один день 30 апреля противник понес следующие потери (в основном в боях за Моравску Остраву): убитыми – свыше 2500 человек, пленными – 3000 человек, захвачено орудий – 129, минометов – 34, пулеметов – 151, винтовок и автоматов – 3340, грузовых автомашин – 604, в том числе 100 с различным грузом, легковых автомашин – 117, повозок – 335, танков и СУ – 18 и т. д. Кроме того, уничтожено и повреждено: орудий – 57, минометов – 25, пулеметов – 118, автомашин – 251, бронетранспортеров – 2, танков – 15, повозок – 150, винтовок и автоматов – 1800, складов разных – 45.
В честь освобождения важнейшего индустриального центра Чехословакии г. Моравска Острава и прорыва мощной полосы обороны противника был дан салют в Москве двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами, и Верховный Главнокомандующий объявил благодарность всем частям и соединениям, принимавшим участие в этой ответственной операции.
Освобождение Моравской Остравы нашими войсками было значительным этапом на пути к окончательному разгрому фашистской Германии и весьма важным событием для чехословацкого народа. Чехословакии был возвращен один из крупнейших городов – важный промышленный центр.
Вечером 30 апреля 1945 г. на улицах Моравской Остравы было, казалось, столько флагов, сколько жителей в городе. Флаги в каждом окне, в руках у каждого проходящего, их поднимали вверх, ими размахивали мужчины, женщины и дети. Улицы запружены ликующими людьми в праздничных нарядах.
Моравску Остраву мы брали в обход, нанося удар по сильным долговременным укреплениям, хотя была возможность прямым ударом с применением авиации и артиллерии большой мощности взять город без излишних усилий, но это могло бы вызвать большие жертвы и нанести ущерб его промышленности.
Фашистское командование вывезло из города все запасы продовольствия. Ко мне вскоре после того, как я был избран почетным гражданином Остравы, явились члены Народного Выбора и представители пролетариата города с просьбой помочь населению. По распоряжению командования фронта для жителей Остравы было выделено несколько тысяч тонн муки, хотя мы сами в то время имели весьма ограниченные ресурсы продовольствия.
В боях было выведено из строя свыше 70 тыс. солдат и офицеров, 690 орудий, 400 минометов, 370 танков и СУ, 176 самолетов. Захвачено 17 500 пленных, 671 орудие, 444 миномета, 1387 пулеметов, 130 танков и СУ, 800 автомашин, 1100 вагонов и паровозов, много другого оружия, техники и военного имущества.
Было освобождено 16 крупных городов и свыше 600 населенных пунктов.
После капитуляции Берлина, разгрома группы армий «Висла» и еще некоторых наспех сколоченных объединений к началу мая Красной Армии продолжали оказывать организованное и весьма сильное сопротивление три группы войск южного стратегического направления: «Центр», «Австрия» и «Юг». Следует отметить, что силы Красной Армии, которые могли быть немедленно противопоставлены данной группировке, имели лишь незначительное превосходство в личном составе, артиллерии и авиации, а в танках даже уступали противнику. В это время в Праге и непосредственно прилегающих к ней районах началось восстание. 5–6 мая ряд стратегически важных объектов столицы Чехословакии фактически оказался в руках восставших, правда, сорокатысячный германский гарнизон не сложил оружия. Во главе стихийно поднявшихся масс стояли коммунисты. Командование фронтом получило радиограмму от руководителей восстания с просьбой оказать как можно скорее помощь пражанам. Восстание в Праге смешало карты Шёрнера, ибо лишь через столичный узел транспортных магистралей он мог отвести свои войска на запад для капитуляции перед американцами. Над населением Праги, древней столицы братских чешского и словацкого народов, нависла угроза варварского уничтожения со стороны озверевших гитлеровцев. Вечером 5 мая Шёрнер отдал приказ: «Восстание в Праге должно быть подавлено любыми средствами»
Войскам 1-го Украинского фронта было приказано, закончив необходимую перегруппировку, начать стремительное наступление на Прагу. Серьезную задачу предстояло выполнить и 2-му Украинскому фронту, он усиливался одной армией из состава 3-го Украинского фронта и должен был нанести удар на Прагу из района южнее Брно.
Войска 4-го Украинского фронта двигались к столице Чехословакии с востока. Наиболее коротким и сравнительно более удобным путем для них могла служить Оломоуцкая долина, являвшаяся как бы естественными воротами к Праге. Поэтому Шёрнер создал в районе Оломоуца на весьма выгодном для обороны рубеже прочный узел сопротивления.
Для войск 4-го Украинского фронта в ходе наступления на Прагу ближайшей задачей было овладение г. Оломоуц, по существу, последним наиболее важным пунктом на пражском направлении при ударе с востока.
По указанию Ставки и по нашему плану на Оломоуц должен был наноситься удар двух армий в сходящихся направлениях: 60-й армии с севера и 40-й армии 2-го Украинского фронта с юга. После этого планировалось общее наступление на запад на Прагу во взаимодействии с остальными войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов, выходившими в этот район с целью отрезать всю группу армий «Центр» и не дать ей возможности отойти в западном направлении.
9 мая кольцо вокруг всей чехословацкой группировки немецких войск, которые отказались сложить оружие, было полностью замкнуто. В последнем для гитлеровцев гигантском «котле» оказалась более чем полумиллионная группировка дезорганизованных, потерявших управление и боеспособность немецких войск. С выходом наших войск к Праге путь на запад войскам группы армий «Центр» оказался отрезанным.
Несмотря на это, в полосе действий 4-го Украинского фронта противник, отказавшись капитулировать и сдаться в плен советским войскам, с боями отходил в западном направлении. На пути своего отступления гитлеровцы взрывали мосты, минировали дороги и подрывали свои орудия, танки, автомашины, самолеты и склады. Все это было безрассудно, но фанатичные фашистские сатрапы не считались ни с чем.
Для преследования противника нами были созданы подвижные группы. Стремительно продвигаясь вперед, они опрокидывали арьергарды противника, разоружали его, захватывали в плен одну за другой фашистские дивизии. Дисциплина и порядок в рядах гитлеровцев заметно падали. Но они еще далеко не утратили боеспособности. Войска фронта устремились к Праге по двум оперативным направлениями, нанося удары по колоннам противника. Танки шли по маршрутам: Опава – Шумберг – Градец Кралове – Прага и Оломоуц – Пардубице – Прага. За танковыми колоннами на автомашинах и бронетранспортерах двигалась пехота.
Стремительными ударами этих подвижных групп по всем направлениям уничтожался противник, который повсюду оставлял свои разбитые, раздавленные и сваленные в кюветы танки, орудия, автомашины, мотоциклы. Дороги заполнялись жителями окрестных сел и городов, с облегчением и радостью возвращавшихся к родному очагу.
В течение 9 и 10 мая войска фронта взяли в плен более 20 тыс. солдат и офицеров из группировки Шёрнера (главным образом 1-й танковой армии), захватили огромные военные трофеи. 10 мая под ударом наших наземных и воздушных сил войска Шёрнера были окончательно дезорганизованы. Потеряв связь и управление, гитлеровцы начали массовую сдачу в плен. К этому времени была освобождена центральная часть Чехии, войска фронта вышли на рубеж Рождяловице, Нимбург, Чески Брод, Кутна-Гора, Хотеборж.
После капитуляции немецких войск с 9 по 13 мая в руки войск фронта попало около 130 тыс. пленных, в том числе два генерала. Были захвачены трофеи, вся боевая техника и военное имущество Германии, находившееся в этой части Чехословакии: самолетов – 219, орудий – 1354, танков, САУ и бронетранспортеров – 298, минометов – 510, пулеметов – 2782, винтовок и автоматов – 43 500, автомашин и тягачей – 10 172, лошадей – 7900 и т. д.
Действия 4-го Украинского фронта в последние недели войны характеризовались упорными кровопролитными боями в сложных условиях местности, благоприятствовавшей врагу в организации обороны.
Настойчивые удары фронтов, наступавших с востока на главные узлы сопротивления группы армий «Центр», притянули основные силы, принудили врага вести изнурительные кровопролитные бои, лишили его свободы маневра. Эти моменты имели весьма важное значение на заключительном этапе войны. Они, во-первых, позволили сохранить в почти неповрежденном состоянии промышленный потенциал Чехословакии, спасли страну от тактики «выжженной земли».
Удары войск 4-го Украинского фронта воспретили крупным массам войск противника сдаться в плен американцам.
Войска фронта взломали долговременную, стационарную оборону. Эти бои показали, что в условиях минувшей войны никакие самые прочные оборонительные сооружения не способны устоять против хорошо подготовленного наступления.
Очень важную роль в спасении столицы Чехословакии сыграло принятое Ставкой Верховного Главнокомандования решение об ударе войск 1-го Украинского фронта из-под Дрездена на Прагу и последовавшие затем стремительные действия войск Маршала Советского Союза И.С. Конева.
В результате тесного, слаженного взаимодействия трех фронтов (4, 1 и 2-го Украинских) с входившими в их состав воинскими формированиями Чехословакии, Польши и Румынии было завершено окружение всей группировки врага, оказавшей сопротивление после капитуляции.
4-й Украинский фронт за время боевых действий на территории Чехословакии освободил 8 крупных, 54 средних, 310 малых городов – всего около 500. 16 раз Москва салютовала войскам фронта. Они освободили наибольшую часть территории Чехословакии.
Чехословацкие друзья показывали мне села и города, начисто сметенные с лица земли американской артиллерией и авиацией лишь потому, что десяток потерявших остатки разума эсэсовцев сделали несколько выстрелов по вступившим в этот город или село без боя войскам американцев. В таких случаях мотопехота наших союзников по приказу своего командования быстро отходила от населенного пункта. Вызывалась бомбардировочная авиация и артиллерия большой мощности. Их удар уничтожал город или село нередко со всем его населением. Характерно, что американская авиация за несколько дней до окончания войны бомбила чехословацкие города, совершенно не имевшие никаких военных объектов. Целью таких бомбардировок было разрушение промышленного потенциала Чехословакии и устранение конкурентов.
Советские войска, наоборот, стремились во что бы то ни стало сохранить индустриальные центры Чехословакии. Примером этому служит овладение Моравской Остравой.
10-12 мая я провел в освобожденной столице Чехословакии. Надо было быть очевидцем того торжества, которое переживала в эти дни Прага, чтобы понять, от каких мук и страданий избавила Красная Армия чехословацкий народ. Нам, видевшим Прагу в эти теплые майские дни, украшенную флагами и убранную цветами, наполненную неуемным веселым шумом ликующей толпы, все это было ясно, как никогда. Колонны наших войск, грузовики с пехотой, танки, бронетранспортеры, артиллерия беспрерывным потоком двигались по магистралям огромного города. Порой этот поток останавливался – улица не могла вместить всех, кто вышел приветствовать Красную Армию. Женщины и дети взбирались на броню танков, на грузовики, обнимали и целовали солдат и офицеров, осыпали боевые машины букетами ароматной сирени, яркими тюльпанами. В воздухе звучали возгласы дружбы и благодарности: «Братья, вы спасли нашу Прагу!», «Вы вернули нам Родину и свободу!», «Чехословакия не забудет вашего подвига».
Не забыли. В 1968 году эти самые чехи убивали наших солдат, жгли наши танки. Теперь, вероятно обрели своё подлое счастье под вожделенными потреблятскими голубыми знамёнами проамериканского Евросоюза.
С именем Андрея Ивановича Ерёменко связана одна из загадок завершающего этапа войны. Теперь достаточно хорошо известно, что тел Гитлера и Бормана не нашли в поверженном Берлине. Труп человека, обнаруженный рядом с трупом Евы Браун не подходил для Гитлера по возрасту. При анализе костей черепа этого трупа был безошибочно определён возраст – до 30 лет. Борман же вообще безследно исчез.
В 1970 году фронтовик журналист и писатель Борис Тартаковский получил приглашение о встрече от Андрея Ивановича, который находился в военном госпитале. Понимая, что дни его сочтены, Ерёменко не захотел унести с собой одну из тайн прошедшей войны. Он рассказал Тартаковскому о судьбе Мартина Бормана. Тот, по словам полководца, был никто иной, как особо законспирированный советский разведчик. Откуда Еременко знал об этом и почему открылся Тартаковскому, последний не уточняет, однако услышанное настолько его поразило, что он последующие двадцать лет посвятил архивным розыскам и собиранию сведений о Бормане. Результатом этой титанической работы стала его документальная повесть «Мартин Борман — агент советской разведки». В ней прослежен весь жизненный путь Бормана, кончая майскими событиями в Берлине в 45-м. Вот как это выглядит в очень сжатом пересказе.
В первой половине 20-х гг. в СССР в очередной раз приехал глава немецких коммунистов Эрнст Тельман (всего он, с 1921 г., побывал у нас более десяти раз). Посетив некоторые советские предприятия, он затем, сопровождаемый комкорами Я.К.Берзиным и А.Х.Артузовым, занимавших крупные должности в системе ГРУ РККА, приехал в расположение 2-й Червоноказачьей дивизии имени Немецкой Коммунистической партии. Именно там и произошел разговор Тельмана с Артузовым и Берзиным, в котором была высказана мысль о желательном внедрении коммунистического агента в ближайшее окружение Гитлера. Руководители СССР понимали, что рано или поздно нашей стране придется столкнуться с Германией, а потому «свой человек» в ее потенциально властных эшелонах был просто необходим.
Тельман ответил, что у него есть на примете подходящая кандидатура. Это проверенный парень, его хороший знакомый из «Союза Спартака» Мартин Борман, известный немецким коммунистам как «товарищ Карл». Рекомендация Тельмана была порукой для Берзина и Артузова, и вскоре в Ленинград прибыл на пароходе «товарищ Карл». На машине его привезли в Москву, где представили И.В.Сталину. «Товарищ Карл» уже был в курсе предстоящего разговора и по его окончании дал согласие на внедрение в Национал-социалистскую рабочую партию Германии. Так начался его путь к вершинам власти Третьего рейха. Этому, помимо ума и большой воли, какими отличался «товарищ Карл», способствовало и то обстоятельство, что он лично знал Адольфа Гитлера. Они познакомились на фронте во время Первой мировой войны, когда Гитлер еще был ефрейтором Шикельгрубером.
Используя все возможности, постоянно находясь на грани смертельного риска, «товарищ Карл» сумел войти в полное доверие к фюреру, став его ближайшим помощником и сосредоточив, таким образом, в своих руках громадную власть. Его сотрудничество с нашей разведкой не прекращалось, и советское руководство регулярно получало донесения о всех планах Гитлера.
Именно «товарищ Карл» (Гитлеру и всем фашистским бонзам он был, конечно, известен как Мартин Борман), начиная с июля 1941 г., стенографировал застольные беседы Гитлера, которые ныне известны как «Завещание Гитлера» (впервые издано во Франции в 1959г.). Именно его подпись, вместе с подписями Геббельса, Кребса и Бургдорфа, стоит под личным завещанием Гитлера; именно он (вместе с Геббельсом) стоял у покоев фюрера в рейхсканцелярии, дожидаясь самоубийства Гитлера и Евы Браун. Именно под его руководством состоялось сожжение их тел. Это произошло в 15 ч 30 мин.30 апреля 1945 г., а в 5 ч утра 1 мая Борман передал по рации сообщение советскому командованию о месте своего нахождения. Дальнейшие события развивались так. В 14 ч к зданию рейхсканцелярии подошли советские тяжелые танки. На головном прибыл сам начальник военной разведки СССР генерал Иван Серов, на остальных — бойцы спецназа. Они были организованы в несколько групп; во главе группы захвата встал сам Серов. Спецназовцы скрылись в рейхсканцелярии и через некоторое время вышли оттуда, ведя под руки человека, на голову которого был надет мешок. Его подвели к стоявшей поодаль «тридцатьчетверке», подняли на броню и опустили в люк. Тартаковский ничего не сообщает о дальнейшей судьбе Бормана, но точно указывает место, где погребен он, — Лефортово. Именно на тамошнем кладбище, как уверяет Тартаковский, есть заброшенный памятник, на котором выбита надпись: «Мартин Борман, 1900-1973 гг.».
Вот перед нами славная боевая жизнь, какая была уготовлена маршалу Ерёменко. Тяжёл оказался маршальский жезл полководца, не минула его хула и клевета завистников. Наш долг очистить от этого светлую память об Андрее Ивановиче.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.