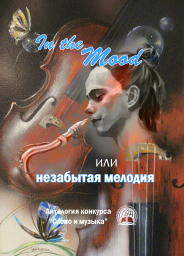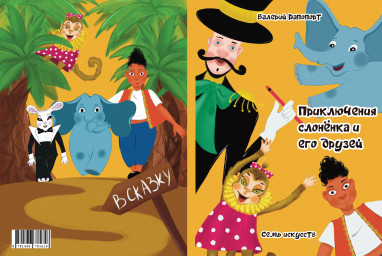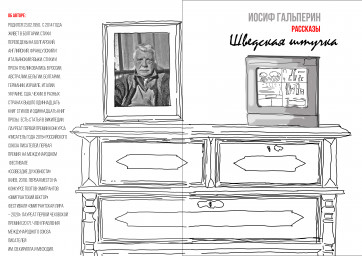Столетие гибели линкора Императрица Мария
«Безнаказанность в России в моде, ею щеголяют. А оттого непрестанные у нас аварии с морскими и даже Императорскими судами… Везде измена, везде угрозы жизни и государственному имуществу. Так и впредь будет при слабом управлении», — говорил в начале кровавого ХХ века Святой Праведный Иоанн Кронштадтский.
Что же так поразило Всероссийского Батюшку в авариях судов? Дерзну предположить, что служение Иоанна Ильича происходило в морской твердыни России, и он достаточно хорошо знал великого флотоводца адмирала Степана Осиповича Макарова. Макаров погиб при невыясненных обстоятельствах на эскадренном броненосце «Петропавловск» в нескольких милях от крепости Порт-Артур. Вероятно, гибель хорошо знакомого, близкого по духу и взглядам, глубоко православного человека могла сильно взволновать священника. Измена и слабое высшее управление, как первопричина случившегося выявлены прозорливым праведником достаточно ясно. Так было и впредь. Погибли по этим причинам «Петропавловск» в 1904 году, «Императрица Мария» в 1916 году, «Пересвет» в 1917 году, «Новороссийск» в 1955 году, «Курск» в 2000 году.
После крайне неудачного для России начала войны на Дальнем Востоке, адмирал Макаров был направлен царём в Порт-Артур для перелома хода боевых действий. С собой Макаров взял мастеровых с петербургских и кронштадтских заводов для скорейшей починки повреждённых судов. Вот среди этого контингента и привёз он своих будущих убийц. Это было ублюдочное племя нигилистов сатанинского толка, которое люто ненавидело Россию, как единое государство — основу православного мира. Все государевы люди, офицеры, а особенно выдающиеся, вызывали у таких уродов лютую неприкрытую злобу. Как правило, подобных мерзавцев плотно опекали разведслужбы государств, исконных противников Российской Империи. Японская разведка не была исключением.
Командование японской армии и флота прекрасно понимало, что наибольшую опасность для успешного исхода войны представляет мощная, осенённая победным светом Божьей благодати фигура адмирала Макарова. Они не жалели сил и средств на подготовку убийства своего главного врага, что вполне логично и объяснимо.
Взгляды Макарова на ведение боя основывались на десятилетних изысканиях адмирала в области морской тактики. Именно ему принадлежал мировой приоритет в определении тактики как науки, изучающей «элементы, составляющие боевую силу судов, и способы наивыгоднейшего их употребления в различных случаях на войне». Обобщающим теорию и практику трудом адмирала явились «Рассуждения по вопросам морской тактики» (1897 год). Однако этот труд стараниями разных высокопоставленных уродцев с мастерками не был официально принят в Русском флоте и не сформировался в руководящий документ, хотя был известен большинству морских офицеров, а также получил известность за рубежом.
Степан Осипович Макаров прибыл в Порт-Артур 24 февраля, поднял свой флаг на крейсере «Аскольд», но через три дня перенёс его на «Петропавловск» и деятельно начал готовить флот к активным действиям. При нём усиливались учебные тренировки экипажей, корабли были приведены в боевую готовность.
Самый сильный броненосец «Цесаревич», достойный стать флагманским кораблем Макарова, к его прибытию в Порт-Артур находился в ремонте. Так стечение обстоятельств навсегда связало судьбы С. О. Макарова и «Петропавловска».
Эскадренный броненосец «Петропавловск», построенный на верфи Галерного островка в Петербурге в 1892—1898 годах, при водоизмещении около 11400 т развивал скорость свыше 16 уз. Главное вооружение корабля составляли четыре 305-мм, двенадцать 152-мм орудий и шесть минных (торпедных) аппаратов. Противоминная артиллерия калибром 37 и 47 мм к началу войны считалась уже недостаточной для отражения атак миноносцев, но усилить ее не успели. На броненосце хранился значительный минный запас: в дополнение к 18 боевым зарядным отделениям мин Уайтхеда (торпед) в носовом минном погребе помещались несколько десятков якорных мин заграждения (по табелю — 50). Каждая мина была снаряжена 55 килограммами пироксилина. Погреб располагался в непосредственной близости от крюйт-камеры 305-мм башни, в которой хранились 120 боевых зарядов, упакованных в шелковые картузы и медные пеналы. Опасное соседство! Оно было характерно не только для «Петропавловска», но и для всех броненосцев того времени. Разнообразное вооружение — вплоть до ручного огнестрельного и абордажного оружия, не считая десантных пушек, минных катеров и т. п., — отражало стремление сделать броненосец «многоцелевым» кораблем. Поэтому мины закономерно вписывались в принятую схему вооружения, пересмотреть которую заставил лишь опыт русско-японской войны.
С декабря 1901 года «Петропавловском» командовал капитан 1 ранга Н. М. Яковлев. Старшим офицером броненосца являлся капитан 2 ранга Ф. В. Римский-Корсаков, младший сын известного в прошлом моряка Воина Андреевича, начальника Морского училища. Старшего артиллериста «Петропавловска» лейтенанта Любима Кнорринга в числе других отличившихся наместник представил к награде за бой 27 января под Порт-Артуром. Штатный экипаж броненосца насчитывал в общей сложности 673 человека. Фактически же вместе со штабом в море выходили до 730 моряков.
В течение последующего месяца корабль вместе с эскадрой совершил пять выходов в море для отработки совместного маневрирования. Началась активная минная война, были отбиты попытки японцев закрыть выход из порт-артурской гавани с помощью затопления брандеров. Русские корабли стали смелее выходить в море. Все это усилило боеспособность флота и укрепило боевой дух личного состава. 9 марта русская эскадра в течение двух часов вела перестрелку с практически всем японским флотом.
Все тяготы войны Макаров разделял со своими боевыми товарищами. Себе он не собирался делать никаких исключений и поблажек. Даже в отношении питания (хотя в крепости не наблюдалось пока недостатка продовольствия, да и сообщение еще не было прервано). Здесь уместно полностью привести один его приказ, который лучше всяких эпитетов охарактеризует эту достойную щепетильность русского адмирала:
«29 февраля 1904 года. Рейд Порт-Артура.
Ввиду необходимости часто переносить флаг с одного судна на другое или на миноносец, предлагаю впредь во всех случаях, когда я внезапно приеду в море для того, чтобы остаться на продолжительное время, записывать меня и прибывших со мной чинов штаба на довольствие, а в случае недостатка провизии — на матросскую порцию, и тотчас же делать распоряжение, чтобы ко времени раздачи пищи была готова таковая для меня и для чинов штаба без всяких улучшений против обыкновенной нормы.
Вице-адмирал Макаров».
Русская Тихоокеанская эскадра готовилась к бою. Корабли неоднократно покидали рейд, выходя в море и маневрируя вокруг крепости. Об активности русского флота под руководством Макарова можно судить из такого сравнения: за месяц с небольшим его пребывания в Порт-Артуре эскадра в полном составе выходила в море шесть раз, а за последующие десять месяцев обороны Порт-Артура — только три раза.
Вечером тридцатого марта Макаров отправил два отряда миноносцев на разведку. Ночь он провел на крейсере «Диана», который дежурил у входа в порт-артурский рейд. Адмирал опасался, что японцы повторят попытку заблокировать гавань, и старался все время быть в авангарде своих сил. За последние дни он очень устал, но лег спать, как обычно, не раздеваясь и заснул в кресле своей каюты.
Около полуночи его разбудили. Встревоженный командир крейсера доложил, что вдали замечены силуэты каких-то судов. Макаров поднялся на мостик. Сколько он ни всматривался в даль, ничего не удалось заметить. Было пасмурно, шел дождь. Адмирал спустился вниз и опять заснул, но ненадолго. Его вновь разбудили по тому же поводу: возникло подозрение, что японские корабли, скрытые дождем и мраком, ставят мины. Макаров вместе с вахтенными опять пытался рассмотреть что-нибудь сквозь влажную мглу и снова ничего не увидел.
Так и неясно, почему адмирал в этом случае не приказал открыть огонь или, по крайней мере, осветить подозрительный район прожекторами? Позже некоторые очевидцы высказывали предположение, что он опасался обстрелять собственные миноносцы, которые из-за неисправностей или иных причин могли раньше времени возвратиться обратно с боевого задания. Однако многие иные (и в частности, офицеры с «Дианы») полностью отвергают эту версию. Как бы то ни было, истинная причина такого странного поведения Макарова навсегда, видимо, останется неизвестной.
С наступлением утра возвратились русские миноносцы, посланные накануне в разведку. Однако пришли не все. Миноносец «Страшный» заблудился в тумане и отстал от своих. Уже на подходе к Артуру он был окружен большим отрядом японских кораблей. Вскоре на рейде крепости услыхали отдаленный гул артиллерийского боя. Узнав об этом, Макаров тотчас направил к месту сражения крейсер «Баян».
… Сигнальщики на мачте крейсера увидели первыми: все кончено разбитый снарядами «Страшный» уходил под воду. С «Баяна» открыли огонь по японским кораблям, те отвечали. На том месте, где только что затонул русский миноносец, «Баян» остановил ход. Спустили шлюпку, выловили оставшихся в живых. Их оказалось немного, всего пять человек. Теперь уже участь «Страшного» угрожала и самому «Баяну»: с юга показалась эскадра японских крейсеров. Командир «Баяна» отвернул обратно на соединение с главными силами русского флота.
В шесть часов утра Макаров приказал кораблям эскадры выходить на внешний рейд. Через час из гавани вышел флагманский броненосец «Петропавловск», за ним двинулись «Полтава», «Победа», «Пересвет», крейсера. Где же броненосец «Севастополь»? Макаров приказал поднять сигнал. Ему ответили, что портовые буксиры никак не могут справиться с тяжелым кораблем. Макаров остался очень недоволен, но, тем не менее, повел эскадру в море. Вперед вышел «Баян». Когда крейсер проходил мимо «Петропавловска», адмирал сигналом поздоровался с командой и поблагодарил ее за хорошую службу.
Русские корабли энергично атаковали японскую крейсерскую эскадру и заставили ее отступить, нанеся повреждения некоторым вражеским кораблям. Вскоре, однако, Макарову пришлось прекратить преследование, ибо на горизонте появились главные силы японского флота во главе с адмиралом Того. В девять часов утра вся русская эскадра легла на обратный курс — в Артур. Впереди шел «Петропавловск» под флагом командующего флотом.
Погода к этому времени резко начала меняться: все предвещало ясный, солнечный день. Дул порывистый, холодный ветер, поднимая легкую зыбь. Макаров и его штаб находились на мостике «Петропавловска». Здесь же был художник Василий Васильевич Верещагин со своим неизменным альбомом. Известнейший русский баталист, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет отличался юношеской подвижностью и отвагой. Он, во что бы то ни стало, хотел лично участвовать в морском бою.
Макаров, стоя на мостике в распахнутой шинели, оживленно давал пояснения Верещагину, собиравшемуся сделать зарисовки эскадры. Японские корабли маневрировали в отдалении. Орудия, недавно грохотавшие, умолкли. До входа в гавань оставалось совсем мало. Было 9 часов 39 минут утра...
В кильватер «Петропавловску» шли броненосцы «Победа», «Полтава», «Пересвет», а за ними крейсера «Баян», «Диана», «Аскольд» и «Новик», далее мелкие корабли.
На мостике «Петропавловска» стоял Макаров. Он говорил громко и энергично:
— Да-с, дорогой Василий Васильевич, это и есть главные силы японского флота, вот они, любуйтесь, пока все корабли адмирала Того еще целы!
И Макаров указал на горизонт, где серой цепочкой вытянулась вражеская эскадра. Рядом с адмиралом стоял пожилой, седобородый, но очень крепкий с виду человек в гражданском пальто и меховой шапке — художник Верещагин. В руках он держал альбом и большой карандаш.
— Значит, первым идет, надо полагать, броненосец «Микаса»? — спросил художник, указывая карандашом на горизонт.
— Так точно, это флагманский корабль адмирала Того. А за ним следуют… Да что это я! Мичман Шмитт, потрудитесь-ка перечислить корабли противника господину Верещагину! Посмотрим, как вы разбираетесь в силуэтах.
— Слушаюсь! — Младший флаг-офицер (адъютант) адмирала приложил к глазам бинокль и четко, как на экзамене, доложил: — Эскадра противника следует в составе броненосцев «Фуджи», «Асахи», «Хацусе», «Шикишима», «Яшима» и броненосных крейсеров «Кассуга» и «Ниссин».
— Верно! — одобрил адмирал, и обернувшись к художнику, продолжал с прежней напористой быстротой: — Видите, какое у них пока превосходство в силах: шесть броненосцев и два тяжелых крейсера — и это только под стенами Артура, и невдалеке еще гуляет эскадра адмирала Камимура из шести броненосных крейсеров. А мы имеем сейчас только пять исправных броненосцев, да и то «Севастополь», шут его побери, не смог вовремя выйти из гавани.
— Степан Осипович, а когда, вы полагаете, вступят в строй «Ретвизан» и «Цесаревич»? — спросил Верещагин, непрерывно делая какие-то наброски в альбоме.
— Скоро, очень скоро, Василий Васильевич! Тогда наши силы хоть и будут уступать японцам, но уже не так, как нынче. Все пойдет на лад, я в этом уверен. И вы еще своими глазами увидите наши победы. Знаете, русский человек медленно запрягает, да быстро скачет.
— А кроме того, — Верещагин, улыбаясь, обернул лицо к Макарову, русский человек под хорошим руководством может делать чудеса...
Макаров как-то неопределенно повел плечами:
— Меня цитируете! Ну что ж, никогда от этих своих слов не откажусь. Да, делает чудеса, когда есть Александр Невский, Петр Великий и Суворов. И еще не одно чудо покажет, точно вам говорю! Ну-с, а что до меня, грешного, то хорош я или плох, пусть потомство рассудит, но одно уж точно: коли суждено нам будет войну проиграть, то живым я этого конца не увижу.
— Что за мрачные мысли, адмирал! — серьезно сказал Верещагин. — Все идет на лад, вы же сами знаете, какой сейчас подъем на эскадре!
— Не сглазьте, Василий Васильевич, — шутливо погрозил ему пальцем Макаров, а затем, резко обернувшись в другую сторону, совсем иным тоном произнес: — «Севастополь» так и застрял на рейде! Безобразие! Михаил Петрович, прикажите ему дать сигнал стать на якорь.
Флагманский штурман штаба командующего флотом капитан 2 ранга Васильев передал адмиральский приказ флаг-офицерам. Мичман Шмитт поспешил в боевую рубку броненосца и, подойдя к столу, открыл флагманский журнал, куда заносились все сигналы по эскадре. Прежде всего, он аккуратно вывел на листе число и час. Затем поставил двоеточие и обмакнул перо в чернильницу, намереваясь записать и самый сигнал… В этот момент и мичман, и все находившиеся в боевой рубке были сброшены на пол. Раздался чудовищной силы взрыв.
Было 9 часов 43 минуты утра 31 марта 1904 года.
Рассказ флаг-офицера штаба командующего флотом В.П. Шмитта: «Подойдя к журналу, я стал записывать: В 9 ч 43 мин — сигнал:… — успел я лишь набросать, и вдруг послышался глухой сильный удар. У нас троих (капитана 2-го ранга Кроуна, сигнальщика и у меня) сорвало фуражки, и в одно мгновение стол, диван, шкаф с книгами и картами — все обратилось в груду обломков, циферблат с механизмом был вырван из футляра часов.
С трудом удалось высвободиться, и мы бросились к правому выходу из рубки на мостик. «Петропавловск» сильно кренился на правую сторону и настолько быстро погружался, что, стоя на твердом мостике, казалось, не имеешь опоры и летишь с головокружительной быстротой куда-то в бездну. Это чувство было очень неприятно.
Говорить, конечно, нельзя было из-за рева пламени, воды, постоянных взрывов и всеобщего разрушения. Выскочив на правую сторону мостика, мы увидели впереди себя море пламени; удушливый едкий дым почти заставлял задохнуться. Здесь я заметил фигуру адмирала, стоявшего спиной ко мне. Как думают те, кто хорошо знал адмирала, он прошел вперед, сбросив с себя пальто, чтобы узнать, что случилось, и вот можно предположить, что он был оглушен или убит одним из сыпавшихся обломков.
Только несколько секунд пробыли мы здесь и опять с трудом перебравшись через деревянную рубку, еще каким-то чудом не разрушенную, мы с большими усилиями добрались до левого крыла мостика, так как крен на правый борт был уже очень велик.
Тут я увидел флагманского штурмана подполковника Коробицина, флаг-офицера мичмана Яковлева, еще нескольких офицеров, которых не помню, и много сигнальщиков, прыгавших с мостика вниз на крышу левой носовой 6-д. башни и паровой катер, а оттуда в воду. Мимо меня, мне показалось, прошел великий князь Кирилл Владимирович. Мичман Яковлев старался хотя немного удержать команду.
Я взглянул наверх: надо мной стоял столб желто-черного дыма, который у меня прямо врезался в память. Рядом со мной обломком, которые сыпались вокруг, ударило по голове капитана 2 ранга Кроуна. он упал и больше не поднимался.
Посмотрел я на корму: шканцы, казавшиеся высоко над мостиком, усеяны людьми, которые без всякого удержа сплошною живою рекою бросались за борт, попадая в работавшие до последнего взрыва винты и между обломками.
При виде такой картины сердце сжалось от ужаса. Несмотря на общее стихийное стремление броситься в воду, у меня явилось твердое ясное сознание, что этим я погублю себя: слишком много выступающих частей — орудий, мостиков и т.д., которыми меня может накрыть. В это время мостик уже был под водой, которая доходила мне до груди. Значит, успел я только выскочить из рубки, пробраться на крыло мостика, посмотреть вверх и назад, как очутился уже под водой...
На мне была меховая тужурка, мех еще не успел пропитаться водой, и она меня вынесла на поверхность.
Выплыл. Нашел рядом деревянную дверь от моей рубки; подплыл к ней. Попробовал, выдержит ли она — выдержала. Лег на нее и. помню, стал отхаркиваться кровью и стонать. Немало воды я наглотался.
Посмотрел вокруг: от «Петропавловска» никаких следов; несколько обломков — вот и все. Много плавающих людей, раненых, коченеющих (в воде было 5). Услыша общий непрерывный стон этих людей, я сам замолчал».
Из воспоминаний Я.Кефели:
«Около меня стояло много моих знакомых офицеров, прибежавших из порта. С ручным фотографическим аппаратом военный инженер, полковник Рашевский, полный серьезности и внимания, не сводил глаз с места гибели броненосца и периодически приставлял аппарат к глазам, делая снимки или готовясь к ним (Как известно, полковнику Рашевскому удалось запечатлеть в трех снимках гибель «Петропавловска».
Эти единственные исторические реликвии напечатаны в «Правде о Порт-Артуре» Е. К. Ножина:
«Вдругъ у носа «Петропавловска» показывается огромный столбъ воды, слышится мягкій звукъ взрыва мины, непосредственно за нимъ второй взрывъ, более интенсивный, – вся средняя часть огромнаго броненосца объята пламенемъ и тучей желтовато-бураго дыма. Корма поднялась къ верху, винты, вертясь, блестятъ на солнце. Черезъ 1 1/2 минуты броненосца не стало. На его месте лишь плескались мутныя холодныя волны.
Многіе видели взрывъ «Петропавловска».
Золотая гора сообщила объ этомъ въ портъ. Въ городе мгновенно узнали объ ужасномъ несчастіи. Но никто не зналъ ничего положительнаго, никто не хотелъ верить, что Макаровъ погибъ.»
Вот телеграмма Наместника генерал-адъютанта Алексеева от 8-го апреля 1904 года:
«В 9 час. 43 мин. у правого борта «Петропавловска» последовал взрыв, затем второй под мостиком, более сильный, с густым высоким столбом желто-зеленого дыма, причем фок-мачта, труба, мостик и башня поднялись кверху. Броненосец накренился на правый борт, корма приподнялась, оголив работавший на воздухе винт, и «Петропавловск», объятый весь пламенем, не более, как через 2 минуты, потонул, погрузившись носом. Часть людей спаслась на юте.»
Вот что вспоминал о гибели «Петропавловска» В.И. Семёнов, старший офицер «Дианы»:
«Здесь, стоя у правой шестидюймовки носового плутонга, я отдавал обычные распоряжения старшему боцману, когда глухой, раскатистый удар заставил вздрогнуть не только меня, но и весь крейсер. Словно где-то близко хватили из двенадцатидюймовки. Я с недоумением оглянулся… Удар повторился еще грознее… Что такое?.. — «Петропавловск!» «Петропавловск!..» — жалобно и беспомощно раздались кругом разрозненные, испуганные восклицания, заставившие меня сразу броситься к борту в предчувствии чего-то ужасного… — Я увидел гигантское облако бурого дыма (пироксилин, минный погреб — мелькнуло в мозгу) и в нем как-то нелепо, наклонно, повисшую в воздухе, не то летящую, не то падающую фок-мачту… Влево от этого облака видна была задняя часть броненосца, совсем такая же, как и всегда, словно там, на носу, ничего не случилось… Третий удар… Клубы белого пара, заслонившие бурый дым… — Котлы!.. — Корма броненосца вдруг стала подниматься так резко и круто, точно он тонул не носом, а переломившись посредине… На мгновение в воздухе мелькнули еще работавшие винты… Были ли новые взрывы? — не знаю… но мне казалось, что эта, единственно видимая за тучей дыма и пара, кормовая часть «Петропавловска» вдруг словно раскрылась, и ураган пламени хлынул из нее, как из кратера вулкана… Мне казалось, что даже несколько мгновений спустя после того, как скрылись под водой остатки броненосца, море еще выбрасывало это пламя...
Как старый штурман, привыкший точно записывать моменты, я, только что увидев взрыв, совершенно машинально вынул часы и отметил в книжке: «9 ч. 43 мин. Взрыв «Петропавловска» — а затем — «9 ч. 44 1/2 мин. — все кончено».
Капитан 1-го ранга Н.В. Иениш вспоминал:
«Сообщаю три совершенно необычайных случая спасения при гибели «Петропавловска»:
1) Матрос, мирно сидевший в правом носовом гальюне под второй палубой и под которым находилась малярная каюта, оказался при взрыве в месте излома корпуса и был вымыт из него ворвавшимся вихревым потоком моря, получив предварительно в обе ягодицы хороший заряд красок, растатуировавших его на всю жизнь.
2) Помощник комендора, стоявший на крышке 12–дюймовой башни. Эта крышка была сорвана взрывом и брошена на высоту мачты. Спасшийся совершил с ней воздушный полет и упал в воду далеко от корабля.
3) Случай наиболее изумительный, принимая во внимание давление, которое должно было образоваться внутри башни, чтобы сорвать и бросить в пространство ее броневую крышку.
Комендор, находившийся в башне между двумя 12–дюймовыми орудиями, услышал взрыв, почувствовал какой–то горячий вихрь и очутился в следующее мгновение в воде.»
Мичман И.И. Ренгартен наблюдал гибель броненосца «Петропавловск» с мостика шедшей следом «Полтавы» и описал ее в своем дневнике так: «Этой ужасной картины я никогда в жизни не забуду. Под правой скулой «Петропавловска» взорвалась мина, он сразу накренился и стал уходить носом в воду, над местом взрыва выкинуло громадное пламя и целую кучу дыма. После этого взрыва было слышно еще несколько, то взрывались котлы и зарядные отделения мин.
Палуба мгновенно была объята пламенем. Трубы и мачты сразу куда-то исчезли, корма выскочила из воды, винт левой машины заработал в воздухе, люди падали кучами, многие падали в винт, и их размалывало на наших глазах. «Петропавловск» погружался быстро — через 2 минуты после взрыва его уже совершенно не было видно».
Последним, кто видел Макарова, был сигнальщик матрос Бочков: «Я бросился к дверям рубки, но их заклинило. Тогда я выскочил через иллюминатор. Корабль сильно кренило. На мостике я увидел нашего старика Макарова. Лицо его было в крови. Корабль как будто падал в море. Вода выкатывалась на самый мостик. Со всех сторон падали обломки, балки, шлюпки. Что-то гудело, трещало, валил дым, показался огонь. Я вскочил на поручни, меня смыло.»
Следственная комиссия заключила, что Макаров, раненый во время взрыва, утонул в море. Всего удалось спасти 7 офицеров и 73 нижних чина. На «Гайдамак» подняли из воды пальто адмирала Макарова, сверток карт, образ Святого Николая Чудотворца. Форменное пальто Макарова, поднятое на «Гайдамак», матросы целовали как икону...
В числе погибших на «Петропавловске» 650 человек были контр-адмирал М. П. Молас, ученики Макарова капитаны 2 ранга М. П. Васильев, Н. А. Кроун, А. К. Мякишев, К. Ф. Шульц, флагманский штурман флота подполковник А. А. Коробицын, полковник А. П. Агапеев и знаменитый художник В. В. Верещагин. Из корабельных офицеров погибли старший офицер лейтенант Александр Лодыгин, старший артиллерист Любим Кнорринг и штурман Владимир Вульф, все инженер-механики во главе со старшим судовым механиком Антоном Перковским и другие. Их судьбу разделили флаг-офицеры штаба лейтенант Николай Кубе, мичман Павел Бурачек и старший флаг-офицер лейтенант Георгий Дукельский, умерший от ран на берегу.
Русские моряки, предположив, что «Петропавловск» потоплен подводной лодкой, открыли беспорядочную стрельбу по воде и плававшим на поверхности обломкам. Положение усугубилось подрывом на мине броненосца «Победа», который хоть и остался на плаву, но был вынужден срочно направиться в гавань. Как ни парадоксально, Того не стал развивать успех и продолжал бездействовать, оставаясь в роли пассивного наблюдателя. Имея возможность разгромить деморализованного противника, японский командующий стремился избежать малейшего риска, опасаясь собственных потерь. К тому же он не без оснований ожидал от русских ожесточенного сопротивления. Около трех часов дня весь Соединенный флот скрылся за горизонтом.
Вот что видел А.В. Колчак с «Аскольда» своими глазами. «Внезапно раздался глухой и мощный взрыв, и носовую часть «Петропавловска» окутало облако буро-жёлтого дыма. Когда дым немного рассеялся, стало видно, что броненосец осел носом и накренился на правый борт. Прогремело ещё несколько взрывов, которые уже не давали такого густого облака. Корабль быстро уходил носом в воду, так что задралась вверх корма с работающими винтами. С кормы один за другим прыгали люди, попадая в железные лопасти, а сверху падали громадные обломки. Эта страшная картина заняла не более двух минут, а затем на месте флагманского броненосца осталась лишь лёгкая крутящаяся зыбь с деревянными обломками, а облако пара и дыма унёс ветер.
К месту гибели заспешили шлюпки с разных судов. С «Аскольда» был спущен вельбот, которым ловко управлял мичман Василий Альтфатер. К счастью, крупной волны не было и удалось спасти 72 человека из более 700, находившихся на борту. Поднят был из воды и тяжелораненый командир корабля капитан 1-го ранга Н. М. Яковлев, во время взрыва стоявший на мостике рядом с Макаровым. Спасли Кирилла Владимировича – двоюродного брата Николая II. По словам очевидцев, он был в шоке, с трудом отвечал на вопросы. Его доставили в вагон Бориса Владимировича Романова, и через час братья уже мчались на север, прочь от Порт-Артура»
Из воспоминаний Великого Князя Кирилла Владимировича.
«Находясь уже под защитой береговых батарей, «Петропавловск» уменьшил ход, и команда была отпущена обедать; офицеры стали понемногу расходиться. На мостике остались: адмирал Макаров, командир «Петропавловска» капитан 1 ранга Яковлев, контр-адмирал Молас, лейтенант Вульф, художник Верещагин и я. Я стоял с Верещагиным на правой стороне мостика. Верещагин делал наброски с японской эскадры и, рассказывая о своем участии во многих кампаниях, с большой уверенностью говорил, что глубоко убежден, что, где находится он, там ничего не может случиться. Вдруг раздался неимоверный силы взрыв… Броненосец содрогнулся, и страшной силы струя горячего, удушливого газа обожгла мне лицо. Воздух наполнился тяжелым, едким запахом, как мне показалось – запахом нашего пороха. Увидя, что броненосец быстро кренится на правый борт, я мигом перебежал на левую сторону… По дороге мне пришлось перескочить через труп адмирала Моласа, который лежал с окровавленной головой рядом с трупами двух сигнальщиков. (Останки Моласа были найдены в его каюте при обследовании японскими водолазами остова корабля в 1911 году. Этот свидетель врёт сознательно, чтобы скрыть возможность убийства Макарова террористами прямо на мостике сразу после взрыва, участником коего он был, дескать Моласа и Макарова тож убило сразу взрывом. Поведение этого Кирилла во время смуты 1917 года полностью подтверждает его связь с заговорщиками.) Перепрыгнув через поручни, я вскочил на носовую 12 дюймовую башню. (К тому времени носовая башня главного калибра уже была сброшена за борт взрывом, что ясно доказывает лживость этого свидетеля) Я ясно видел и сознавал, что произошел взрыв наших погребов, что броненосец гибнет… Весь правый борт уже был в бурунах, вода огромной волной с шумом заливала броненосец… и «Петропавловск», с движением вперед, быстро погружался носом в морскую пучину. В первый момент у меня было стремление спрыгнуть с башни на палубу, но, сознавая, что так могу сломать себе ноги, я быстро опустился на руках, держась за верхнюю кромку башни, и бросился в воду. Сильным течением меня бросило и ударило о левую носовую 6 дюймовую башню, а затем подхватило волной и водоворотом и выбросило за борт. Здесь с какой-то бешеной силой и быстротой меня стало вертеть и увлекать вниз. Страшный шум воды, абсолютная тьма, при полном, однако, сознании. Я ясно сознавал неизбежность гибели. Помню, что успел перекреститься и начал молиться, вспомнив своих родных и близких. Казалось, что настает последняя минута, так как у меня уже не хватало дыхания, и я начал захлебываться. Инстинктивно я стал делать движение руками и ногами и, к моему удивлению, вскоре почувствовал, что снова поднимаюсь, так как становилось все светлее и светлее. Сознание, что я поднимаюсь, снова вернуло мне надежду и придало энергии и силы. Еще момент безумной борьбы, и я был на поверхности уже довольно спокойного моря. Схватившись за какой-то обломок и оглядевшись, я увидел, что нахожусь в значительном расстоянии от несчастного «Петропавловска», который продолжал быстро погружаться, причем кормовая часть стояла почти вертикально, и винты продолжали вращаться. Этот момент особенно врезался в память. Заметив, что мимо меня плывет крыша рубки парового катера, я бросил свой обломок и схватился за поручни этой крыши.»
Из воспоминаний председателя комиссии для производства расследования причин гибели эскадренного броненосца «Петропавловск» капитана 1 ранга Э.Н. Щенсновнча: «Офицеры, бывшие в кают-компании, услышав взрыв, бросились наверх и в выходе кают-компании уже увидели желтые огненные языки горевшего пороха в таком количестве, какое не мог дать порох, бывший вне погребов. Затем последовало несколько повторных взрывов. Большинство личного состава считало, что «Петропавловск» потоплен подводными лодками.»
По общему мнению, гибель Макарова стала катастрофой для морских сил России на Тихом океане.
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,
Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров.
Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров.
В морской пучине, там, где вал кипит,
Защитник Порт-Артура ныне спит.
(Исикава Такубоку, 1904 год)
В 1909 г. корпус затонувшего корабля, лежащий на расстоянии около 2,5 мили от берега на глубине около 36 м, приобрел предприниматель Сакурая Цериносукэ, рассчитывавший обнаружить судовую кассу и другие ценности.
Обследование корабля японскими водолазами в 1911 г. показало, что в результате взрывов корпус разломился на две части, лежавшие раздельно на 20-саженной глубине, носовая часть оказалась лежащей на ровном киле, а кормовая – перевёрнутой вверх днищем.
Нельзя оставить без внимания в этом деле главным образом благородный поступок японца Цуненосуке Сакурай, бережно и благочестиво, по лучшему своему разумению, собиравшего дорогие нам кости и совершенно бескорыстно потратившего на это не мало труда и расходов. Свою лавку, представляющую из себя грустный музей всевозможных предметов оборудования и обстановки когда-то гордого броненосца, девять лет пролежавших на дне океана, он всецело предоставил в распоряжение бывшего командира корабля. Тут были исковерканные от взрыва снаряды, разбитые бинокли и прочие принадлежности морского обихода, еле узнаваемые кредитные билеты, серебряные монеты. Золотые сохранились отлично, также тарелки, вилки Морского Ведомства. Хорошо сохранились бумаги из архива, как видно, секретного. Тут были и клочки шифра, и даже наставления к нему, бумага, подписанная покойным Макаровым. В числе бумаг адмирал Яковлев также нашел письмо, им же подписанное, каковое, а также еще нисколько мелких вещей взял себе, на память. Кормовые буквы «Петропавловска», пока извлеченные все, за исключением двух или трех, адмирал просил Сакурая сохранить, так как они могут пригодиться или для нового «Петропавловска», или для памятника погибшим. Адмирал дал Сакураю ряд указаний, полезных для предстоящих в Августе новых водолазных работ.
«Русское общество» отнеслось к нему, судя по отзывам газет, враждебно, Сакураю обвиняют в том, что он бесцеремонно тревожит покой погибших героев-моряков, завели спор о тождественности переданных нам прахов, стали доказывать, что таковые не принадлежали адмиралу Моласу и другим офицерам, стали критиковать его доказательства, сомневаться в происхождении найденных им при означенных прахах вещей и прямо обвинять его в подлоге /спор о визитных карточках адмирала Моласа/ и т. д. Все это его глубоко оскорбило и разочаровало. Этому самому «русскому обществу», рукоплескавшему японцам во время войны и радовавшемуся гибели адмирала Макарова, правда от японских водолазов о характере повреждений корабля (внутренний взрыв) и опровержении показаний таких уродцев, как Кирилл Владимирович, несомненно причастный к убийству адмирала Макарова и якобы видевший мёртвого Моласа на мостике корабля, нужна не была абсолютно. Они её весьма опасались, стараясь скрыть свои связи с террористами, погубившими «Петропавловск» и убившими сразу после взрыва адмирала Макарова. Относительно праха контр-адмирала М. Л. Моласа убеждение, что это именно его останки, основано на том факте, что скелет был обнаружен в каюте, которую, бесспорно, занимал Начальник Штаба покойного адмирала Макарова, в его спальне. Что это была именно каюта адмирала Моласа, также подтвердил по описанию Сакурая и по извлеченным из нее предметам адмирал Яковлев, считающий к тому вероятным, что в момент взрыва адмирал был у себя в каюте.
Кроме места нахождения праха, важным обстоятельством, подкрепляющим уверенность в правильности предположения, что подняты останки М. П. Моласа, является факт обнаружения кожаного бумажника с пачкой его визитных карточек и кредитными билетами в самих костях. Об этом свидетельствует не только Сакурай в своем заявлении японским властям, но и подрядчик Наканиси, руководившей водолазными работами в тот же день, когда был поднят прах. Он показывает, что присутствовал, когда из каюты Моласа был поднят водолазный мешок, наполненный глиной и илом, и когда содержимое его промывалось, и совершенно категорически заявляет, что бумажник был обнаружен в том же мешке и в самих костях. Другие вещи были подняты затем уже в других мешках. Обувь и части истлевшей одежды были выброшены, и вообще, на многое, что могло бы служить приметами, тогда не было обращено должного внимания. Наканиси, однако, тогда же не сомневался, что перед ним останки одного из высших чинов, погибших на «Петропавловске». Никаких погон найдено не было, но Наканиси полагает, что если поиски на том месте были бы продолжены, то, вероятно, нашлись бы и погоны, и еще многое другое. Во всяком случае, при данных обстоятельствах гораздо труднее предположить, чтобы в спальне адмирала Моласа в момент взрыва мог находиться другой офицер с бумажником и визитными карточками адмирала. Череп был осмотрен вице-адмиралом Яковлевым, который хотя и не мог с уверенностью признать в нем череп М. П. Моласа, но также не усмотрел в нем ничего, что говорило против этого предположения. Наоборот, как и он, лично хорошо знавший покойного, так и все присутствовавшие, судя по имевшимся фотографическим снимкам М. Н. Моласа, считали сходство с головой покойного вполне установленным. Как бы то ни было, адмирал Яковлев, имевший инструкцию перевезти останки М. П. Моласа в С. Петербург, только убедившись в правильности предположения, что это действительно прах покойного адмирала, сделал после этого все распоряжения к перевозке его, для чего прах в ящике, запечатанном консульской печатью, был уложен в металлический гроб, для последнего заказан особый ящик. Предполагалось гроб отправить: в Шанхай и оттуда дальше в Одессу на пароходе Добровольного флота. Лишь ради торжественности похорон было решено, чтобы гроб адмирала также участвовал в процессии до кладбища в Порт-Артуре. По прибытии туда адмиралом Яковлевым, однако, была получена телеграмма из Морского Министерства, коей перевозка праха М. П. Моласа отменялась, и предписывалось предать его земле в Порт-Артуре вместе с другими. Так «общество» пыталось замести следы своих мерзких деяний.
«Квантунское генерал-губернаторство. К о п и я. Перевод. Приложение № 3
Объяснительная запись японского подданного Цуненосуке Сакурай
Бывшее флагманское судно русской тихоокеанской эскадры затонувший «Петропавловск» ныне находится на дне внешнего моря Порт-Артура, в глубине 150 футов, вверх дном, и благодаря прохождения долгого времени большая часть верхней палубы находится в грязном грунте. Все каюты наполнены осадками глинистых земель и разломанными на куски деревянными материалами каютных обстановок. В этом году я сперва разбил наружную стену кормы левого борта, где находились буквы названия судна. И работа извлечения постепенно шла к направлению носа судна. В одной каюте средней палубы левого борта у кормы найден круглый стол, потом, разбив перегородочную стену, водолазы входили в отдельную каюту, где найдена одна кровать, эта последняя каюта была наполнена глинистыми землями с кусками деревянных материалов. Эти земли вложили в мешках и вытащили на верх; когда процеживали цедильными приборами их, из них нашли кусок человеческой кости. Этой неожиданной находкой у меня явилось сомнение о том, что не осталось ли в этой каюте праха павших воинов? После этого с напряжением сил старались выводить эти глинистые земли на верх, и нашел один скелет человеческой головы. Таким образом, утверждено нахождение праха и несмотря разнообразному затруднению подводной работы, вытащили часть грязи из этой каюты и после процеживания их наконец нашли все части костей ниже шеи одного человека и кожаный портмоне /в портмоне находились нисколько русских кредитных бумаг и визитных карточек /подробно указаны при сем приложенной описи/. Потому когда вытаскивали все грязи из этой каюты, найдено снова несколько предметов, указанных в при сем приложенной описи.
Судя по найденным предметам, этот прах казался мне прахом военного человека высшего класса. Следовательно, я с большим почтением вежливо хранил в одной комнате моей конторы. И этой каюте я временно дал наименование № 1, также на прах и предметы, найденные из этой каюты, поставил знак № 1 во избежание перемешания в случае находки других прахов и предметов. По принятому мною проекту о извлечении материалов судна, для меня гораздо выгоднее, по возможности в большом размере, взрывать наружную стену судна и вообще корпуса его, но раз найден прах из каюты, то нельзя сделать большой взрыв, так как от большого взрыва могут быть разбросаны в беспорядке прахи доблестных воинов. В виду того я, не обращая внимания на свою пользу, с большим вниманием и осторожностью руководя своими служащими, продолжал поиски прахов, и наконец нашли в каютах №№ 2, 3, 4, 5 и 6 /эти каюты указаны при сем приложенном плане/ всего 5 прахов, т. е. по одному в каждой каюте, и указанные при сем в приложенной описи предметы. На основании вышесказанного я уверен, что в каютах носовой части и правого борта вперед еще найдутся многие прахи, но благодаря тому, что судно находится на дне глубокого моря и быстрого течения воды, хотя при тихой погоде водолазы могут работать только раз или два раза в сутки во время отлива морской воды. Кроме того, если работать с известным вниманием и почтением к прахам воинов, то требуется еще больше труда и времени. Следовательно, к сожалению, пришлось пока остановить работу извлечения судна и до сих пор извлеченные прахи и предметы, найденные при них, передать власти /эти предметы желательно преподносить в русский ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР/ и снова исследовать соответственный способ извлечения и своевременно снова начать работу, о вышеизложенном имею честь заявить Вам. /подпись/ Цуненосуке Сакурай»
«Императорское Российское консульство в Дальнем № 276. 2 июня 1913 г.
В Первый Департамент Министерства иностранных дел.
Рукопись на полях: III Японск. Стол. С просьбой вернуть
На днях до моего сведения дошло, что японец Сакураи, купивший нисколько лет тому назад корпус затонувшего в роковой день 31 Марта 1904 г. при выходе из Порт-Артурского рейда броненосца «Петропавловск» и ныне приступившей к взрыванию на значительной глубине левой кормовой части его, стал обнаруживать в ней останки безвременно погибших героев славного корабля, почтительно и бережно собирать их, точно отмечая место и обстоятельства нахождения каждого скелета, с тем, чтобы нам их передать вместе с некоторыми вещами, найденными там же и могущими иметь характер памяти о погибших.
Немедленно по получении этого сведения я счел долгом предупредить о том пребывающего в настоящее время в Мукдене командированного по ВЫСОЧАЙШЕМУ Повелению представителя Комитета по увековечению памяти русских воинов, павших в японскую войну, Генерал-Майора Добронравова, дабы он мог с своей стороны оповестить Комитет, а также просил его принять на себя погребение найденных прахов, как только последует передача их, на находящемся в его ведении Порт-Артурском военном кладбище. Генерал уведомил меня, что только что получил от сказаннаго Сакураи письмо с просьбой принять прахи и немедленно написал в С. Петербург. Заверив меня в своей готовности принять на себя заботы по преданию земле обнаруженных останков, он, однако, указал, что средства, находящаяся в распоряжении его Миссии, касающейся собственно только павших воинов сухопутной армии, настолько ограничены, что, желая придать особенную торжественность похоронам славных героев «Петропавловска», он признает желательными просить Морское Ведомство и Комитет, состоящей под председательством ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ВДОВСТВУЮЩЕЙ КОРОЛЕВЫ ЭЛЛИНОВ и заботящийся об увековечении памяти павших на войне моряков, спешно распорядиться и отпустить средства.
Одновременно я поспешил обратиться к работающему в настоящее время над благоустройством нашего Порт-Артурского кладбища, состоящему в распоряжении Генерала Добронравова, Капитану Набокову с просьбою при распланировке кладбища наметить для погребения прахов с «Петропавловска» особо почетное место, где впоследствии мог бы быть воздвигнут достойный наших героев памятник. Капитан, а затем и генерал, имеющий утвердить план кладбища, обещал, что это будет исполнено.
Далее я счел долгом просить японские власти предложить г. Сакураи передать нам извлеченные им прахи не иначе как официальным путем через Квантунское Генерал-Губернаторство, а затем пригласил самого Сакураи в Консульство, чтобы узнать от него все подробности, касающиеся обнаружения прахов и положения работ над корпусом «Петропавловска». Г. Сакураи посетил меня сегодня и сообщил следующее: Корпус «Петропавловска», лежащий на расстоянии двух с половиной миль от берега не далеко от входа на Порт-Артурский рейд, на глубине около 150 футов, был куплен им у Японского Правительства четыре года тому назад за 21 000 иен. Броненосец затонул килем вверх, что значительно затрудняет работы. До сих пор извлечение металлических частей далеко еще не окупило сделанных затрат, остается еще покрыть около 38 000 иен. Желая найти кассу броненосца и разыскивая поэтому помещение командира корабля, Сакураи в нынешнем году приступил к взрыванию кормовой части, начав с левой стороны, где, однако, ни командирского помещения, ни кассы не нашел, а обнаружил каюту, которую занимал Начальник Штаба Командовавшего флотом покойного адмирала Макарова, контр-адмирал Михаил Павлович Молас, где и был найден первый прах, который Сакураи, судя по найденным при нем орденам и бумажнику с пачкой визитных карточек, считает несомненно принадлежащим самому адмиралу. Рядом с каютою адмирала обнаружено помещение для ванны и посуды, которой найдено много, а далее в трех следующих каютах в каждой обнаружено по одному офицерскому праху, то же в двух помещениях, находящихся ниже первой и второй из этих кают, согласно следующему наброску, который я предложил г. Сакураи зачертить.
Все прахи г. Сакураи считает офицерскими, так как на всех скелетах имелись кортики. Не найдя кассы, Сакураи других помещений не прикасался и прекратил работы в левой части кормы с тем, чтобы впоследствии – он полагает не раньше Августа – приступить к взрыванию правого борта. Пока работы над «Петропавловском» им приостановлены вовсе и он занят водолазными работами над другими судами в надежде, что они дадут ему к указанному времени необходимые средства на возобновления дорого стоящего обследования лежащего на большой глубине броненосца.
Г. Сакураи выразил готовность передать нам извлеченные им прахи через Квантунское Генерал-Губернаторство, а также обещал с таким же благоговением и впредь относиться к останкам наших Моряков, если таковые им будут обнаружены, но призвался, что лишь поиски кассы заставляют его тратиться на обследование жилых помещений корабля, столь трудно доступных, и поэтому дальнейшие розыски и собирание прахов он мог бы принять на себя не иначе как по особому на то поручению и при условии возмещения расходов, также извлечение тех или других предметов на память о «Петропавловске», которыми могли бы интересоваться спасенные свидетели катастрофы или родные и близкие погибших. Работы будут продолжаться еще предположительно в течение пяти сезонов, причем сезон считается с марта по октябрь.
Относительно извлеченных до сих пор шести прахов, передача коих предстоит теперь же, я спешу одновременно с сим донести по телеграфу, прося срочных зависящих распоряжений как на предмет погребения, так и по возможности опознания прахов, – что же касается вопроса о дальнейшем собирании и предании земле останков героев «Петропавловска», а также добывании предметов на память о них, – то, до возобновления водолазных работ в Августе сего года, или позже, подлежащее ведомство найдет время распорядиться; если будет признано возможным, отпустить необходимая средства; войти в сношения с Сакураем; командировать лицо, знакомое с положением «Петропавловска» в момент его гибели, для руководства или наблюдения за дальнейшими работами Сакурая, приема прахов, а также приема или приобретения разных извлекаемых предметов; доложить об изложенном АВГУСТЕЙШЕМУ свидетелю катастрофы; оповестить остальных спасенных, а также родных и близких погибших и, наконец, предоставить средства не только на погребение останков, но и на сооружение на месте погребения достойного наших героев памятника.
Я также почтительнейше прошу исходатайствовать на всякий случай для вверенного мне Консульства подробные сведения о личном составе «Петропавловска» и лицах, находившихся на нем при выходе его в роковой день 31 марта 1904 года, о расположении и расписании офицерского и штабного помещений прочие данные, могущие оказаться полезными, облегчить ориентироваться и тем лучше почтить память дорогих усопших, на случай если бы г. Сакурай вскоре опять приступил к работам и передал еще другие останки, извлеченные со дна морского, где без малого десять лет назад нашему дорогому отечеству в трудную минуту войны суждено было так фатально трагически схоронить в сырой могилу стольких лучших своих сынов, свою лучшую тогда надежду. Консул: Подпись Траутшольд»
Японцы, по собственному почину, обставили передачу прахов с большой торжественностью. На рассвете, под эскортом конной полиции, останки были доставлены на вокзал в Порт-Артуре из конторы Торгового Дома «Сакурай», где они до тех пор хранились в чистой японской комнате, и привезены в Дальний с первым поездом. Они хранились в небольших, продолговатых деревянных ящиках, на которых были надеты чехлы из черной материи с обозначением номера. В Дальнем каждый ящик был уложен в отдельный экипаж, по обеим сторонам которого шли четыре полицейских чина. Конные полицейские открывали и заключали шествие. Прахи героев «Петропавловска» были встречены адмиралом Яковлевым, генералом Добронравовым, капитаном Воскресенским и другими присутствовавшими русскими и, взятые на паперти из рук японских полицейских, были внесены в храм и поставлены на катафалк. Тотчас же была отслужена первая лития, после чего состоялось укладывание в гробы. Так как останки состояли из одних только костей, завернутых в вату, то было решено уложить их в гробы, не вынимая, в тех же ящиках. Затем гробы были поставлены на катафалк и отслужена первая панихида по усопшим, а вечером того же дня, после заупокойной всенощной, – вторая. В полдень последовал вынос гробов на руках всех нас русских и установка на дроги, каковыми служили покрытые черным сукном четыре багажных фургона, предоставленные железнодорожной гостинницей «Ямато-Отель». Гроб адмирала Моласа следовал впереди, далее по два гроба на одной колеснице, все покрытые андреевскими флагами.
Процессия тронулась к вокзалу, где гробы были установлены на катафалке в вагоне, убранном цветами, экстренный поезд отошел в 1.05 пополудни. Все присутствовавшие в церкви провожали гроба до вокзала. Перед отходом поезда была отслужена лития. В 2 ч. 36 мин. траурный поезд прибыл в Порт-Артур, где на вокзале ждала весьма торжественная и глубоко трогательная встреча. Здесь, также по приказанию Генерал-Губернатора, выстроились все военные и гражданские чины. По перрону были выстроены три лафета при орудиях тяжелой артиллерии при одном офицере и 115 нижних чинах и три лафета морские при двух офицерах и 70 матросах отчасти местного экипажа, отчасти со станционера крейсера «Акицусима». Гробы были вынесены из вагона и поставлены на эти лафеты, в которые затем по команде впряглись нижние чины и на своих плечах повезли останки наших героев до самого русского военного кладбища, отстоящего от вокзала в 2,3 верстах. Процессию открывали и заключали конные полицейские, венки следовали на двух колесницах. Картина была в высшей степени торжественная и оказанные со стороны японцев нашим героям воинские почести глубоко растрогали всех и поразили своей полной неожиданностью. Место для могил героев «Петропавловска» было выбрано центральное, с таким расчетом, что могут быть присоединены новые могилы вокруг, если были бы подняты другие прахи, а в середине поставлен памятник — беломраморный христианский восьмиметровый крест. На его лицевой стороне высекли слова: «Вечная память доблестным защитникам Порт-Артура».
В часовне святому равноапостольному князю Владимиру была установлена икона Порт-Артурской Божией Матери. По периметру эмалированной вязью написано: «В благословение и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей Киевских и 10 000 богомольцев и друзей». (Икона написана царскосельским иконописцем М. М. Осипенко специально для часовни в Порт-Артуре, образ является точным списком с чудотворной Порт-Артурской иконы Божией Матери, хранящейся во Владивостоке. Сама чудотворная икона, написанная в благословение русскому воинству во время Русско-японской войны 1904–1905 гг., так и не была доставлена в Порт-Артур. Со временем она была утеряна, а в 90-е гг. XX в. вновь обретена в Иерусалиме группой паломников из Владивостока).
По свидетельству очевидцев, в этой часовне еще в 1946 г. хранились портрет адмирала С. О. Макарова, серебряные и металлические венки. На одном из них было написано: «Незабвенным доблестным Товарищам Артиллеристам, крепостным, полевым, морским – павшим смертью героев при обороне Порт-Артура в 1904 г. Бывший начальник артиллерии в Порт-Артуре в 1904 г. генерал-майор Белый. 12 мая 1908 г., Владивосток»
Идея сооружения памятника С. О. Макарову возникла вскоре после гибели адмирала в 1904 г. В 1910 г. на собрании, посвящённом памяти адмирала, решено обратиться к императору за разрешением об открытии повсеместной подписки на сооружение памятника. Был образован Комитет по сбору пожертвований, составляющих 1/4 процента от всех видов жалования команд и экипажей в течение года. Одновременно объявлен конкурс на лучший проект памятника.
Проект скульптора А. В. Шервуда был принят для дальнейшей разработки и исполнения.
24 июня 1913 г. в Кронштадте в присутствии Николая II был открыт памятник вице-адмиралу С. О. Макарову.
Полнофигурный скульптурный портрет адмирала, отлитый в бронзе, установлен на гранитную скалу, в верхней части которой укреплена стилизованная бронзовая «волна», напоминающая восточного дракона. На трех сторонах постамента – рельефы, посвящённые эпизодам биографии учёного и флотоводца: взрыв турецкого судна во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., арктическое плавание ледокола «Ермак», изобретённого и построенного под руководством Макарова; гибель броненосца «Петропавловск», на котором находился командующий Тихоокеанским флотом в начале Русско-японской войны 1904–1905 годов. На цокольной части постамента надпись «Помни войну».
В качестве постамента памятника использован гранитный монолит, затонувший на рейде Штандарт у о. Тухольм в начале XIX в., а затем поднятый и доставленный по высочайшему повелению в Кронштадт в 1911 г. Местом установки памятника выбрана площадь перед Морским собором, в сооружении которого С. О. Макаров принимал самое деятельное участие.
К столетию гибели «Петропавловска» в Санкт-Петербурге освящена и установлена в часовне Свт. Николая Чудотворца Морского храма Спас-на-Водах мемориальная доска с именами 635 членов экипажа флагмана русского Императорского флота во главе с вице-адмиралом С. О. Макаровым.
По общему мнению, гибель Макарова стала катастрофой для морских сил России на Тихом океане. Отныне 1-я Тихоокеанская эскадра перестала вести активную борьбу за господство на море.
Таким образом, японцы выиграли первый и, пожалуй, самый важный для них этап войны. Они сумели блокировать русский флот в Порт-Артуре, создав себе временную морскую базу на о-вах Элиот, и начали высадку на материк сухопутной армии.
В августе 1905 г. в г. Портсмут (США) был подписан мирный договор. Россия уступала Южный Сахалин Японии, а также передавала ей арендные права на Ляодунский полуостров с проведенной к нему веткой железной дороги. Русские войска выводились из Маньчжурии, а Корея становилась зоной японского влияния. Безвозвратные потери русской армии в этой войне превысили 48 тыс. чел.
Для России поражение в войне означало потерю высокого статуса океанской державы и прекращение активной, наступательной политики в перспективном Тихоокеанском регионе. Война с Японией выявила незащищенность дальневосточных рубежей страны, обратила внимание правительства на проблемы Сибири и Дальнего Востока. В результате столыпинской переселенческой политики русское население Сибири и Дальнего Востока удвоилось, с 1906 по 1913 г. на восток переехали 3,5 млн чел. Это имело не только хозяйственное, но и стратегическое значение. Война японская перешла в войну гапонскую, породившую гибель империи и великую смуту, вывести Россию из которой удалось только Великому Сталину, убитому впоследствии кликой Хрущёва.
Из дневника Макарова Вадима Степановича (почетный гражданин города Бостона, штат Массачусетс, церковный староста православного храма Святого Георгия Победоносца, семьдесят пять лет).
«Родина-то далеко. Вот прислали поздравительную от военно-морского атташе СССР. Приятно, что помнят. Одно время у нас что-то налаживалось, со второй половины 50-х. Очень уж мне хотелось навестить родину, особенно Петербург и Кронштадт. Знал я уже, что Север закрыт для иностранцев (и для меня, значит). И вот приехал в Америку Хрущ, помпа ему была устроена немыслимая, даже по американским меркам, а тут разного рода «шоу» устраивают матерые барышники, вам за баксы из любого болвана сделают героя. Вот так они и Хруща накачивали. А мне этот вахлак был омерзителен сразу, когда он Крым подарил Украине. Севастополь отдал какой-то «союзной республике», славу и гордость России! А потом флот стали резать на металлолом, армию унизили по его капризу. Но главное — его неожиданная для всех и такая дикая атака на Православную церковь. И злоба какая-то сатанинская! Сталину я многое простил не только за стойкость в руководстве войной, но и за послабление им Православию. И вот…
Получил я тогда заблаговременно приглашение из Советского посольства: просим, мол, прибыть на банкет в «Уолдорф-Астория» на встречу с главой правительства и т. д. Обратил внимание сразу, что не сообщают сумму взноса за участие в таком мероприятии, как у них всегда делается не только во встречах с президентами (кроме предвыборных, разумеется!). Что ж, думаю, и здесь видна русская широта. Решил: пойду, хоть русский язык послушаю, да и хотелось вблизи на Хруща посмотреть. Что телевизор? В Голливуде из любого бесенка красавчика и умника слепят.
Приехал в Нью-Йорк облаченным в смокинг, не наряжался так с мая 45-го, когда отмечали Победу. Вся американская знать сбежалась, явно чуют добычу — страна-то Россия огромная, богатейшая, а раз в ней хозяйничает такой обалдуй, значит, можно всласть поживиться. Пришел я, как и почти все в подобных случаях, загодя, чтобы присмотреться, кто пришел, кто с кем братается и с кем шепчется. Тут сведений деловых наберешь куда больше, чем из всех газет. И точно — в центре внимания хрущевский зять Аджубей, около него так и вьются сенаторы и миллионеры, деятели из Госдепа и обладатели всяких там «Оскаров». Он развязен и вульгарен, морда самодовольная, красная, лоснится (пьяный, что ли? Но я издали наблюдал).
Стоим, ждем, за роскошный стол не садимся. И вот — появился САМ, все захлопали (я понимал, что надо, этикет требует, но не смог себя пересилить, не стал ему хлопать). И началось. Не знаю, как Аджубей, но Хрущ был точно пьян, и крепко. Морда хамская, бородавка так и бросается в глаза, речь простецкая, да еще с множеством противных ошибок. А собравшиеся дружно хохочут, подзуживают его ложным одобрением. А он распаляется все больше и больше.
Опустил я глаза и подумал: батюшка ты мой, покойный у Господа Степан Осипович! Не видишь ты такого срама, как заурядный хам позорит Русь в чужой стране. Вспомнил я отцовские конспекты произносимых им речей в Англии и Штатах (он говорил там по-английски, а записи сделал по-русски). Речь истинного джентльмена, льется легко и свободно, причем и пошутить мог хорошо и к месту. А тут…
И вдруг меня как в душу толкнули: Порт-Артур! Ведь Сталин еще в августе 45-го вернул России ее крепость, получив вынужденный подарок от Чан Кайши, потом Мао подтвердил договор. И вот поганый Хрущ, едва усевшись хозяином в Кремле, отдал Артур китайцам в мае 55-го. Ах ты, думаю, сволочь! Да я бы вам за свой счет остатки «Петропавловска» со дна моря поднял (обдумывал я уже такой проектик). Вспылил я, как никогда, пожалуй, в жизни, повернулся и на глазах всех вышел.»
Эскадренный броненосец «Петропавловск» погиб от диверсии направленной изначально не против самого корабля, как такового, а против ненавистного мировому злу адмирала Макарова, глубоко православного русского человека, являвшегося весьма надёжной опорой русской традиционной государственности в России, и очень популярного в народе.
Гибель линкора «Императрица Мария» произошла в результате диверсии против корабля, как такового, самого мощного корабля на черноморском театре военных действий во время Великой войны. Линкор очень мешал своими громкими успешными боевыми делами чёрной мрази, жаждавшей поражения традиционного русского национального государства и замены его интернациональной диктатурой мирового масонства во главе с одним маленьким оборотисто – пронырливым местечковым племенем. Эта мразь, дорвавшись до власти, почти полностью уничтожила русский флот на Чёрном море. Так некий Н. Ленин (В. Ульянов – Бланк) выполнял свои гарантии под финансовыми обязательствами ведомству полковника Николаи и компании братьев, очень не любящих огласки своих кровавых деяний.
Линкор «Императрица Мария» был первым из серии русских дредноутов, новых линейных кораблей, появившихся в начале нашего века, с мощным артиллерийским вооружением, сильным бронированием, повышенной непотопляемостью и увеличенной скоростью хода, пришедших на смену броненосцам, основе тогдашних военных флотов. Название пошло от имени первого из таких кораблей — английского линкора «Дредноут» -»Неустрашимый», построенного в 1906 году.
«Мария» была заложена по проекту известных корабельных инженеров А. Н. Крылова и И. Г. Бубнова перед Великой войной 1914-1918 годов на черноморской верфи в Николаеве. Корабль вступил в строй в июле 1915 года.
Вторым в серии был построен и введен в состав Черноморского флота линкор «Императрица Екатерина Великая». Третьим сошёл со стапеля «Император Александр III».
В связи с решением оборудовать головной корабль в качестве флагманского, все корабли серии распоряжением морского министра И. К. Григоровича было приказано называть кораблями типа «Императрица Мария».
Имя «Императрица Мария» носил парусный 84-пушечный линейный корабль Черноморской эскадры. На нем во время Синопского морского сражения 18 (30) ноября 1853 года, завершившегося сокрушительным разгромом турецкой эскадры, держал свой флаг П. С. Нахимов.
Водоизмещение новых русских линейных кораблей доходило до 24 000 т, длина -168 м, ширина -27 м, осадка -8 м. Мощность паровых турбин – 26 500 л. с, скорость хода -до 24 узлов. Бронирование палуб, бортов, артиллерийских башен, боевой рубки – до 280 мм. Вооружение: артиллерия главного калибра — двенадцать 305-мм орудий в 4 трехорудийных башнях; противоминного калибра – двадцать 130-мм казематных пушек. Корабль имел 12 зенитных орудий и четыре подводных торпедных аппарата, мог брать на борт два гидросамолета. Экипаж линкора составлял 1200 человек.
На «Марию» возлагалось слишком много надежд; и хотя еще не все механизмы корабля были доведены до боевого совершенства и к самостоятельным действиям линкор не совсем был готов.
Историк отечественного Военно-морского флота Р. М. Мельников пишет: «…Зная, как трудно приходится флоту, как рискуют старые линкоры при каждой встрече с «Гебеном», на «Императрице Марии» изо всех сил старались ускорить начавшуюся с уходом из Николаева программу приемных испытаний. На многое, конечно, приходилось закрывать глаза и, полагаясь на обязательства завода, откладывать устранение недоделок на время после официальной приемки корабля. Так, много нареканий вызвала система аэрорефрижерации погребов боезапаса. Оказалось, что весь «холод», исправно вырабатывавшийся «холодильными машинами», поглощался разогревавшимися электродвигателями вентиляторов, которые вместо теоретического холода гнали в погреба боезапаса свое тепло. Поволноваться заставили и турбины, но сколько-нибудь существенных неполадок (кроме последствий небрежного монтажа маслоохладителя и неотрегулированности предохранительных клапанов котлов) не произошло. В течение 50-часового похода 13–15 августа 1915 года вдоль южного берега Крыма средняя скорость составила около 21 узла (при водоизмещении 24 000 т и мощности турбин 26 000 л.с.). В топках 20 котлов за три часа сожгли 52 т угольных брикетов Южно-Бельгийского общества, что соответствовало даже меньшему удельному расходу, чем предусматривалось спецификацией (0,72 вместо 0,8 кг/л.с. в час). К 25 августа приемные испытания завершились, хотя доводка корабля продолжалась еще долгие месяцы. По указанию командующего флотом для борьбы с дифферентом на нос пришлось сократить боезапас двух носовых башен (со 100 до 70 выстрелов) и носовой группы 130-мм пушек (с 245 до 100 выстрелов). Недостаточность этих мер заставила Технический совет ГуКа в июне 1916 года согласиться на ликвидацию двух носовых 130-мм пушек (вот так, в конце концов, проявили себя последствия проектных перегрузок по инициативе заказчика) с их погребами и ряд перемещений грузов от носа к корме, что и сделали на «Императоре Александре III» и на «Императрице Екатерине Великой».
23 июня 1915 года после освящения корабля, подняв над Ингульским рейдом окропленные святой водой флаг, гюйс и вымпел, «Императрица Мария» начала кампанию.
Вступление в строй первого дредноута Черноморского флота коренным образом изменило оперативно-тактическую обстановку на всем Черноморском театре военных действий. А ведь именно Черноморскому флоту была в той войне определена главнейшая из всех задач — занятие Босфора и Константинополя! Ясно, что при таком не только военном, но и политическом раскладе «Императрица Мария» просто не могла остаться вне внимания вражеских спецслужб. Это понимали и в Петербурге, и в Ставке в Могилеве, и в Севастополе. Поэтому даже переход дредноута к месту постоянного базирования обеспечивал весь Черноморский флот, операцией которого руководил лично командующий.
Вот как описывает переход «Марии» из Николаева в Севастополь очевидец событий на Черноморском флоте в 1915–1916 годах капитан 2-го ранга А.П. Лукин: «Близок день перехода в Севастополь — день вступления в строй. Специально для нее углубили фарватер реки. В штабе — деятельная подготовка к переходу. По донесениям тайных агентов, враг готовится использовать этот переход, чтобы атаковать «Марию» всеми подводными лодками. Приняты чрезвычайные меры охраны. Мобилизован весь торговый тоннаж. Двинулась «Императрица Мария». Окруженная со всех сторон нарочито полузатопленными транспортами и пароходами, чтобы осадка их соответствовала осадке «Марии», на случай подводных атак, императрица Черного моря движется к морю. Весь флот, с рассыпанными в дозор крейсерами, в полной боевой готовности ожидает ее. Эти меры предосторожности были необходимы, так как артиллерия «Марии» не вполне еще была готова к бою. Лес мачт и туча дыма показались от Очакова. Опасный узкий проход пройден. Транспорта и пароходы останутся позади. «Мария» идет одна. Вдруг громовой гул потряс море со стороны Очакова. «Мария» впервые опробовала свой огонь. Трудно, даже невозможно читателю, никогда не бывшему на дредноуте и не испытавшему на себе всего впечатления от его залпа, изобразить этот потрясающий эффект мощности силы удара и огня… Мощь залпа одной башни такова, что на предельной черте угла обстрела деформируется железо надстроек. А ведь в предельной черте этого угла находятся люди на постах управления, сигнализации и наблюдения. Эффект залпа одной башни столь потрясающ, что были случаи мгновенного помешательства. Один молодой, матрос, следивший в своем секторе за подводными лодками, лишился на мгновение рассудка от неожиданности залпа и бросился за борт.
Окончив пробу артиллерии, «Мария» легла на Севастополь. Впереди, ферзейлем, крейсер «Память Меркурия» под флагом начальника бригады крейсеров. Кругом миноносцы охраняют от подводных атак. На дистанции — флот.
Какими пигмеями кажутся перед ней наши славные, казавшиеся столь грозными, боевые старики «Евстафий», «Иоанн Златоуст», «Пантелеймон». Какая сила, какая мощь, какая красота!
Флот подходит к Севастополю. Туча тральщиков, дозорных судов, быстроходных моторов охраняет канал. Рыщут, ищут перископы. Самое опасное место. Первым входит «Меркурий». За ним «Кагул». Приближается «Мария».
С удвоенной энергией зарыскали миноносцы и моторные катера. Вдали, затемняя горизонт, серая громада линейных кораблей.
«Мария» полным ходом идет по каналу. Ложится на створ Инкерманских маяков… Берега черны. Школы и магазины закрыты. Улицы опустели. Все на берегу- Выстроены войска. Слышны торжественные звуки гимна. Несется «ур-р-ра»! «Императрица» входит в рейд».
Очень повезло «Марии» и с командующим флотом. Вот блестящий пример его боевого таланта: 6 мая 1915 года «Пантелеймон» и «Три Святителя» бомбардировали Босфор, а «Св. Евстафий» и «Иоанн Златоуст» прикрывали довлольно сложную операцию. «Гебен» же был в море, рассчитывая захватить русские силы врасплох. Утром он пошел в атаку, имея за собой солнце. Адмирал Эбергард принял бой и приказал «Пантелеймону» срочно присоединиться. Произошел тактически очень интересный бой, длившийся 22 минуты, после чего «Гебен», имея повреждения и выпустив 200 своих 11-дюмовых снарядов, не достигнув ни одного попадания, «вышел из боя полным ходом». К вечеру благодаря своему большому ходу, он проскочил в Босфор. Победа осталась за Эбергардом.
Очень скоро вахтенный журнал «Императрицы Марии» стал сводом боевых реляций с самых напряженных участков битвы на морском театре войны. Уже 30 сентября 1915 года «Мария» вместе с крейсером «Кагул» и пятью эскадренными миноносцами прикрывает ударный отряд флота — вторую бригаду линейных кораблей «Евстафия», «Иоанна Златоуста» и «Пантелеймона» («Князь Потёмкин Таврический»), крейсеров «Алмаз» и «Память Меркурия», семь эсминцев, нанесших ощутимый удар противнику в юго-западной части моря. Более 1200 снарядов обрушили тогда корабли на Козлу, Зунгулдак, Килимли и Эрегли. А потом было все — отражение атак немецких субмарин, тяжелые штормовые походы, ожесточенные бои, ответственейшие операции. 1-2 ноября «Мария» и «Память Меркурия», держа под прицелом своих орудий выходы из Босфора, прикрывают действия русской эскадры в Угольном районе. 23-25 ноября «Мария» снова здесь. Моряки видят, как пылает вражеский порт Зунгулдак и стоящий на рейде пароход. Эскадра стремительно прошла вдоль берегов Турции, потопив два неприятельских судна. Боевой счет «Марии» рос от дня ко дню.
Еще недавно прикрывавшаяся авиацией при переходе из Одессы, «Императрица Мария» 24 января 1916 года теперь сама возглавила вошедшую в историю крупную комбинированную операцию, в которой едва ли не впервые в мире главная роль отводилась авиации. Четырнадцать гидросамолетов с авиатранспортов «Император Александр I» и «Император Николай I» под прикрытием 1-й маневренной группы и четырех эсминцев преодолели низкую облачность и подвергли массированной бомбежке причалы, сооружения и суда в Зунгулдаке.
2-4 февраля она прикрывает эскадру, поддерживающую с моря наступление у Виге. Турки были отброшены тогда к Агине. Потом операция по переброске войск для усиления Приморского отряда. На «Марии» держит флаг командующий флотом несокрушимый адмирал Эбергард. Линкор прикрывает постановку мин у Констанцы, несет боевую патрульную службу в море, а с 29 февраля идет на перехват обнаруженного в Синопской бухте крейсера «Бреслау». Пирату чудом удалось уйти, но 22 июля орудия «Марии» наконец настигают его. Правда, «Бреслау» отделался маленькими повреждениями, но его крейсерская операция была сорвана. Преследуемый «Марией», «Бреслау» укрылся в Босфоре. Появление грозных сестёр «Марии» и «Екатерины Великой» на коммуникациях означало, что время безнаказанных действий на море кайзеровских пиратов «Гебена» и «Бреслау» кончилось. В первой половине 1916 года «Гебен» всего три раза рискнул высунуться из Босфора. У всех берегов Черного моря можно было видеть тогда стелющиеся по воде длинные и приземистые силуэты могучих линкоров.
Вот что писали потом в мемуарах участники тех событий с немецкой стороны:
«Начинается прекрасный ясный день. Безгранично, без единого облака простирается голубое, лучащееся небо над морем, которое теперь снова спокойно дышит. Монотонно впереди у форштевня шумит вода, сзади за кормой поют винты свою рабочую песню, в чистое небо из труб вырываются всё новые черноватые клубы дыма, одновременно исполненный нежности взгляд скользит по длинному серому корпусу идущего корабля. Между тем наступило 10 часов утра, тут наблюдательные посты прямо на севере замечают что-то, что примерно могло соответствовать паруснику. «Гебен» сразу же разворачивается в этом направлении.
В следующий момент наступает всеобщее изумление. Едва мы произвели разворот, тут на далеком, идущем без дыма неопределенном предмете что-то зловеще вспыхивает. Блестящие, искрящиеся солнечные блики, танцующие на воде, немного мешают видимости. Линия горизонта, чёткая, ясная линия, кажется перекошенной, даль затуманена. Мгновение после странной вспышки над водой глухо прокатывается гром. Черт подери! Он стреляет, в чём собственно дело?
Резко звучат колокола громкого боя над палубой «Гебена». Все бегут на свои боевые посты. Затем каждый на посту ожидает дальнейшего развития событий. Между тем после вспышки проходят 20, 30, 40 секунд, 50, 60 секунд — тут, разом на расстоянии приблизительно 500 метров от «Гебена» что-то ударяет с колоссальной силой в воду! Мощные фонтаны встают моментально, словно поднятые таинственной рукой, и затем снова опускаются.
Вот и разгадка! Там военный корабль! В искрящемся солнечном свете он показался парусником. Теперь всё ясно! Уже вновь на нем вспыхнуло — и теперь ясно виден новейший линкор, сверхдредноут «Императрица Мария»! Проклятье! Около 24 км отделяют нас от этого колосса, а он уже стреляет! Полностью безоружные, мы стоим напротив современнейшего корабля русского Черноморского флота.
Злой сюрприз для нас! Мы ведь не предполагали, что чудовище уже готово и снует по Черному морю, Конечно, мы должны были на это рассчитывать, но до сих пор «Императрица Мария» не показывалась. Теперь, когда линкор готов, мы сейчас безнадежно отданы на произвол его дальнобойным орудиям. Ситуация становится все более угрожающей. «Императрица Мария» стреляет чертовски быстро. Второй залп гигантского корабля падает с шумом на расстояний 200 метров от нас.
Выйдем ли мы вовремя из зоны его огня, прежде чем тяжелые снаряды нас настигнут? Это единственный вопрос, который нас волнует. На таком гигантском расстоянии мы с нашими орудиями беспомощны. Вновь там вспыхивает! Напряженно мы смотрим на далекий силуэт русского линейного корабля.
Вновь проходят напряженные секунды, они тянутся, словно часы. Теперь должны последовать и удары! А вот уже и они! Совсем рядом, не достигая и 50 м от нас, в воду ударяют тяжелые «чемоданы». Теперь прочь из зоны досягаемости его огня! Не очень хорошие маневренные качества «Гебена» тем не менее, приходятся и на этот раз кстати. Быстрым ходом, зигзагами, мы ретируемся.
Полные волнения, все на мостике смотрят на грозный колосс, из чьих труб теперь вырываются густые облака дыма. Кажется, он хочет нас атаковать! Полным ходом он идет за нами. Ситуация действительно достаточно угрожающая. Мы знаем, что сверхдредноут имеет скорость 25 узлов, так что он может нас догнать. Конечно, русские также прибавляют ход и следуют на максимальном ходу за нами. Через бинокль ясно видны мощные носовые волны, которые раздвигает колосс.
Что теперь?
Правда, «Гебен» мог бы благодаря своей скорости отважится на внезапную атаку, чтобы подойти к опасному противнику на расстояние выстрела. Мы хотим удержать захваченное господство в Черном море. Но для выполнения нашего плана нам нужен самолет-бомбардировщик, который мы теперь вызываем по радиосвязи из Босфора. Самолеты над военным кораблем всегда означают тревогу. Пока «Императрица Мария» должна будет подумать о своей обороне, мы сможем обрушиться на противника и подойти на достаточное для открытия огня расстояние. Таков наш план. Сперва, так как мы одни, не остается ничего иного, как держаться на безопасной от противника дистанции.
Спустя короткое время, пока мы на полной скорости уходим, благополучно приходит ответ, что самолет с бомбами взлетел и находится на пути к указанному нами месту. Пока он приближается, мы должны насколько возможно держать противника на расстоянии. Но русский линкор упорен. Очень медленно увеличивается между нами расстояние. Стоит больших усилий получить преимущество. Дикая охота продолжается. Уже три часа сверхдредноут сидит у нас на хвосте и не отстает. Несмотря на это, мы с удовлетворением отмечаем, что расстояние между нами хоть и медленно, но мало-помалу увеличивается.
Где же задерживается наш самолет! Он уж должен давно быть тут? Напрасно мы осматриваемся по сторонам. Его не видно. Так что идем дальше! Возможно, он еще появится! Его отсутствие, конечно, не поднимает наше настроение. Что мы должны будем прежде всего предпринять, если и другие корабли русского Черноморского флота находятся в открытом море и мы где-нибудь теперь пересечем им дорогу! За нами «Императрица Мария», а позади — прочие линкоры, которые, конечно же, желают воспользоваться благоприятным случаем уничтожить ненавистный «Гебен».
Лихорадочно мы прислушиваемся в радиорубке, не проявятся ли первые признаки приближающегося русского флота. Но, слава Богу, до сих пор слышна лишь радиосвязь «Императрицы Марии» с Севастополем. Много же у них энергии! Он сообщает теперь о происшествии родной базе. Его радость настолько велика, что он уже радирует о ещё лишь предстоящем конце «Гебена»! Так легко русские его не получат. В конце концов «Гебен» все ещё остается самым быстроходным кораблем в Черном море!
Только бы прибыл самолет! Не сбился ли он с пути? Между тем наступило два часа дня, а охота по нескончаемой, словно расплавленной пекущим солнцем водной поверхности всё ещё тянется. Тут вдруг наблюдательный пост сообщает, что слева от нас в направлении анатолийского побережья что-то плавает на воде! Бинокли направляются на странную точку, и постепенно при приближении распознается гидросамолет — самолет, который должен был нам помочь!
Вот это невезение! Из нападения теперь ничего не выйдет. И, все-таки, с каким бы удовольствием мы бы показали «Императрице Марий» зубы. Прямым курсом мы идем к самолету. Молниеносное размышление, можем ли мы ещё спастись, прежде чем нас атакует русский колосс. Бедный товарищ, беспомощно покоящийся на воде, нам очень-очень его жаль. Нам ещё удастся, у нас ещё получится, прежде чем «Императрица Мария» подойдет на расстояние выстрела.
Выделенный для спасения самолёта личный состав уже на шкафуте по левому борту. Ведутся приготовления, чтобы как можно скорее вытащить самолет из воды. На стволе 28-см орудия укрепляется блок с проходящим через него тросом, и ствол, насколько это, возможно, опускается к воде.
«Гебен» упорно направляется к самолету, это длится недолго, вот он уже подошёл и останавливается. Летчики быстро укрепляют канат за кольцо, которое находится в центре фюзеляжа самолета. Всё должно быть проделано очень расторопно. Пока ствол орудия уходит вверх и самолет медленно поднимается, все взгляды устремлены на преследующий нас колосс, который тем временем приближается.
Там на «Императрице Марии» они, вероятно, удивлены этому хладнокровию. В очень короткое время всё уже завершено. Башня поворачивается, и самолет уверенно опускается на палубу. Итак, он теперь, по крайней мере, в безопасности.
Летчики рассказывают нам, что в пути у них случилась поломка, и они вынуждены были садиться на воду. Они рады, что в несчастье им так крупно повезло. Но теперь снова нужно уходить от русских, которые угрожающие приближаются. Тихий скрежет и вибрация проходят по корпусу корабля, винты мощно вспенивают воду, мы вновь идем максимальным ходом. Погоня начинается заново.
Когда от Босфора нас еще отделяет около 60 морских миль, «Императрица Мария» прекращает преследование и поворачивает на север. В 18.30 вечера мы снова заходим в Босфор и вскоре встаем в бухте Стения. Это было первое знаменательное столкновение с дредноутом. Мы будем долго о нем помнить. Жаль только, что мы не смогли помериться силами.
На следующий день я на рассвете покидаю корабль и направляюсь в Османие. Проходят два часа, прежде чем я добираюсь из бухты до радиостанции. Товарищи дружелюбно меня встречают. Я рассказываю об «Императрице Марии», о приключении в море. Они с волнением слушают и задумчиво подытоживают, что теперь с нашим господством в Черном море покончено.»
Одним словом, новые русские линкоры, уже успевшие причинить немцам великое множество неприятностей, становились для кайзеровского флота врагами № 1. Над тем, как их уничтожить, бились не только лучшие умы в Германском морском генеральном штабе, но и в кабинетах руководителей тайной войны против России.
Еще в апреле 1915 года агенты парижской резидентуры русской политической полиции получили первую информацию, что немецкая разведка планирует организовать диверсии на заводах, работающих на нужды флота Подставленному немцам агенту Департамента полиции Шарлю предлагалось взорвать один из сильнейших российских боевых судов — линейный корабль «Императрица Мария».
Генерал-лейтенант ФСБ А. Зданович пишет: «Данная информация не прошла, очевидно, незамеченной в Морском Генеральном штабе и подтолкнула моряков на давно назревшие организационные шаги. В конце сентября 1915 года морской министр адмирал И. К. Григорович направил своему коллеге, генералу А. А. Поливанову, являвшемуся одновременно и председателем Особого совещания по обороне государства, письмо, в котором сообщал, что с 1912 года немцы и австрийцы стали проявлять усиленную активность по изучению морских сил России и с началом войны противник сумел «глубоко проникнуть во все области военно-морского дела». Адмирал констатировал, что контрразведка Военного ведомства, перегруженная своей основной работой, не уделяет должного внимания флоту, и предлагал выделить морскую контрразведку в самостоятельную организацию. Направив одновременно с письмом выработанный МГШ проект Положения о морских контрразведывательных отделениях, Григорович предлагал Поливанову высказать свои замечания. Но это была лишь бюрократическая формальность. Моряки уже приняли решение, и отказываться от него не собирались. В указанном Положении задача морских отделов контрразведки формулировалась следующим образом; «Борьба с военно-морским шпионством и вообще воспрепятствования тем мерам иностранных государств, которые могут вредить интересам морской обороны империи». Предполагалось создать контрразведывательное отделение Морского Генштаба, а также финляндское, балтийское, беломорское, тихоокеанское и черноморское отделения. В случае необходимости по указанию начальника МГШ могли быть образованы и другие органы контрразведки, в том числе в морских крепостях. Наиболее активно взялось за создание контрразведки командование Черноморского флота. Уже 14 октября 1915 года начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М. Н. Алексеев утвердил Положение о разведывательном и контрразведывательном отделениях штаба. Руководителем обоих органов назначался третий помощник флаг-капитана флота, причем специально оговаривалось, что он должен быть «основательно знакомый на практике с разведкой и контрразведкой». В 1915–1917 годах указанную должность занимал капитан 2-го ранга Нищенков, а начальником контрразведывательного отделения являлся ротмистр Автономов, откомандированный из Севастопольского жандармского управления. К концу второго года войны начали функционировать контрразведывательные отделы на других флотах и в Финляндии.
Что же касается контрразведки Морского Генштаба, то укомплектовать ее и организовать работу оказалось сложнее. Руководство Регистрационной службы, на которую возлагались функции контрразведки и разведки, приоритетным считало последнюю. Укреплению аппаратов военно-морских агентов, прежде всего в Скандинавии, уделялось особое внимание. Туда направлялась большая часть денег из секретных сумм, подбирались и командировались флотские офицеры и завербованные сотрудники.
Для успешной диверсии на новых черноморских линкорах сначала необходимо было сменить командующего флотом. Против успешного, талантливого адмирала Эбергарда в жёлтой прессе, подконтрольной известным врагам рода человеческого, с которыми Николай Второй не пожелал бороться, хотя был обязан по своему положению это делать.
За два месяца до гибели «Императрицы Марии» командующий Черноморским флотом адмирал Эбергард получил записку, весьма смахивающую на ультиматум: «Мы тебя знаем, и верим, тебе, но если, ты хочешь преуспеть, должен подчиниться нашей воле. Григорий Распутин».
Адмирал не привык к ультиматумам: он вернул записку. Адмирал еще не понимал в полной мере, чем рискует, и какие последствия сей поступок может иметь. Эбергард переоценил свои силы, Распутин, казалось, вначале проглотил обиду. Но вскоре Эбергарду вручили новое послание: «Посылаем тебе наше благословение — образок. Ты же, в знак подчинения нашей воле, должен жениться на нашей племяннице, ныне проживающей в Севастополе (прилагался адрес)… Григорий Распутин».
Эбергард вызвал адъютанта и, вручая ему записку Распутина, срывающимся от ярости голосом приказал:
— Адрес здесь имеется. Чтобы этой племянницы через двадцать четыре часа в Севастополе не было. Это приказ...
В Морском генеральном штабе, а затем и в морском штабе главковерха, учрежденном в январе 1916 года, непрерывно продолжались заказанные врагами России попытки сместить черноморское командование. Между тем задача эта была не из легких даже для купленных высокопоставленных чинуш.. Командующий пользовался непререкаемым авторитетом среди подчиненных; есть основания полагать, что ценил А.А. Эбергарда и сам император. Тем не менее, начальник Морского штаба Ставки адмирал А.И. Русин и его не в меру деятельный флаг-капитан капитан 2 ранга А.Д. Бубнов проявили завидную настойчивость. 9 июля 1916 года морской министр в присутствии А.И. Русина представил государю доклад, принадлежащий, по всей вероятности, перу А.Д. Бубнова. Зачитав доклад, И.К. Григорович просил Николая II назначить на пост командующего Черноморским флотом контр-адмирала А.В. Колчака — начальника минной дивизии Балтийского моря. «Я видел, что Государь не очень доволен такой моею просьбою, но, к моему удивлению, он легко согласился...», — вспоминал министр. Распутинская «племянница» сработала успешно.
Вместе с адмиралом А.А. Эбергардом были смещены со своих постов высшие чины штаба Черноморского флота. Начальника штаба вице-адмирала А.Г. Покровского, не пробывшего в должности и трех месяцев, сменил контр-адмирал М.И. Каськов — бывший командир линейного корабля «Пантелеймон», а затем начальник высадки во время крупных войсковых перевозок на побережье восточной Анатолии весной 1916 года. На должность флаг-капитана по оперативной части новый командующий пригласил капитана 2 ранга М.И. Смирнова — своего старого сослуживца еще по Морскому генеральному штабу. Лишился своего поста и главный командир Севастопольского порта вице-адмирал Н.С. Маньковский, во время многочисленных и длительных походов флота замещавший А.А. Эбергарда в Севастополе. Через несколько недель главный военный порт возглавил старший из боевых флагманов Черноморского флота — вице-адмирал П.И. Новицкий, который в течение двух военных лет командовал дивизией линейных кораблей. Какие же аргументы заставили императора переменить мнение и сместить командование Черноморского флота?
Предлагаю читателям тот самый доклад адмирала Русина от 9 июля 1916 года, названный А.П. Лукиным «обвинительным актом». Текст документа приводится без сокращений и изменений.
«Секретно
ДОКЛАД ПО МОРСКОМУ ШТАБУ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Поставленная Черноморскому флоту с началом войны задача — поддерживать господство на море — наилучшим и исчерпывающим образом могла бы быть выполнена сосредоточением главных боевых усилий Черноморского флота против Босфора как единственного выхода флота противника в море.
Составленные еще в мирное время и известные командующему флотом планы операций на Черном море именно и преднамечали сосредоточение боевых усилий флота против Босфора, и в соответствии с этими планами создавались необходимые боевые средства и должна была протекать боевая подготовка личного состава флота.
В начале войны, до вступления в строй новых линейных кораблей и миноносцев, активная деятельность нашего флота против Босфора могла почитаться спорной — в смысле возможности осуществления полной его блокады — вследствие сравнительной слабости флота и значительной зависимости его от баз. Но и в начале войны высказывались некоторыми морскими начальниками соображения о возможности поддерживать блокаду Босфора наличными силами флота при условии организации погрузки угля в море, в чем наш флот приобрел обширный опыт при неоднократных погрузках угля в океане в минувшую войну.
Командующий флотом Черного моря не счел, однако, возможным сделать опыт в этом направлении и совершенно отказался от мысли блокировать Босфор».
Авторы доклада справедливо отметили трудности, с которыми пришлось столкнуться командованию флота Черного моря при организации действий у побережья Анатолии и в предпроливной зоне. Однако масонские прихвостни Русин и Бубнов сознательно не обратили внимание императора на обстоятельства, не позволившие А.А. Эбергарду добиться полного блокирования Босфора с началом военных действий. Единственная оборудованная база блокирующих сил — Севастополь — находилась без малого в 300 милях, т. е. на расстоянии более чем суточного перехода флота от блокируемого объекта. Имея противником линейный крейсер «Гебен» (в турецком флоте он назывался «Явуз Султан Селим», но сохранил немецкую команду), который почти вдвое превосходил в скорости наиболее боеспособную 1-ю бригаду линейных кораблей и по мощи своей артиллерии был сопоставим с «Евстафием», «Иоанном Златоустом» и «Пантелеймоном» вместе взятыми, командующий Черноморским флотом не имел возможности разделять силы. Не было в его распоряжении ни быстроходных крейсеров, ни современных подводных лодок (первая из них — «Тюлень» — вступила в строй только в феврале 1915 г.), способных непрерывно наблюдать за устьем Босфора. Поэтому адмирал А.А. Эбергард вынужден был всякий раз выводить в крейсерство тихоходную «армаду» флота почти в полном составе. Только в январе 1915 года эскадра провела в море 19 суток и прошла в тяжелых, как правило, метеорологических условиях свыше 4500 миль. Необходимость выхода всей эскадры для действий на неприятельских сообщениях при отсутствии сменности сил приводила к непомерному напряжению Черноморскому флота и преждевременному износу механизмов и без того не новых кораблей и, разумеется, не позволяла непрерывно воздействовать на турецкие коммуникации.
С вступлением же в строй дредноутов «Императрица Мария» (июнь 1915 г.) и «Императрица Екатерина Великая» (октябрь 1915 г.) и формированием трех тактических («маневренных») групп, каждая из которых была в состоянии справиться с «Гебеном», действия флота по нарушению неприятельских сообщений переросли в собственно блокаду как высшую форму борьбы на коммуникациях.
8 января 1916 года состоялся первый и единственный бой нового русского дредноута «Императрица Екатерина Великая» с немецким линейным крейсером «Гебен». Обстоятельства этого боя вкратце таковы. В 8 часов 10 минут эскадренные миноносцы «Пронзительный» и «Лейтенант Шестаков», осуществлявшие блокаду турецкого угольного порта Зонгулдак, обнаружили «Гебен», вышедший в море для прикрытия морских перевозок, и навели по радио на него «Императрицу Екатерину Великую», которая с охранением из крейсера «Память Меркурия», эсминцев «Дерзкий», «Гневный», «Быстрый» и «Поспешный» находилась несколько мористее. В 9 часов 44 минуты русский линкор открыл огонь главным калибром по вражескому кораблю с дистанции 125 кабельтовых.
«Гебен» отвечал частыми залпами своих 283-мм орудий и энергично маневрируя на полном ходу через 21 минуту вышел за пределы досягаемости 305-мм артиллерии русского дредноута, который, израсходовав более 200 своих 470-килограммовых снарядов достиг предположительно одного попадания в носовую часть своего противника, что не подтверждено немецкими данными. Лишь превосходство в скорости над русскими линейными кораблями спасло «Гебен» от неминуемого уничтожения.
А весной 1916 года комендоры линкора «Императрица Мария» с третьего залпа нанесли непоправимый урон турецко-германскому крейсеру «Бреслау» находившемуся недалеко от Новороссийска. И в том же году линкор «Императрица Екатерина» нанесла серьезнейшие повреждения «Гебену», который после этого еле смог «доползти» до Босфора. На этом фоне утверждение клеветников Русина и Бубнова о том, что комфлота «совершенно отказался от мысли блокировать Босфор», выглядит по меньшей мере странным. В этой связи уместно вспомнить и о том, что русский Черноморский флот был единственным из всех воюющих флотов Великой войны, который настойчиво искал встречи с неприятелем в его водах.
Известно, что командующий Черноморским флотом адмирал А.А. Эбергард — флагман весьма энергичный и самостоятельный — с получением сведений о прибытии в Босфор контр-адмирала В. Сушона с крейсерами «Гебен» и «Бреслау» испрашивал разрешения верховного командования войти в пролив и нанести упреждающий удар по неприятельским кораблям. (Кстати, в конце 1903 г. капитан 1 ранга А.А. Эбергард, будучи флаг-капитаном штаба начальника эскадры Тихого океана вице-адмирала О.В. Старка, придерживался подобной точки зрения в отношении японцев.) По мнению комфлота, «копенгагирование» германских крейсеров, пусть даже ценой потери нескольких старых линкоров, в корне решило бы проблему завоевания и удержания господства на Черном море. Однако стремление черноморского командования взять инициативу в свои руки не нашло понимания ни в уже оккупированной масонами столице, ни в набитой изменниками Ставке. Из неё несколько раз «одергивали» А.А. Эбергарда и, в конечном счете, добровольно отдали неприятелю право на первый выстрел. «Полная неопределенность и разноречивость директив, — свидетельствует современник. — Создается обстановка, напоминающая русско-японскую войну, когда флот до последней минуты не знал, будет ли война, а директивы сверху поддерживали в нем уверенность в возможности избежать ее».
Эбергард был незаслуженно смещён, чем трусливый неудачник Николай Второй (кровавый) продолжил разрушение собственной власти, упорно двигаясь в екатеринбургский подвал, ввергая Россию из кровавой смуты последовавшей после неудачной войны 1904-05 годов, когда отдали Артур, Дальний и половину Сахалина, в ещё более кровавую всеобъемлющую смуту, последовавшую за неудачами в Великой войне.
История с племянницей друга семьи Николая Второго — Распутина явно приобретала иную окраску. Судьба женщины больше не волновала Распутина. Значит, он кому-то расчищал путь, имея прямой доступ к царю. Но кому? Как выяснилось впоследствии, дама, на которую указывал в своих записках Распутин, была связана с промасонскими петроградскими кругами «обществом».
Флот возглавил адмирал Колчак, у которого либерализм был в почёте, что облегчило выполнение разработанной немцами диверсии на «Марии».
Вот его откровения на допросах:
«Заседание чрезвычайной следственной комиссии
24-го января 1920 г.
Колчак. Прошлый раз, когда я говорил о Черном море, я упустил одно событие, которое, может быть, представляет некоторый интерес. Затем, когда вы спросили, с кем из великих князей, я виделся, я упустил из виду одну подробность. Одно из событий, это был взрыв, происшедший 7-го октября на дредноуте «Мария». Что касается свидания с великими князьями, я упустил из виду, что виделся с Николаем Николаевичем, который был тогда главнокомандующим, в Барановичах, куда я ездил из Балтийского моря. Затем я виделся с ним перед революцией в Батуме.
Алексеевский. Что касается взрыва, то было бы важно, чтобы вы сказали, чему вы после расследования приписывали взрыв и последовавшую гибель броненосца.
Колчак. Насколько следствие могло выяснить, насколько это было ясно из всей обстановки, я считал, что злого умысла здесь не было. Подобных взрывов произошел целый ряд и за границей во время войны — в Италии, Германии, Англии. Я приписывал это тем совершенно непредусмотренным процессам в массах новых порохов, которые заготовлялись во время войны. В мирное время эта пороха изготовлялись не в таких количествах, поэтому была более тщательная выделка их на заводах. Во время войны, во время усиленной работы на заводах, когда вырабатывались громадные количества пороха, не было достаточного технического контроля, и в нем появлялись процессы саморазложения, которые могли вызвать взрыв. Другой причиной могла явиться какая-нибудь неосторожность, которой, впрочем, не предполагаю. Во всяком случае, никаких данных, что это был злой умысел, не было.
Алексеевский. Как относились вы к Николаю Николаевичу, как главнокомандующему? Считали ли вы замену его, как главнокомандующего, бывшим императором полезным для войны событием или вредным?
Колчак. У Николая Николаевича я был в первый раз в 1915 году, во второй год войны, когда я был послан адмиралом Эссеном для доклада ему о положении дел в Балтийском море и о возможности совместных действий с армией на берегах этого моря. Ставка была тогда в Барановичах, и я ездил туда. В Барановичах я пробыл двое-трое суток. С Николаем Николаевичем я говорил очень мало и работал главным образом по этим вопросам в его штабе. Второй раз я виделся с ним в Батуме. Как раз первое известие о революции в Петрограде я получил в Батуме. Николай Николаевич в это время был командующим кавказской армией, и я был вызван туда для решения вопроса об устройстве портов побережья, устройства трапезундского порта, где была главная база снабжения кавказской армии, и вопросов перевозки по Черному морю. Я тогда, как и раньше, считал Николая Николаевича самым талантливым из всех лиц императорской фамилии, поэтому считал, что раз уже назначение состоялось из императорской фамилии, то он является единственным лицом, которое действительно могло нести обязанности главнокомандующего армией, как человек, все время занимавшийся и близко знакомый с практическим делом и много работавший в этой области.
Таким образом, в этом отношении Николай Николаевич, являлся единственным в императорской фамилии лицом, авторитет которого признавали и в армии, и везде. Что касается до его смены, то я всегда очень высоко ценил личность ген. Алексеева и считал его, хотя до войны мало встречался с ним, самым выдающимся из наших генералов, самым образованным, самым умным, наиболее подготовленным к широким военным задачам. Поэтому я крайне приветствовал смену Николая Николаевича и вступление государя на путь верховного командования, зная, что начальником штаба будет генерал Алексеев. Это для меня, являлось гарантией успеха в ведении войны, ибо фактически начальник штаба верховного командования является главным руководителем всех операций. Поэтому я смотрел на назначение государя, который слишком мало занимался военным делом, чтобы руководить им, только как на известное знамя, в том смысле, что верховный глава становится вождем армии. Конечно, он находился в центре управления, но фактически всем управлял Алексеев. Я считал Алексеева в этом случае выше стоящим и более полезным, чем Николай Николаевич. Насколько я помню, Алексеев последнее время был начальником штаба у Николая Николаевича.
Возвращаясь к рассказу о перевороте, должен сказать, что первые сведения о перевороте, происходящем в Петрограде, я получил, находясь в Батуме с двумя минными судами, куда пришел по вызову главнокомандующего кавказским фронтом Николая Николаевича для решения вопросов о снабжении кавказской армии морем и, в частности, вопроса об устройстве трапезундского порта, которое мы должны были принять на себя, устройства молов и т. д. С этой целью я прибыл в конце февраля в Батум, пройдя под Анатолийским побережьем и Трапезундом. Главнокомандующий кавказской армией прибыл в Батум к этому времени с своим поездом.
В течение первого же дня он познакомил меня со своими требованиями и пожеланиями. Мы затем обсуждали вопрос, в какой мере и в какой срок мы и состоянии выполнить это. Вечером, на второй день, насколько помню, я получил шифрованную телеграмму из Севастополя от адмирала Григоровича, что в Петрограде происходит восстание войск, что существующая власть дезорганизована, и что комитет Государственной Думы взял на себя функции правительства. Вот содержание этой телеграммы. Насколько помню, последние слова этой телеграммы были успокоительного характера, — «в настоящее время волнение утихает». Это была первая телеграмма, которую я получил о событиях в Петрограде. Тогда я обратился к начальнику штаба Николая Николаевича ген. Янушкевичу и спросил его, имеет ли он какие-нибудь сведения о событиях. Он сказал, что пока у него нет никаких сведений. Тогда я сказал ему: «Прошу доложить великому князю, что я должен итти в Севастополь, что я прошу меня «больше не задерживать». Янушкевич доложил великому князю, который вызвал меня и спросил телеграмму. Я показал ему телеграмму; он прочел ее, пожал плечами и сказал, что ему ничего неизвестно, но что мне известны его основные пожелания и поэтому он меня не задерживает.
Вечером в тот же день я вышел из Батума в Севастополь. По дороге я принял открытое немецкое радио из Константинополя, где была мощная радиостанция; радио рисовало потрясающую картину событий в Петрограде, говорило, что в Петрограде происходит революция, идут страшные бои и кровопролитие.
Словом, все эти сведения были сгущены и утрированы, как оказалось впоследствии. Суть, конечно, была справедлива, но форма и тон, которым излагалось все это, не соответствовали действительности. Радио было немецкое, на испорченном русском языке, с болгарскими оборотами, — очевидно, его передавал какой-нибудь, болгарин специально по-русски, с тем, чтобы его приняли все станции. Когда я пришел в Севастополь, то первым вопросом, который я задал моему начальнику штаба, был вопрос: имеются ли у него какие-нибудь сведения о происходящих событиях. Он ответил мне, что никаких сведений у него нет и что он знает только, что в Петрограде происходит какое-то восстание войск, что больше ничего он не знает и никаких данных относительно этого не имеет.
Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что правительство пало, что власть перешла к Комитету Государственной Думы, и что он просит меня соблюдать, полное спокойствие, памятуя, что все идет к благу родины, что прежнее правительство, оказавшееся несостоятельным, будет заменено новым, и что он просит меня принять меры, чтобы не было никаких осложнений и эксцессов. Вот приблизительное содержание. Вслед за этим был получен целый ряд радио из Константинополя, которые сообщали, что на фронте и в армии происходят бунты, что немцы победоносно подвигаются вперед, и что в Балтийском Флоте происходит полное восстание и избиение офицеров. Я лично сразу же отнеся к этому константинопольскому радио, как к совершенно определенной провокации, но препятствовать передаче было совершенно невозможно, так как все радио принимаются на судах дежурными телеграфистами.
Тогда я издал приказ, в котором упомянул, что такие радио даются нашим врагом, очевидно, не для того, чтобы сделать для нас что-нибудь полезное, и поэтому я обращаюсь ко всем командам с требованием верить только мне, моим сообщениям, и что, со своей стороны, обещаю немедленно оповещать их о том, что будет мне известно. И прошу их не придавать никакого значения слухам, и что если команды будут обращаться в случае каких-либо сомнений ко мне, то я буду давать соответствующие разъяснения. Этот мой приказ сыграл большую роль, — команды не верили циркулирующим в то время слухам, оказав мне полное в этом, смысле доверие. Я, со своей стороны, сделал так, как обещал: все, что я ни получал, все дальнейшие подробности о происходящих событиях, я немедленно выпускал из штаба, широко распространяя для сведения команд в городе. Таким образом, все вздорные сообщения, которые тем или иным путем получались и через неприятельское радио, и изнутри, никакого впечатления не производили, так как считались только с теми данными, которые я сообщал командам.
Затем совершенно неожиданно я получил телеграмму от Алексеева, в которой он сообщал текст телеграммы за подписью главнокомандующего и командующих армиями. Под этой телеграммой подписался Николай Николаевич, ген. Рузский, Эверт, сам Алексеев и, кажется, генерал Щербачев, бывший на юго-западном фронте. В этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло отречение от верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре и это недоразумение разъяснилось, когда пришла телеграмма с сообщением об отказе Михаила Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. Получивши эту телеграмму, я сейчас же разослал ее по всем судам, и так как я не мог объехать все суда, то собрал команды на моем флагманском судне «Георгий Победоносец». Когда они собрались, я прочел манифест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила свое существование и наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведем войну, и потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как и до того времени.
Затем я указал, что в такое время, как то, в котором мы находимся, правительству будет чрезвычайно тяжело, и потому я считаю необходимым оказать ему всемерную поддержку. Первый стою за это правительство и считаю необходимым в ближайшие дни присягнуть ему на службу. Вот та речь, с которой я обратился в командам. Она произвела, по-видимому, чрезвычайно благоприятное и успокоительное впечатление. Среди команд в это время, в силу предоставленных правительством прав, возникла комитеты, стали устраиваться митинги. Я бывал несколько раз на этих собраниях и разъяснял командам то, что происходит, делился с ними своими соображениями относительно того, что будет дальше, но везде неизменно указывал на одно: «Покуда война не закончена, я требую, чтобы вы выполняли свою боевую работу так же, как выполняли раньше, чтобы в этом отношении всеми, начиная с командного состава и кончая самым младшим матросом, мне была бы оказана помощь, чтобы у меня была уверенность, что каждое мое приказание, относящееся до боевых действий Флота, будет немедленно выполнено». Мне это обещали; я в этом отношении не могу сделать никаких упреков никому из команды.»
В книге «Мои воспоминания» А.Н. Крылов уже ничему не удивляется. Особенно после того, как прочел опубликованную после революции переписку между царицей, бывшей в Царском Селе, и царем в Ставке, а также дневник французского посла Палеолога.
«Эти две книги, — гневно пишет Крылов, — надо читать параллельно, с разностью примерно в 4-5 дней между временем письма и дневника. Видно, что письма царицы к царю перлюстрировались, и их содержание становилось известным. Например, царица пишет: «Генерал-губернатор такой-то (следует фамилия), по словам нашего друга (Григория Распутина), не на месте, следует его сменить». У Палеолога дней через пять записано: «По городским слухам, положение губернатора такого-то пошатнулось, и говорят о предстоящей его смене».
Еще через несколько дней: «Слухи оправдались; такой-то сменен, и вместо него назначен X». Впрочем, это еще не столь важно, но вот дальше чего идти было некуда. Царица пишет: «Наш друг (Григорий Распутин.) советует послать 9-ю армию на Ригу, не слушай Алексеева (начальник штаба верховного главнокомандующего при Николае II), ведь ты главнокомандующий...», и в угоду словам «нашего друга» 9-я армия посылается на Ригу и терпит жестокое поражение.»
Позднее об обстановке, в которой работала тогда германская разведка в России, в фундаментальном труде «Пять столетий тайной войны» будет сказано:
«Развитию немецкого и отчасти австрийского шпионажа в царской России способствовало несколько благоприятных условий» и в том числе «сильное германофильское течение при дворе. Оно концентрировалось вокруг царицы-немки, которая могла вертеть, как хотела жестоким и тупым деспотом, носившим имя Николая II».
Вскоре судьба предоставила новому командующему шанс отличиться, однако он его не использовал по вполне понятным теперь причинам.
Были получены сведения о выходе германо-турецкого крейсера «Бреслау» для очередной диверсии у Новороссийска, и Колчак сразу же на «Императрице Марии» вышел в море.
Все складывалось как нельзя лучше. Курс и время выхода «Бреслау» были известны, точка перехвата рассчитана без ошибки. Гидросамолеты, провожавшие «Марию», удачно отбомбили караулившую ее выход подводную лодку UB-7, не дав ей выйти в атаку, эсминцы, шедшие впереди «Марии», в намеченной точке перехватили «Бреслау» и связали его боем. Охота развернулась по всем правилам. Эсминцы упорно прижимали пытающийся уйти германский крейсер к берегу, наш крейсер «Кагул» неотступно висел на хвосте, пугая немцев своими, правда, не долетавшими залпами. «Императрице Марии», развившей полную скорость, оставалось лишь выбрать момент для верного залпа. Но Колчак сознательно не организовал эсминцы для корректировки огня «Марии», и прикрывшись поводом сбережения снарядов сокращенного боекомплекта носовой башни, мотивировал это риском бросать их наугад в ту дымовую завесу, которой «Бреслау» немедленно окутывался при опасно близких падениях снарядов. Поэтому решающего залпа, который мог бы накрыть «Бреслау», не последовало. Вынужденный отчаянно маневрировать (машины, как писал немецкий историк, были уже на пределе выносливости), «Бреслау», несмотря на свою 27-узловую скорость, неуклонно проигрывал в пройденном по прямой расстоянии, которое уменьшилось со 136 до 95 кабельтовых. Укрывшись за пеленой дождя, «Бреслау» буквально выскользнул из кольца русских кораблей и, прижимаясь к берегу, проскочил в Босфор.
Колчак, как руководитель этого морского боя показал себя с худшей стороны, выпустив крейсер противника при многократном своём превосходстве, отрабатывая масонскую протекцию своего назначения командующим флотом.
Из воспоминаний матроса «Императрицы Марии» Т. Есютина: «Однажды, выйдя в море, «Императрица Мария» вступила в бой с «Гебеном» Турецкий крейсер «Гебен» был вооружен слабее «Императрицы Марии». Он это знал и принимал бой только на очень большой дистанции. После нескольких залпов с нашей стороны «Гебен» стал уходить. «Императрица Мария» не могла гнаться за ним, потому что «Гебен» имел скорость 28 узлов, а мы — всего 22.»
Поимка «Гебена» оставалась голубой мечтой всего экипажа. Не раз приходилось офицерам «Марии» поминать недобрым словом руководителей Генмора вкупе с министром – каменщиком А. С. Воеводским, срезавших у их корабля по крайней мере 2 узла хода, что не оставляло надежд на успех погони за «Гебеном», помочь мог только случай…
Новый линкор по-прежнему в главной базе не засиживался. Боевые выходы были весьма частыми. В августе на «Марии» произошла смена командиров. Князь Трубецкой был назначен начальником минной бригады, а в командование «Императрицей Марией» вступил капитан 1-го ранга Кузнецов. В сентябре 1916 года линкор посетил побывавший в Севастополе Николай II.
Из воспоминаний лейтенанта Монастырёва: «Мне запомнился и разговор офицеров на «Крабе» после визита царя. «Я очень рад, — заметил лейтенант К — что император не захотел спуститься вниз и осмотреть заградитель внутри, поскольку визит царя не принес удачи ни одному кораблю, которые он посещал». Офицер был совершенно прав. С кораблями, на которых побывал царь — бедоносец, постоянно что-то случалось. Поэтому все офицеры в душе радовались, что на переборках «Краба» не красовалась подпись царя «Николай», которую он обычно оставлял на посещаемых им кораблях.
В конце сентября 1916 года, «Императрица Мария» пошла на бомбардировку г. Варны. Под самым болгарским портом были высланы вперед тральщики для очистки пути от неприятельских мин. В скором времени один тральщик наскочил на плавучую мину и был взорван. Для спасения экипажа немедленно выслали миноносец. Но не прошло и часа, как последовал второй взрыв и другой тральщик взлетел на воздух. Команда зароптала. Никакие убеждения начальства не действовали. Запасы угля были на исходе, и «Императрица Мария» на третий день возвратилась в Севастопольскую бухту. Это было 5 октября 1916 года. К вечеру 6 октября 1916 года линкор завершил экстренную подготовку к выходу в море: имея полный штат команды, 1200 человек, принял топливо, пресную воду, боекомплект. К 24 часам, загруженный углем бункеров с плотно набитыми пороховыми погребами, корабль перешел на рейд Северной бухты близ Инкерманского выходного створа Линкор был готов принять на борт адмирала Колчака с походным штабом и выйти в море.
Седьмого (20) октября 1916 года город и крепость Севастополь были разбужены взрывами, разнесшимися над притихшей гладью Северной бухты. Люди бежали к гавани, и их глазам открывалась жуткая, сковывающая холодом сердце картина. Над новейшим линейным кораблем Черноморского флота — над «Императрицей Марией» поднимались султаны черного дыма, разрезаемые молниями чередующихся почти в запрограммированной последовательности взрывов.
Через четверть часа после утренней побудки матросы, находившиеся рядом с первой носовой башней, обратили внимание на странное шипение, доносившееся из-под палубы.
— Что это? — спросил кто-то. Ответить ему не успели: из люков и вентиляторов около башни, из ее амбразур стремительно вырвались багровые языки пламени и черно-сизые всполохи дыма,
Оцепенение людей длилось только секунды.
— Пожарная тревога! — закричал фельдфебель, стремительно отдавая команды. — Доложить вахтенному начальнику! Пожарные шланги сюда!
По кораблю пронеслись тревожные сигналы пожарной тревоги. Все пришло в движение. По палубе стремительно раскатывали шланги, и вот уже первые упругие струи воды ударили в подбашенное отделение. И тут произошло, казалось, непоправимое.
Сильный взрыв в районе носовых крюйт-камер, хранивших двенадцатидюймовые заряды, разметал людей. Упругий столб пламени и дыма взметнулся на высоту до трехсот метров. Как фанеру, вырвало стальную палубу за первой башней. Передняя труба, носовая рубка и мачта были снесены гигантским смерчем. Повсюду слышались крики и стоны искалеченных людей. За бортом «Марии» барахтались в воде выброшенные за борт ударной волной оглушенные и раненые матросы. К «Марии» спешили портовые баркасы. В грохоте рушащихся надстроек метались люди, полуослепшие от бьющего в глаза огня, полузадохшиеся от едкого порохового дыма.
Босиком, в накинутом пальто, старший офицер выскочил наверх. Ужасающая картина приковала его. Над мостиком сверкал огненный смерч. Ревела стихия ужасающего взрыва. Словно мячики, кувыркались в воздухе люди и тяжести.
— По орудиям! Отражение атаки! — бросился Городысский в казематы, сзывая людей, полагая, что корабль атакован подводными лодками.
— Как безумные, неслись с носа люди. На палубу выскочил командир. Что случилось?! Страшной силой нового взрыва вырвало стальную мачту. Как катушку, швырнуло к небу броневую рубку (25 000 пуд.).
— Распоряжайтесь здесь! — И командир побежал к месту взрыва…
-Взлетела на воздух носовая дежурная кочегарка. Корабль погрузился во тьму.
Минный офицер, лейтенант Григоренко бросился к динамо, но мог добежать только до 2-й башни. В коридоре бушевало море огня. Грудами лежали совершенно обнаженные тела…
Трюмный механик, старший лейтенант Пахомов с трюмными унтер-офицерами стремился пробиться дальше. Но взрывы гудели. Рвались 130-миллиметровые погреба. С уничтожением дежурной кочегарки корабль остался без паров. Нужно было во что бы то ни стало развести их, чтобы пустить пожарные водометы и зажечь свет. Старший инженер-механик приказал поднять пары в кочегарке № 7. Мичман Игнатьев, собрав людей, бросился в нее.
Взрывы следовали один за другим (было 25 взрывов). Детонировали группировавшиеся в носу погреба. Корабль кренился на правый борт, все более и более погружаясь в воду.
Вокруг кишели пожарные, спасательные пароходы, буксиры, моторы, шлюпки, катера. Командир на носу, старший офицер в корме распоряжались тушением и локализацией не затронутых еще детонацией погребов. Протянутые с пароходов шланги мощными струями воды заливали огнедышащие развороченные кратеры. Стоящие кругом люди направляли «пипки», но взлетал новый взрыв и пожирал всех. На смену появлялись другие, хватались за новые шланги, но, как и те, исчезали в новой вспышке…
Последовало распоряжение затопить погреба 2-й башни и прилегающие к ним погреба 130-мм орудий, чтобы перегородить корабль. Для этого нужно было проникнуть в заваленную трупами батарейную палубу, куда выходили штоки клапанов затопления, где бушевало пламя, клубились удушливые пары и каждую секунду могли детонировать заряженные взрывами погреба. Только геройское самопожертвование могло пойти на это.
Старший лейтенант Пахомов с беззаветно отважными людьми вторично ринулся туда. Растаскивая обуглившиеся, обезображенные тела, грудами завалившие штоки, причем руки, ноги, головы отделялись от туловищ, Пахомов со своими героями освободил штоки и наложил ключи. Но в этот момент прогремел новый взрыв. Пламя обдало героев. Люди вспыхнули, как свечки… Еще не сознающий страдания, Пахомов довел дело до конца и выскочил на палубу. Увы, его унтер-офицеры не успели… Погреба детонировали. Ужасающий взрыв захватил и разметал их, как осенняя вьюга опавшие листья…
Крен корабля стал угрожающим, гибель неминуемой. Командир решил буксировать корабль на мелкое место…
К трапу подошел «Пулемет» с адмиралом Колчаком…
Огненный дождь горящего пороха, черная, искрящаяся зловещим заревом туча стояли над уже почти лежащим на боку флагманским кораблем…
Колчак быстро поднялся на борт. Босой, с обожженными порохом ногами, старший офицер встретил его.
— Что произошло?! Что делаете? Где командир? — отрывисто спросил адмирал.
— Взрыв носовой башни… Топим погреба… Хотим развернуться кормой к северному берегу… Командир на баке…
Крен резко увеличился. Стало трудно держаться на палубе. Колчак, постояв несколько минут и оценив обреченность корабля, приказал экипажу оставить его.
Старший офицер закричал в мегафон:
— Спасайте раненых! Оставлять корабль с левого борта.
Офицеры и матросы бросились по низам Душераздирающие сцены…
На палубе появился машинный старшина Белугин. Весь в огне, с оторванной ступней. На плечах вытащенный из огня раненый товарищ. Кровавый след шел за ним.
— Белугин! Что ты делаешь? Ты же без ноги.
Унтер-офицер глянул вниз и замертво, вместе с ношей рухнул на палубу.
В некоторых казематах застряли люди, забарикадированные лавой огня. Выйдешь — сгоришь. Останешься — погибнешь. Их отчаянные крики походили на безумные вопли потерявших рассудок.
Некоторые, попав в капканы огня, стремились выброситься в иллюминаторы, но застревали в них. По грудь висят над водой, а ноги в огне…»
Вот рассказ матроса с миноносного мотора: «В иллюминатор высунулся боцманмант. Как-то сложился плечами и протискался до груди. А дальше не может. Ни вперед, ни назад. Мы к нему. Самим страшно. Корабль совсем накренился. Того и гляди, ляжет и задавит. Вмиг подлетели. Хвать что было силы за плечи, рванули раз, другой, аж кости затрещали. Застонал несчастный. Мы понатужились — раз, раз, — не идет. Взмолился:
— Пустите, братцы!.. Спасибо! Мне все одно помирать… Своих душ не губите за меня. Ваше благородие, прикажите отваливать…
И было время. Только мы успели отскочить, как бортом его и прикрыло. Умирать буду, а этого не забуду. Какие глаза?! Господи! Какие глаза… Смерть неминучая. Ужас Страдание. Тоска бездонная.»
Между тем в 7-й кочегарке кипела работа. Зажгли в топках огни и, выполняя полученное приказание, подымали пары. Но крен вдруг сильно увеличился. Поняв грозную опасность и не желая подвергать ей своих людей, но полагая все же, что нужно поднять пар — авось пригодится, — мичман Игнатьев крикнул:
— Ребята! Топай наверх! Ждите меня у антресолей. Понадобитесь — позову. Я сам перекрою клапана.
По скобкам трапа люди быстро вскарабкались наверх. Но в этот момент корабль опрокинулся. Только первые успели спастись. Остальные вместе с Игнатьевым остались внутри. Долго ли жили они и чего натерпелись в воздушном колоколе, пока смерть не избавила их от страданий?
Много позже, когда подняли «Марию», нашли кости этих героев долга, разбросанные по кочегарке.
Лейтенант Григоренко, пробегая в последнюю минуту по низам — не застрял ли где какой раненый или обожженный, — вдруг услышал дикие крики, пронизывавшие погруженную во тьму пустыню корабля. Крики шли из кубрика под 19-м казематом. Бросился туда.
Запертый в карцер, всеми забытый арестованный матрос бился о решетку. Охранявший его часовой убежал, забыв в панике выпустить его.
В луче электрического фонаря сверкнули обезумевшие глаза. Разбитые в кровь руки из последних сил потрясали решетку. Несчастный воплем кричал, взывал о помощи. Но не было ключей. Лейтенант бросился искать лом или кусок железа, чтобы взломать замок, — ничего! Стал вместе с арестованными изо всех сил трясти решетку — не поддается. А крен увеличивается — Ноги скользят — Уже стоять невозможно. Снова бросился с фонарем искать что-нибудь, когда вдруг луч осветил лежавший на палубе ключ, вероятно, часовой, убегая, бросил его.
Оба — и спасенный и спаситель — мигом выскочили наверх. Корабль опрокидывался…
Перевернувшись, он не опустился на дно, а продолжал в течение суток оставаться на плаву, после чего опустился на дно.
Телеграмма А.В. Колчака Николаю II от 7 октября 1916 г. 8 час. 45 мин:
«Вашему императорскому величеству всеподданейше доношу: «Сегодня в 7 час. 17 мин. на рейде Севастополя погиб линейный корабль «Императрица Мария». В 6 час. 20 мин. произошел внутренний взрыв носовых погребов и начался пожар нефти. Тотчас же начали затопление остальных погребов, но к некоторым нельзя было проникнуть из-за пожара. Взрывы погребов и нефти продолжались, корабль постепенно садился носом и в 7 час. 17 мин. перевернулся. Спасенных много, число их выясняется.
Колчак».
Телеграмма Николая II Колчаку 7 октября 1916 г. 11 час. 30 мин:
«Скорблю о тяжелой потере, но твердо уверен, что Вы и доблестный Черноморский флот мужественно перенесете это испытание. Николай.»
На следующий день после катастрофы поездом из Петрограда в Севастополь выехали две назначенные высочайшим повелением царя специальные комиссии — «Верховная следственная» и «Техническая следственная», объединенные под председательством адмирала Н. М. Яковлева (члена Адмиралтейского совета, бывшего командира тихоокеанского эскадренного броненосца «Петропавловск», подорванного в 1904 году). Одним из членов технической комиссии был назначен генерал по поручениям при морском министре А. Н. Крылов, академик, выдающийся корабельный инженер, проектировавший и участвовавший в строительстве «Императрицы Марии».
За полторы недели работы комиссии в Севастополе перед ней прошли все оставшиеся в живых офицеры, кондукторы «Императрицы Марии», очевидцы с других кораблей и матросы, давшие показания об обстоятельствах катастрофы.
А.Н. Крылов так вспоминал те дни:
«Комиссия, сопоставив показания командира, офицеров и нижних чинов об обстоятельствах гибели линейного корабля «Императрица Мария», пришла к следующим заключениям.
I. Последовательность событий, сопровождавших эту гибель, устанавливается показаниями как экипажа самого корабля, так и записью в вахтенных журналах других судов.
7 октября (1916 г.), приблизительно через четверть часа после утренней побудки, нижние чины, находившиеся поблизости с первой носовой башней, услышали особое шипение и заметили вырывавшиеся из люков и вентиляторов около башни, а также из амбразур башни дым, а местами и пламя.
Одни из них побежали докладывать вахтенному начальнику о начавшемся под башнею пожаре, другие, по распоряжению фельдфебеля, раскатали пожарные шланги и, открыв пожарные краны, стали лить воду в подбашенное отделение. Пробили пожарную тревогу. Но через 1 1/2 или 2 минуты после начала пожара внезапно произошел сильный взрыв в районе носовых крюйт-камер, содержащих 12-дюймовые заряды, причем столб пламени и дыма взметнуло на высоту до 150 сажен (300 м). Этим взрывом вырвало участок палуб позади первой башни, снесло переднюю трубу, носовую рубку и мачту. Множество нижних чинов, находившихся в носовой части корабля, было убито, обожжено и сброшено за борт силою газов. Паровая магистраль вспомогательных механизмов была перебита, электрическое освещение потухло, пожарные насосы прекратили работу.
В районе позади носовой башни образовался как бы провал, из которого било пламя и сильный дым, прекратившие сообщение с носовою частью корабля. Взрыв этот отмечен в записях вахтенных журналов других судов и произошел в 6 ч 20 м утра.
По записи в журнале линкора «Евстафий» дальнейшее развитие пожара на линкоре «Императрица Мария» представляется так:
6 ч 20 м На линкоре «Императрица Мария» большой взрыв под носовой башней
6 « 25 « Последовал второй взрыв, малый
6 « 27 « Последовали два малых взрыва
6 « 30 « Линкор «Императрица Екатерина» на буксире портовых катеров отошел от «Марии»
6 « 32 « Три последовательных взрыва
6 « 34 « Три последовательных взрыва
6 « 35 « Последовал один взрыв. Спустили гребные суда и послали к «Марии»
6 « 37 « Два последовательных взрыва
6 « 40 « Один взрыв
6 « 45 « Два малых взрыва
6 « 47 « Три последовательных взрыва
6 « 49 « Один взрыв
6 « 51 « Один взрыв
6 « 54 « Один взрыв
7 « 00 « Один взрыв. Портовые катера начали тушить пожар
7 « 01 « Один взрыв. «Императрица Мария» начала погружаться носом
7 « 08 « Один взрыв. Форштевень ушел в воду
7 « 12 « Нос «Марии» сел на дно
7 « 16 « «Мария» начала крениться и легла на правый борт.
На линкоре «Императрица Екатерина» записано:
6 ч 19 м На линкоре «Императрица Мария» пробили пожарную тревогу
6 « 20 « На линкоре «Императрица Мария» сильный взрыв в носовой части корабля. Команда начала бросать койки и бросаться в воду.
В дальнейшем идет запись, отмечающая приблизительно те же моменты последовательных взрывов, как и на «Евстафии».
На самом корабле «Императрица Мария» в это время были приняты следующие меры: сделано распоряжение и приведено в исполнение о затоплении погребов 2-й, 3-й и 4-й башен; приняты шланги с подошедших портовых баркасов, и струи воды направлены в место главного пожара; подан буксир на портовый пароход и корабль повернут лагом к ветру; затушены небольшие пожары, возникшие в разных местах на верхней палубе от падавших горящих лент пороха, выбрасывавшихся отдельными взрывами из места главного пожара. Около 7 часов утра пожар стал как бы стихать, корабль не имел ни заметного дифферента на нос, ни крена, и казалось, что он будет спасен, но в 7 ч 02 м раздался взрыв значительно более сильный, нежели предыдущие; после этого взрыва корабль стал быстро садиться носом и крениться на правый борт.
Носовые пушечные порта, а затем носовая часть верхней палубы ушли под воду; корабль, утратив остойчивость, стал медленно опрокидываться и, перевернувшись вверх килем, затонул на глубине 10 сажен (18 м) в носу, 8 сажен (14,5 м) в корме, причем носовая его оконечность ушла в ил на 25 футов (7,6 м), кормовая — на 3–4 фута (0,9–1,2 м), и корабль лежит на дне, с небольшим креном в указанном положении.
Из экипажа корабля погибли: инженер-механик, мичман Игнатьев, два кондуктора и 225 нижних чинов; кроме того, было спасено 85 ранеными и обожженными. Остальные офицеры и нижние чины были спасены портовыми катерами и шлюпками с других судов флота.
Таким образом, причиною гибели корабля служит пожар, возникший в носовой крюйт-камере 12-дюймовых зарядов, повлекший за собою взрыв пороха, находившегося в этой крюйт-камере, а затем и взрывы боевых запасов, т. е. пороха и частью снарядов в расположенных в смежности с указанной крюйт-камерой погребах 130-миллиметровых орудий.
По-видимому, взрывом одного из этих погребов был или поврежден наружный борт корабля, или им сорваны клинкеты минных аппаратов, или же произошел взрыв зарядных отделений мин Уайтхеда, или сорваны кингстоны, служащие для затопления погребов; корабль, имея разрушенные на значительном протяжении палубы и переборки, этого повреждения уже вынести не мог и быстро затонул, опрокинувшись от утраты остойчивости.
При разрушенных на значительном протяжении палубах и переборках, после повреждения наружного борта, гибель корабля была неизбежна, и выравниванием крена и дифферента, затопляя другие отсеки, что совершается медленно, предотвратить ее было невозможно.
II. Переходя к рассмотрению возможных причин возникновения пожара в крюйт-камере, комиссия остановилась на следующих трех:
1) самовозгорание пороха,
2) небрежность в обращении с огнем или порохом,
3) злой умысел.
Здесь прийти к точному и доказательно обоснованному выводу не представляется возможным, приходится лишь оценивать вероятность этих предложений, сопоставляя выяснившиеся при следствии обстоятельства.
1. Самовозгорание пороха представляется маловероятным, и возможность его почти отпадает по следующим соображениям.
а) Порох был свежей выделки 1914 и 1915 гг., ленточный для боевых зарядов и макаронный для практических, с содержанием дифениламина в качестве реактива, которым обнаруживается по появляющимся на лентах пятнам малейшее начавшееся разложение пороха. Между тем в зарядах, сдававшихся с корабля в склады и лаборатории при Сухарной балке для замены попорченных картузов и для перевязки зарядов, на такую порчу пороха не указывается. Других исследований пороха, кроме наружного осмотра, лабораторией Сухарной балки до сих пор не производится за отсутствием соответствующих устройств.
б) Насколько известно, изготовление пороха и затем зарядов из него ведется весьма тщательно и приняты всякие меры для исключения возможности даже случайного пользования лентою с пороками; до сих пор случаев разложения пороха, принятого для флота, не наблюдалось.
в) Температура в погребах все время была весьма умеренная, достигнув лишь один раз на несколько часов 36° при нагревшейся от продувания в нее пара килевой балки. Нагревание балки не могло быть свыше 60–70°; произошло оно в апреле 1916 г. и вредно на порох повлиять по своей непродолжительности (1–1 1/2 часа), а также и потому, что заряды непосредственно к балке не прилегали, не могло.
Таким образом, обстоятельств, при которых известно, что может произойти самовозгорание пороха, не обнаружено.
Свойства нашего бездымного пороха за двадцать лет пользования им изучены столь хорошо, что представляется маловероятным, чтобы могла существовать какая-либо доселе не известная причина, могущая вызвать его самовозгорание при тех условиях хранения, которые имели место на линейном корабле «Императрица Мария».
Таким образом, предположение о самовозгорании пороха маловероятно.
2. Небрежность в обращении с огнем и неосмотрительность в обращении с порохом представляются также маловероятными причинами возникновения пожара.
Крюйт-камеры вентилируются, и в них не скопляется столько паров эфира и спирта, чтобы могла образоваться гремучая смесь, способная воспламениться от пламени свечи или спички и т. п.
Даже при полном отсутствии вентиляции и полном высыхании растворителя количество воздуха в крюйт-камере значительно превосходит то, при котором могла бы образоваться гремучая смесь.
Таким образом, если в крюйт-камеру зайти с зажженной свечой или зажечь спичку, заронить огонь и оставить гореть какую-нибудь тряпку, ветошь или пучок пакли, то это еще не вызовет возгорания паров эфира и спирта, хотя бы их запах и чувствовался.
Чтобы загорелся заряд, надо, чтобы самое пламя проникло в закрытый футляр и достигло или лент, или воспламенителя, или надо, чтобы воспламенитель, состоящий из шашек черного пороха, совершенно рассыпался, в виде мякоти проник через неплотно завернутую крышку, подвергся касанию с пламенем и, вспыхнув, передал горение заряду, находящемуся в футляре.
Как видно, необходимо сочетание целого ряда случайностей, каждая из которых сама по себе маловероятна.
Крюйт-камеры всегда освещены, ходить туда должны для измерения температуры дневальные, назначаемые из комендоров данной башни, в сопровождении унтер-офицеров, т. е. люди, обученные и знающие правила и свои обязанности; поэтому маловероятно, чтобы они допустили себя до какой-либо небрежности в обращении с огнем в крюйт-камере или даже до входа в крюйт-камеру с огнем вообще.
Но время возникновения пожара как раз тогда, когда в крюйт-камеру должен был идти дневальный для измерения температуры, а также и то, что в этот день после полудня предстояла приборка крюйт-камер и погребов, ряд известных случаев предотвращенных или совершившихся взрывов от грубой неосмотрительности низшего персонала при работах или надзоре за взрывчатыми веществами на заводах или лабораториях, — суть обстоятельства, которые дают некоторую допустимость предположению о возможности возникновения пожара от небрежности или грубой неосторожности со стороны бывшего в крюйт-камере, не только без злого умысла, но, может быть, от излишнего усердия.
Из всей прислуги, находившейся в первой башне, спасся тяжело обожженным лишь один человек, и, значит, высказанное допущение остается лишь маловероятным предположением, причем нельзя даже утверждать, был ли кто-либо в это время в крюйт-камере или нет.
III. Комиссия не может не отметить на линкоре «Императрица Мария» существенных отступлений от требований устава по отношению к доступу в крюйт-камеры.
На линкоре «Императрица Мария» имелось два комплекта ключей от крюйт-камеры, причем один комплект хранился, как полагается по уставу, а второй, так сказать, расходный, хранился у старшего офицера и утром разносился дежурным по погребам артиллерийским унтер-офицером и выдавался на руки старшинам башен или дневальным у погребов, у которых и находился весь день до 7 часов вечера или до окончания работ, после чего вновь сдавался дежурному по погребам унтер-офицеру, а этим последним — старшему офицеру.
Первый же комплект, как уже сказано, хранился «под часами» и считался неприкосновенным.
Порядок этот был установлен как бы обычаем, ибо о нем не было отдано приказа по кораблю, и в показаниях относительно него бывших командира корабля, старшего офицера, старшего артиллерийского офицера, башенных командиров и старшин башен есть разногласие, указывающее на то, что в этом отношении не было твердо установленных правил применительно к современным требованиям судовой жизни.
По отношению к самому устройству крюйт-камер существовал ряд отступлений, делавших возможным доступ в крюйт-камеры даже без всяких ключей, во всякое время.
Люки бомбовых погребов снабжены крышками, которые должны быть всегда заперты на замок. Между тем на линкоре «Императрица Мария» эти крышки не только не запирались, но они были сняты совсем, под тем предлогом, что для удобства ручной подачи над люками были поставлены деревянные столы с отверстием, через которое подавались картузы.
Таким образом, бомбовые погреба были в постоянном открытом сообщении с крюйт-камерами.
В бомбовые же погреба можно было проникнуть помимо запертого люка из самой башни.
Но, кроме этого, в башне сделаны лазы, через которые можно пройти к ее нижнему штыру. Штыр этот окружен кожухом, которым помещение штыра отделяется от крюйт-камеры; в этом кожухе имеется горловина из крюйт-камеры, закрываемая дверцей.
На линкоре «Императрица Мария» эта дверца не только не имела замка, но была снята совсем во всех башнях, так что из помещения штыра был открытый ход в крюйт-камеру, а в помещение штыра — открытый ход из самой башни как: через боевое, так и через рабочее и перегрузочное ее отделение.
Старший артиллерийский офицер корабля, старший лейтенант князь Урусов, опрошенный по этому поводу, в своем показании высказывается так: «Люк в крюйт-камере из бомбового погреба не запирался. Я не помню, была ли сделана крышка и, следовательно, предполагалось ли запирать ее, но предполагаю, что или я просил не делать ее, или, вернее, сам приказал ее снять, так как через этот люк производилась ручная подача и для облегчения оной над люками были поделаны деревянные столы с отверстиями для подачи. В кожухе штыра башни было отверстие; двери и заслонки, кажется, не имелось. Тому обстоятельству, что можно было проникнуть внутри башни, помимо закрывавшегося люка, в бомбовый погреб и в крюйт-камеру, я не придавал значения. Помню, что на линкоре «Евстафий» были устроены заслонки, запиравшиеся на замок, и проникнуть из башни в погреба нельзя было».
Такой взгляд на невозможность точного использования требований устава на современных судах не является единичным.
Так, старший офицер, капитан 2-го ранга Городысский в своем показании говорит: «Требования устава находились совершенно в другой плоскости, чем требования, предъявляемые каждой минутой жизни корабля. Всегдашние или, вернее, частые попытки совместить эти плоскости были почти всегда болезненными и производили часто впечатление тормозящего дело педантизма».
Наряду со старшими чинами и младшие офицеры относились к требованиям устава или утвержденным инструкциям без должного внимания.
Так, мичман Успенский, командир 1-й башни, между прочим, показывает: «В крюйт-камеру можно было проникнуть помимо дверей; можно было проникнуть через элеватор. В кожухе вокруг штырового основания была дверь в крюйт-камеру; иногда эта дверь была заперта, иногда нет».
Отсюда видно, что командир башни не знал, что эта дверь снята, и не считался с необходимостью точного исполнения статей устава.
Эти выдержки из показаний показывают, что неисполнение требований устава и пренебрежительное к ним отношение, при котором личное мнение ставилось выше даже положительных и определенных указаний закона, составляло явление заурядное. В этом отношении младшие офицеры не имели в старших примеров должного уважения к закону.
IV. На линкоре «Императрица Мария» при стоянке его на якоре производился ряд работ, причем общее число мастеровых, бывавших на корабле, доходило до 150 человек, разделенных на небольшие партии от разных заводов.
Работы производились и по артиллерийской части; между прочим, и в бомбовом погребе 1-й башни работало 4 человека мастеровых Путиловского завода по установке лебедок.
Мастеровые являлись на корабль около 7 1/2 часов утра и кончали работу в 4 ч дня, кроме тех, которые оставались для экстренных работ, продолжавшихся до 9 ч 45 м вечера, или даже на ночные работы.
Проверка мастеровых, приезжавших на корабль и съезжавших с него, была организована так, что она не давала полной уверенности в том, не остался ли кто из мастеровых на корабле и не прибыл ли кто на корабль самовольно под видом мастерового, ибо правильной поименной проверки на берегу мастеровых, отправляющихся на корабль и возвращающихся с корабля, не велось, вся проверка возлагалась, главным образом, на судовой состав.
При прибытии мастеровых на корабль им правильной переклички не делалось, а проверялось общее число людей каждой партии и по вахте сдавалось общее число мастеровых, считавшихся на корабле; поименные же их списки представлялись старшим из мастеровых в каждой партии каждый день вновь при входе на корабль.
Таким образом, показание мичмана Мечникова, на вахте которого съехали последние четыре мастеровых Путиловского завода, работавшие в бомбовом погребе 1-й башни, находится в противоречии с показаниями нескольких нижних чинов, которые утверждают, что в ночь с 6 на 7 октября после 10 часов вечера они видели двух мастеровых. Установить в точности справедливость этого показания или опровергнуть его не представляется возможным.
V. Отметив, таким образом, недостаток проверки мастеровых, несоблюдение требований по отношению к доступу в крюйт-камеры, комиссия считает необходимым разобрать и третье предположение о возможной причине возникновения пожара, повлекшего за собой гибель корабля, а именно злой умысел; — вероятность предположения не может быть оцениваема по каким-либо точно установленным обстоятельствам. Комиссия считает лишь необходимым указать на сравнительно легкую возможность приведения злого умысла в исполнение при той организации службы, которая имела место на погибшем корабле.
а) Крюйт-камеры заперты не были, ибо в них всегда был открыт доступ из самой башни.
б) Башня вместе с зарядным отделением служила жилым помещением для ее прислуги в числе около 90 человек; следовательно, вход и выход из башни кого-либо, особенно в форменной одежде, не мог привлечь ничьего внимания.
в) Чтобы поджечь заряд так, чтобы он загорелся, например, через час или более после поджога, и чтобы этого совершенно не было видно, не надо никаких особенных приспособлений — достаточно самого простого, обыкновенного фитиля. Важно, чтобы злоумышленник не мог проникнуть в крюйт-камеру; после же того как он в нее проник, приведение умысла в исполнение уже никаких затруднений не представляет.
г) Организация проверки мастеровых не обеспечивала невозможность проникновения на корабль постороннего злоумышленника, в особенности через стоявшую у борта баржу.
Проникнув на корабль, злоумышленник имел легкий доступ в крюйт-камеру для приведения своего замысла в исполнение.
VI. Сравнив относительную вероятность сделанных трех предположений о причинах возникновения пожара, комиссия находит, что возможность злого умысла не исключена, приведение же его в исполнение облегчалось имевшими на корабле место существенными отступлениями от требований по отношению к доступу в крюйт-камеры и несовершенством проверки являющихся на корабль рабочих.»
Мнение специалистов по артиллерийским порохам на сегодня выглядит однозначно — артиллерийский порох «Императрицы Марии» не мог воспламениться сам собой.
В июле — августе 1917 г. полузаряды с порохом партии ОД-16/14 извлекли из погребов 2-й, 3-й и 4-й башен Императрицы Марии, после её подъема в Севастополе, и отправили в арсенал. В 1919-м, ввиду острой необходимости в порохах, эти полузаряды были подвергнуты осмотру и сортировке. Часть зарядов имела негерметичную укупорку и была залита водой и илом, картузы и стягивающие их шелковые шнуры совершенно истлели. В исправных футлярах порох не изменился.
В 1927 г. про порох Императрицы Марии вновь вспомнили… В лаборатории ЦОЗа были проведены испытания физико-химических качеств образцов партии ОД-16/14. Они показали полное соответствие данным приемных испытаний партии в январе 1915-го. Содержание дифениламина оказалось в пределах 0,8—0,9% (вместо 1% в 1915 г.). Это при том, что дифениламин полностью разлагается при нейтрализации выделяющихся при разложении пороха окислов азота. Вспышка при 135°С через 6 часов не произошла. Сумма часов по десяти повторным нагреваниям при 106,5° составляла от 53,5 до 64 часов.
Затем порох был испытан стрельбой на Научно-испытательном артиллерийском полигоне РККА под Ленинградом в январе 1927 г. Полученные результаты оказались почти идентичными приемным: начальная скорость снаряда весом 479,94 кг, при заряде в 130,04 кг (как в 1915 г.) составила 755 м/с вместо 762 м/с в 1915-м, среднее давление пороховых газов в канале ствола -2250 — 2340 кг/см, против 2360 кг/см во время приемных испытаний. Полученные данные указывали на хорошую сохранность пороха партии ОД-16/14. Таким образом, мы можем считать, что первая версия — версия самовозгорания — в реальности была весьма маловероятна.
А вот мнение человека, в компетенции которого трудно сомневаться. Из воспоминаний бывшего вахтенного офицера линейного корабля «Императрица Мария» лейтенанта В. В. Успенского: «Боевой запас трех орудий башни состоял из 300 фугасных и бронебойных снарядов и 600 полузарядов бездымного пороха. Каждый полузаряд весил 4 пуда и представлял собой пакет, похожий на бревно, примерно с метр длиной. Его «начинка» представляла собой длинные пластины бездымного пороха шириной 40 мм и толщиной 4 мм. В центре находился пакет тонких «макарон» из того пороха. Все это крепко связывалось шелковым шнуром и зашивалось в шелковый чехол. И шнур, и чехол пропитывались нитрующей смесью кислот и сгорали вместе с порохом без остатка. Полузаряд заключался в железный оцинкованный и гофрированный пенал длиной около метра и диаметром приблизительно 35 см. Пенал герметически закрывался крышкой с помощью специального рычага. Всего в подбашенном помещении хранилось 2400 пудов пороха. Наши пороха отличались исключительной стойкостью, и о каком-либо самовозгорании не могло быть и речи. Совершенно необоснованно предположение о нагревании пороха от паровых трубопроводов, как и о возможности электрозамыкания. Коммуникации проходили снаружи и не представляли ни малейшей опасности»
Каждому, кто сейчас возьмет дело о гибели «Марии» в руки, станет ясно, что элементарная логика требовала расширить заключение по третьей версии и распространить выводы на более широкие и важные явления, чем гибель корабля сама по себе.
Мог ли А.Н. Крылов, или любой другой член комиссии не знать о том, о чем знал в Петербурге любой самый заурядный чиновник, — о всемерном покровительстве всему прогерманскому при дворе, и о роли, которую играл там Распутин? Конечно, нет!
Историки подсчитали, что в первом десятилетии XX века в царской России действовало более дюжины крупных организаций, созданных немецкой и австрийской разведками… Русская контрразведка имела данные о большинстве немецких шпионских групп. Но все же факторы, о которых говорилось выше, помогли немецкой агентуре уйти из-под удара. Разве не удивительно семо по себе сообщение В. Б. Жилинского (опубликованное в журнале «Голос минувшего» еще в 1917 году); «О подготовлявшейся гибели на Черном море нашего лучшего линейного корабля «Императрица Мария» департаменту полиции было хорошо известно!»
Изучаем другие документы эпохи — картина та же.
Осталось без внимания комиссии «Прошение подпоручика А.М.Абакумова командующему Черноморским флотом вице-адмиралу А.В.Колчаку», датированное 30 апреля 1917 г. Однако, прежде чем привести отрывок из этого «Прошения», отметим, что Абакумову в тот момент было уже 90 лет. Убеленный сединами ветеран Крымской войны вступил на флот охотником, и, несмотря на возраст, оснований сомневаться в его адекватности нет. Он пишет:
«Пройдя до 3-й башни у офицерского люка, я почувствовал, что у меня ранена нога, и стал перевязывать ее платком. В то время вблизи меня появились лейтенанты Энгельман и Грибцов, и я услышал конец их разговора: «Сделали очень хорошо, кондуктор Треба утверждает — концов не найти». Разговор их прервался, они увидели меня и поспешили уйти: Гривцов за 3-ю башню, а Энгельман в его каюту. Я направился в мою каюту, желая спасти что-нибудь, но в это время слышу в дыму, матросы кричат мне: «Дедушка, спасайся, корабль тонет». Бросившись к борту, я по веревке спустился на буксирный пароход, которым и был доставлен на линейный корабль «Пантелеймон».
Кроме того, Абакумов упоминает, как два кондуктора, Корниенко и Покопцев, закрывали крышку жилого люка, не обращая внимания на протестующие крики матросов. Позднее Абакумова начали обвинять подконтрольные заказчикам диверсии чинуши. В прессе появились статейки о том, что Абакумов распространяет слухи о причастности указанных чинов к гибели линкора. Промасоненая «общественность» даже грозила ветерану судом. В ответ на угрозы Абакумов написал прошение Колчаку, отправив копию Морскому министру. Понятное дело, прошение положили под сукно, чёрная мерзость уже заполняла всю страну.
Вот материалы дознания, проведенного следователем по особо важным делам, о «возможности доставления на территорию России подрывных снарядов», В ходе дознания выяснилось, что эти подрывные снаряды шли многими путями, и, в частности; через Швецию. Особенно интенсивно транзит «адских машин» происходил в районе Северного Кваркена и у станции Корпикюля. У обвинявшихся в совершении диверсионных актов было найдено немало таких зарядов, выполненных в виде небольших подрывных патронов, легко переносимых и маскируемых.
Серия таинственных взрывов взбудоражила тогда общественное мнение.
11 августа 1916 года раздался взрыв на бельгийском пароходе «Фрихандель». Сработала «адская машина», подвешенная на медной проволоке под трапом.
В тот же день и почти одновременно («Фрихандель» взорвался в 9 час. 30 мин., здесь в 10) в порту Мкскюль на рейде взорвалась «Маньчжурия»: сработал заряд, спрятанный в машинном отделении.
7 октября 1916 года пришла очередь «Императрицы Марии».
26 октября 1916 года взрывы разнесли пароход «Барон Дризен» на рейде в Архангельске...
Не слишком ли много «случайных» и «странных» взрывов? И не направляла ли их одна злая воля?
Сопоставим некоторые авторитетные свидетельства и проанализируем обстоятельства этих внешне, казалось бы, никак не связанных друг с другом катастроф. В книге X. Вильсона «Линейные корабли в бою. 1914-1918 гг.» завеса над тайной «странных» взрывов уже немного приподнимается:
«27 сентября, говорит исследователь, в Бриндизи загорелся и взорвался итальянский линейный корабль «Бенетто Брин», на котором погиб 421 человек, в том числе контр-адмирал Рубн-де-Червин. Впоследствии выяснилось, что причиной взрыва было предательство: подкупленные австрийцами матросы поместили в одном из погребов «адскую машину». В ночь на 2 августа 1916 года на линейном корабле «Леонардо да Винчи», стоявшем на якоре в Торонто, начался пожар, и после нескольких взрывов он затонул. 203 моряка погибли, 80 — ранены. Подробное расследование, — рассказывает X. Вильсон, — показало, что его гибель была результатом измены».
Но что думают по этому поводу другие специалисты?
В ноябре 1916 года, как пишет К. П. Пузыревский в своей книге «Повреждение кораблей от артиллерии и борьба за живучесть», на причины гибели «Леонардо да Винчи» был пролит свет:
«Следственные органы, посредством длительного и более обстоятельного расследования, напали на след большой шпионской германской организации, во главе которой стоял видный служащий папской канцелярии, ведавший папским гардеробом. Был собран большой обвинительный материал, по которому стало известно, что шпионскими организациями на кораблях производились взрывы при помощи особых приборов с часовыми механизмами с расчетом произвести ряд взрывов в разных частях корабля через очень короткий промежуток времени, с тем, чтобы осложнить тушение пожаров».
Не правда ли, полная аналогия тому, что произошло на «Марии». Но ни Крылов, ни другие члены следственной комиссии тогда еще не знали этих подробностей.
Чем больше размышлял Крылов над катастрофой «Марии», тем сильнее утверждался в предположении относительно диверсии. Ход раздумий адмирала корабельной науки прослеживается уже по изменениям, которые он вносил в текст своего очерка «Гибель линейного корабля «Императрица Мария». Написанный в 1916 году и по цензурным соображениям не могший тогда появиться в печати, он впервые увидел свет в малотиражном сборнике «ЭПРОН» в 1934 году, а затем вошел в первое издание книги «Некоторые случаи аварии и гибели судов» (1939 г.). При включении очерка во второе издание (1942 г.) к нему были присоединены «Примечания» Крылова, взятые из его же сообщений в заседаниях следственной комиссии. Крылов писал, что за время с начала войны 1914 года по причинам, оставшимся неизвестными, взорвались в своих гаванях три английских и два итальянских корабля.
«Если бы эти случаи были Комиссии известны, относительно возможности «злого умысла» Комиссия высказалась бы более решительно».
А вот как была предотвращена диверсия на балтийском линкоре «Полтава». Контрразведка перехватила следующее послание одного из подозрительных лиц:
«Дорогой Коля, план удался, тетя на брак согласилась. Конечно, перевозки вещей, не избежать; но я достал справки. Все обойдется не дороже 500 руб; передам подробности лично. Опущу это письмо на вокзале, и во вторник получишь его не позже 8 часов дня. Целую тебя, твой Андрей».
— Это нашли при обыске? — начальник одного из отделов русской морской контрразведки встал из-за стола.
— Да. Агент пытался письмо уничтожить. Пришлось применить силу...
— Расшифровать удалось.
— Расшифровано. «План достал. Обойдется 500 рублей. Передам лично на вокзале во вторник в 5 часов».
— Но ведь сегодня вторник!
— Да. И уже два часа дня.
— Быстро людей на вокзал! И не спугните...
Вечером перед следователем сидел благообразный пожилой господин. Вероятно, он решил, что выложить все начистоту — это единственный шанс сохранить жизнь.
— Ваше главное задание?
— Взрыв линейного корабля «Полтава»...
История «Марии» выглядит совсем иным образом, если ее поставить в ряд с другими тревожными фактами активизации деятельности германской морской разведки, о которых мог не знать Крылов, но которые наверняка были известны Генеральному штабу. Итак, русской контрразведкой был взят с поличным — со взрывчаткой — немецкий агент Танденфельд. Диверсия на линкоре «Полтава» была предотвращена. Удалось предотвратить и взрыв на миноносце «Новик».
Интересен и случай, происшедший в 30-е годы в Центральном военно-морском музее в Ленинграде, что расположен в здании бывшей фондовой биржи. Там появился странный посетитель в форме немецкого торгового флота.
— Мне нужно видеть директора… — Посетитель говорил с заметным акцентом.
— Он сейчас занят, — ответил научный сотрудник… — Может быть, я смогу быть вам полезен? Директор освободится через полчаса.
— Ничего, — улыбнулся посетитель. — Я подожду.
Человек в форме иностранного моряка отошел в сторону и с любопытством начал разглядывать старинные бронзовые пушки времен Петра I, огромную модель «Потемкина» и надолго задержался у витрины, где на синем бархате лежали закладные серебряные доски линейных кораблей «Гангут» и «Императрица Мария». Потом внимание его привлекли находившиеся рядом экспонаты, относящиеся к периоду первой мировой войны, — спасательный круг с германского броненосного крейсера «Фридрих Карл», взорвавшегося на русских минах, реликвии с подводного минного заградителя «Краб», кораблей «Новик» и «Сивуч», спасательный пояс с немецкого миноносца «76»… В кабинете директора посетитель повел себя более чем странно.
— С кем имею честь? — спросил его директор.
— Это не столь важно… Не имеет значения, — пояснил гость. — Я имею к вам деловое предложение...
— Слушаю вас.
— Я только что рассматривал в витрине закладную доску линкора «Императрица Мария»… Я мог бы обогатить вашу экспозицию… — Он вынул из кармана несколько снимков и разложил их на столе директора.
— Это же «Мария»! — удивленно воскликнул тот.
— Да, — удовлетворенно согласился гость. — Вернее, ее гибель. Катастрофа, так сказать, во всех ее фазах. Это уникальные снимки… Никто и никогда вам вновь их не предложит.
— Но откуда они у вас?
— Это тоже не имеет значения… Таковы обстоятельства… Я продаю — вы покупаете. Ничего большего я, к сожалению, сообщить вам не имею права...
Музей купил снимки.
Выводы экспертизы по этим фотодокументам вполне однозначны:
«Подобную серию снимков могли сделать лишь люди, знавшие день и час замышлявшейся диверсии, иначе говоря, участники диверсионного акта».
Действительно, происхождение снимков не вызывает сомнений.
Во-первых, кто бы разрешил фотолюбителю заснять в военное время Северную бухту Севастополя, где стояли военные корабли? Никто, тем более что все газеты кричали тогда о германском шпионаже. Такой человек немедленно обратил бы на себя внимание и был бы задержан.
Во-вторых, для того чтобы сделать такую серию, нужно заранее выбрать точку съемки и иметь необходимое количество пленки.
В-третьих, трудно представить себе фотолюбителя, который бы встал ни свет, ни заря к утренней побудке на кораблях, чтобы сделать снимки, которые можно спокойно получить днем, при гораздо лучшем освещении. Нет, фотолюбительство здесь исключено.
Сейчас копии этих фотографий можно увидеть на стенде, посвященном трагедии «Императрицы Марии», в музее Черноморского флота в Севастополе. Честно говоря, фотографии впечатляют. Съемки велись, скорее всего, с мыса Хрустальный, который в те годы был достаточно редко посещаем людьми. Отметим, что все снимки сделаны через примерно равные промежутки времени и демонстрируют нам динамику развития всей трагедии «Марии», от первичного взрыва носового подбашенного артпогреба до момента опрокидывания корабля. Не надо быть ясновидцем, чтобы понять: данная серия снимков идеально напоминает некий фотографический отчет о событии, которое заранее ожидалось в определенное фиксированное время.
Но что же стало с самой «Императрицей Марией» после катастрофы?
Уже через несколько дней после взрыва были начаты мероприятия по подъему линейного корабля. «Императрицу Марию» рассчитывали отремонтировать и снова ввести в боевой строй.
Предложения итальянских и японских специалистов были отклонены из-за сложности и дороговизны. Тогда А. Н. Крылов в записке в комиссию по рассмотрению проектов подъема линкора предложил простой и оригинальный способ. За исполнение проекта А.Н. Крылова взялся корабельный инженер Сиденснер, старший судостроитель Севастопольского порта.
Профессор Крылов мыслил все это следующим образом. «Корабль поднимался вверх килем нагнетанием в него воздуха, в этом положении вводился в сухой док, где предполагалось заделать люки, кожухи дымовых труб, повреждения и всякие отверстия борта и палуб, затем после всех исправлений корабль вверх килем выводился из дока, накачивалась вода в междудонные отсеки, и корабль самым небольшим усилием переворачивался в нормальное положение».
Однако отсутствие необходимых средств, а также события на фронтах отвлекли на время внимание от судьбы затонувшего линкора Водолазы, осмотревшие «Марию» спустя два года после катастрофы, нашли корабль в грустном состоянии: он зарос тиной и ракушечником. На дне, как сказочные чудовища, лежали огромные орудийные башни, выпавшие из корпуса.
Из воспоминаний бывшего офицера «Императрицы Марии» В. В. Успенского: «Затонувший на неглубоком месте корабль окружили баканами и вешками. Его положение — поперек Северной бухты — мешало движению кораблей, а посему решили его поднять. Обследование показало, что особых затруднений для подъема линкора не предвиделось. Работы поручили инженеру Сиденснеру, который взял себе помощником С. Шапошникова. Корабль лежал на дне вверх килем. В его днище водолазы вырезали отверстие диаметром 3 метра и к нему приварили башенку. Она крепилась на перегородке и имела две герметически закрывающиеся двери с перепускными воздушными кранами и манометрами. После этого в корпус стали закачивать воздух. Когда линкор всплыл, у бортов сделали добавочные гении, и стало возможным через башенку проникнуть внутрь корабля».
К концу 1916 года вода из всех кормовых отсеков была отжата воздухом, и корма всплыла на поверхность. В 1917 году всплыл весь корпус. В январе — апреле 1918 года корабль отбуксировали ближе к берегу и выгрузили оставшийся боезапас. Только в августе 1918 года портовые буксиры «Водолей», «Пригодный» и «Елизавета» отвели линкор в док.
Там инженеры еще раз осмотрели весь корабль. Неожиданно обнаружилось, что 130-миллиметровые пушки линкора прекрасно сохранились и вполне могут быть использованы на бронепоездах. С линкора сняли 130-мм артиллерию, часть вспомогательных механизмов и другое оборудование.
Вскоре власть в Севастополе в очередной раз поменялась. Он перешел в руки Белой армии. И скоро стоящую кверху днищем в доке «Марию» пожелал осмотреть сам Деникин. Огромный корабль впечатление на генерала произвел, но средств у белых на восстановление линкора не было, так же как и у красных. Впрочем, Деникин приказал:
«Корабль перевернуть, поставить в нормальное положение, а там посмотрим…»
В России бушевала Гражданская война, а «Мария» продолжала ржаветь в доке. Как намеревались дальше поступить с кораблем? Если отбросить самые нелепые и фантастические проекты, то, судя по официальной переписке руководства Белым движением тех лет, то предлагались четыре варианта:
1. Восстановить «Марию» как линейный корабль.
2. Переделать корабль в коммерческий грузовой пароход.
3. Переделать линкор в плавучий зерновой или угольный склад.
4. Разобрать судно в доке и использовать его металл как сырье для заводов.
Однако в условиях войны все они были не осуществимы. Осенью 1920 года, перед тем как уйти, врангелевцы затопили док с линкором прямо у берега. Впрочем, это никак не повлияло на дальнейшую судьбу несчастной «Марии».
Док достаточно быстро привели в порядок и осушили. Состояние его было весьма плачевным. За четыре с лишним года деревянные клетки, на которых покоился корпус, подгнили. Из-за перераспределения нагрузки появились трещины и в подошве самого дока. После того как док починили, «Марию» вывели из него и поставили на мель у выхода из бухты, где она простояла вверх килем еще три года. В 1926 году корпус линкора вновь был введен в док в том же положении и в 1927 году окончательно разобран. Работы выполнял ЭПРОН. При опрокидывании линкора во время катастрофы многотонные башни 305-мм орудий корабля сорвались с боевых штыров и затонули. Незадолго перед Великой Отечественной войной эти башни были подняты эпроновцами.
История взрыва на «Императрице Марии» всегда вызывала самый пристальный интерес у нас в стране. Еще в 1939 году Г. Есютин и П. Юферс выпустили в свет брошюру «Гибель «Марии». В послевоенное время появились повесть А. Рыбакова «Кортик» и роман С. Сергеева-Ценского «Утренний взрыв», в которых в художественной форме авторы пытались так или иначе воссоздать события на линкоре. В 60-70е гг. писатель-маринист А. С. Елкин написал две повести — «Арбатская повесть» и «Тайна «Императрицы Марии», в которых изложил одну из основных версий, что гибель линкора явилась следствием диверсионного акта германской разведки.
А. С. Елкин через свои контакты с органами безопасности сумел выявить и обнародовать некоторые сведения о работе в Николаеве с 1907 года (в т. ч. на судостроительном заводе, строившем русские линкоры) группы немецких шпионов во главе с резидентом Верманом.
Это вскрылось органами ОГПУ еще в начале тридцатых годов, когда ее члены (в частности, городской голова Николаева Матвеев, инженеры верфи Шеффер, Линке, Феоктистов и другие, а также ранее обучавшийся в Германии электротехник Сгибнев; последние два явились непосредственными исполнителями акции) были арестованы и, по словам Елкина, в ходе следствия дали показания об участии в подрыве «Императрицы Марии». За что Феоктистову и Сгибневу Верманом было обещано по 80 тысяч рублей золотом каждому после окончания боевых действий…
Но наших чекистов тогда такие дела — дореволюционной давности — мало интересовали, они рассматривались не более чем исторически любопытная «фактура». И поэтому информация о подрыве «Императрицы Марии» не получила должной разработки.
Не так давно сотрудники Центра общественных связей и Центрального архива ФСБ России А. Черепков и А. Шишкин в своей публикации в «Морском сборнике» документально подтвердили многозначительный факт разоблачения в 1933 году в Николаеве глубоко законспирированной группы разведчиков и диверсантов, возглавлявшейся немцем В. Верманом, работавшей там с предвоенных времен и «ориентированной» на местные судостроительные заводы.
Документально подтверждено, что уроженец (1883 года) города Херсона, сын выходца из Германии, пароходчика Э. Вермана — Верман Виктор Эдуардович, получивший образование в фатерланде и Швейцарии, преуспевающий делец, а потом инженер кораблестроительного завода «Руссуд», действительно являлся немецким разведчиком с дореволюционных времен Деятельность Вермана подробно изложена в той части архивного следственного дела, которая называется «Моя шпионская деятельность в пользу Германии при царском правительстве. Верман на одном из допросов показал следующее: «Шпионской деятельностью я стал заниматься в 1908 году в Николаеве, работая на заводе «Наваль» в отделе морских машин. Вовлечен в шпионскую деятельность я был группой немецких инженеров того же отдела, состоявшей из инженера Моора и Ганна». Далее он признает. «Моор и Ганн, а больше всего первый, стали меня обрабатывать и вовлекать в разведывательную работу в пользу Германии». На допросе Верман рассказывал: «Из лиц, мною лично завербованных для шпионской работы в период 1908–1914 годов, я помню следующих: Штайвеха, Блимке, Наймаера, Линке Бруно, инженера Шеффера, электрика Сгибнева». Все они сотрудники судостроительных заводов, имеющие право прохода на строящиеся корабли.
Из протокола допроса Шеффера. Он указывает: «За этот период времени я периодически передавал Линке письменные материалы шпионского характера по следующим вопросам:
Подробные данные о вновь заложенном на заводе в 1916 году дредноуте «Николай», размеры, тоннаж, мощность двигателей, скорость, технические условия, качество материалов, вооружения.
Подробные данные по актам сдачи законченных судов: дредноут «Екатерина II» и эскадренных миноносцев.»
Вот что показал Сгибнев на допросе 20 ноября 1933 года:
«Я был приглашен Фришеном для электроремонта его дачи в предместье Николаева. В процессе производимой мною у него работы с Фришеном я познакомился ближе, благодаря чему впоследствии я получил через него ряд заказов для своей мастерской по электрооборудованию конторы… Здесь же у Фришена я познакомился с его служащим Верманом Виктором Эдуардовичем, германско-подданным Последний был большим любителем яхт-клуба, на почве чего мы сдружились и часто совместно проводили время, увлекаясь спортом В1911 году я поступил на николаевский завод «Руссуд» по рекомендации адмирала Данилевского, с которым был знаком благодаря производимой мною работы у него по ремонту его автомобиля. Работая на данном заводе, я снова встретился с Верманом В. Э., который предложил мне сообщать ему о ходе моих работ по оборудованию временного освещения строящихся на заводе военных кораблей. С предложением Вермана я согласился, и до 1916 года я информировал его о ходе постройки военного корабля «Мария» и затем другого корабля типа «Дредноут» — «Александра». Исчерпывающие сведения, интересовавшие Вермана, я ему не мог дать, т. к. это выходило из круга моей компетенции, но я его ориентировал, от кого и где те или иные сведения смог получить. Конкретно его интересовали системы рулевого управления и схема артиллерийских башен дредноутов. Я рекомендовал Верману эти сведения добыть через контрагентов, производивших установку этих механизмов на дредноутах. Таким образом, вплоть до начала империалистической войны, т. е. в период 1912–1914 годов, я передавал Верману сведения в устной форме о строящихся линейных кораблях типа «Дредноут»: «Мария» и «Александр III» В 1914 году во время русско-германской войны… Верман выслан из пределов Николаева, и я потерял с ним связь. В 1918 году с приходом немецких оккупационных войск я встретился с Верманом. Встреча была мимолетной, и более Вермана я не видел».
Верман на допросе изложил эти события прозаически просто: «На второй же день после объявления войны, если не ошибаюсь, 2 августа 1914 года я был на улице в Николаеве арестован полицейским надзирателем, заключен под стражу и через полтора месяца вместе с другими германскоподданным и выслан под Оренбург, где и оставлен на жительство в Сейтовском Посаде — Каргала. В ссылке я прожил до декабря 1917 года. И оттуда бежал… С момента приезда — последних чисел декабря 1917 года до оккупации немцами Украины и занятия ими Николаева в марте 1918 года — нигде не служил, в этот отрезок времени разведывательной деятельностью не занимался».
Вот что говорится в письме Севастопольского жандармского управления начальнику штаба командующего Черноморским флотом: «…Матросы говорят о том, что рабочие по проводке электричества, бывшие на корабле накануне взрыва до 10 часов вечера, могли что-нибудь учинить и со злым умыслом, так как рабочие при входе на корабль совершенно не осматривались и работали также без досмотра. Особенно высказывается подозрение в этом отношении на инженера той фирмы, что на Нахимовском проспекте, в доме № 55, якобы накануне взрыва уехавшего из Севастополя».
Верман сообщил также: «В 1918 году по представлению капитан-лейтенанта Клосса я был германским командованием за самоотверженную работу и шпионскую деятельность в пользу Германии награжден Железным крестом 2-й степени». Следствие по делу арестованных в Николаеве германских агентов было закончено в 1934 году. Вызывают недоумение и легкость наказания, понесенного Верманом и Сгибневым. Первый был выдворен за пределы СССР в марте 1934 года, второй — приговорен к 3 годам лагерей. Собственно, чего же недоумевать?! Они уничтожали ненавистный царизм!
В 1989 году оба они были реабилитированы. В заключение акта о реабилитации органов юстиции говорится, что Верман, Сгибнев, а также Шеффер (последний понес самое тяжкое наказание — был приговорен к расстрелу, хотя сведений о приведении приговора в исполнение не имеется) подпадают под действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв политических репрессий, имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов».
Буквально несколько лет назад историкам стали доступны записки агента заграничной агентуры Петроградского департамента полиции, выступавшего под псевдонимами «Александров», «Ленин» и Шарль. Его настоящее имя — Бенциан Долин. В период Первой мировой войны Долин, как и многие другие агенты политической полиции, был переориентирован на работу в области внешней контрразведки. В результате проведенных оперативных комбинаций Шарль вышел на контакт с представителями немецкой военной разведки и получил от них задание по выводу из строя новейшего линкора «Императрица Мария».
Выдержки из доклада Шарля по этому поводу, хранящегося в ЦА ФСКР, обнаружил генерал-лейтенант ФСБ РФ А. Зданович:
«Ввиду того что, как известно немцам, еще в 1905 году в Черноморском флоте было революционное движение, выразившееся в памятном мятеже на броненосце «Князь Потемкин», ввиду того что на флоте сохранился антиправительственный дух, желательным является, подняв мятеж матросов, внушить им увести суда «Мария» и «Пантелеймон» в Турцию. Мне был предоставлен целый план обеспечения личной свободы и материального благосостояния для тех офицеров и матросов, которые приняли бы участие в акте, а также и указания, как поступить с сопротивляющимися, причем из этой последней категории офицеров надо бросать в воду, а матросов только связывать. Было также предложено организовать отдельную группу, которую надлежало отправить в Архангельский порт и на Мурманскую железную дорогу. В Архангельске важно было возможно больше мешать правильному сообщению пароходов, курсирующих между Архангельском, Англией и Америкой.
В марте я получил приглашение приехать в Берн для переговоров по очень важному делу. Приехав туда, я был у Бисмарка, и он сказал мне, между прочим, следующее: «У русских одно преимущество перед нами на Черном море — это «Мария». Постарайтесь убрать ее. Тогда наши силы будут равны, а при равенстве сил мы победим. Если нельзя окончательно ее уничтожить, то хоть постарайтесь выбить ее из строя на несколько месяцев».
Затем он передал, что сейчас со мной будет говорить их посол, но чтобы я не подал виду, что знаю, с кем говорю.
Когда пришел этот, не знакомый мне господин посол, то он завел разговор об общем положении России, в коем показал довольно большую осведомленность в разных оттенках русских общественных настроений. Поговорив со мной около получаса и, очевидно, оставшись доволен моими ответами, он спросил меня, не соглашусь ли я поехать в Россию для организации в широком масштабе революционной повстанческой пропаганды среди рабочих и крестьян.
В пропаганду входили рабочие и аграрные беспорядки с самым широким саботажем, а также с лозунгом: «Долой войну!» Между прочим, в разговоре он выразился, что люди различных идейных мировоззрений во время этой войны во многом неожиданно сошлись и разошлись. Указал на Бурцева и Кропоткина — людей различных взглядов, однако сошедшихся отношением к войне.
На мой запрос, как быть, Петроградский департамент полиции ответил мне через Красильникова следующее: «Оба предложения принять. О «Марии» — условно, о пропаганде — безусловно». Мне предписывалось выехать в Россию.
Уезжая в Россию, я условился с немцами, что через два месяца встречусь с ними в Стокгольме. По приезде в Россию, через Швецию, под именем Ральфа, приблизительно в мае 1916 года я отправился, согласно указанию Красильникова, к Броецкому, тогда делопроизводителю Департамента полиции.
Броецкий сказал мне, что Департамент полиции вряд ли может вплотную заняться этим делом, а потому я буду передан в распоряжение военных властей. В таком ожидании проходили недели, но ничего не было сделано… Таким образом, связи с немцами были чисто автоматически порваны, и, видя, что мне делать здесь больше нечего, я заявил, что хочу уехать из Петрограда.
Уехал я в Одессу, куда прибыл в конце июля 1916 года и стал жить под своим собственным именем ввиду предстоящего призыва моего возраста… Из газет узнал о взрыве «Марии», а вслед затем о пожаре в Архангельском порту. Прочитав эти сведения в газетах, я написал письмо опять назначенному на должность директора Департамента полиции Васильеву о том, что своевременно как устно, так и письменно было мною обращено внимание. Ответа не последовало никакого. Проверены ли были мои указания и почему власти закрыли глаза на показанную мною опасность — не знаю»…»
Гибель новейшего линкора «Императрица Мария» в октябре 1916 года, несомненно, заставила руководство МГШ задуматься, ведь основной версией случившегося тогда считалась диверсия германских агентов. Начальник Морской регистрационной службы МГШ капитан 2-го ранга В. А. Виноградов предпринял необходимые меры по активизации работы военно-морских агентов по линии внешней контрразведки, а в начале 1917 года инициировал созыв представительного совещания, на котором обсуждался один вопрос — «О сформировании морской контрразведки». В совещании приняли участие, помимо самого Виноградова, руководитель разведывательного делопроизводства ГУГШ Генерального штаба полковник М. Ф. Раевский, начальник Центрального военно-регистрационного бюро ГУГШ полковник В. Г. Туркестанов, заместитель Виноградова подполковник А. И. Левицкий, начальник отдела контрразведки штаба Петроградского военного округа полковник В. И. Якубов и глава Петроградского морского отдела контрразведки полковник И. С. Николаев. Совещание продолжалось восемь дней. К сожалению, итоговый документ пока обнаружить не удалось. Исходя из того, что приказ по Отдельному корпусу жандармов, регламентирующий службу офицеров корпуса в морской контрразведке, вышел 12 февраля 1917 года (через два дня после окончания совещания), можно напрямую связать его появление с обсуждением вопроса о кадрах.
Реализовать приказ не удалось, поскольку вскоре после Февральской революции перестало существовать Жандармское ведомство, все его офицеры, уже зачисленные в контрразведку, подлежали немедленному увольнению. О том, что происходило в те дни, позднее вспоминал помощник начальника контрразведки Черноморского флота C. M. Устинов. Созданная Севастопольским советом комиссия решила полностью реорганизовать отделы контрразведки, а затем признала необходимым произвести основательную чистку персонала. «Все члены Департамента полиции, — писал Устинов, — и агенты бывшего окраинного отделения были уволены. Эта мера лишила контрразведку опытных работников, в некотором отношении даже незаменимых»
Историк П. Н. Зырянов пишет: «Писатель А. С. Елкин, автор книги «Тайна «Императрицы Марии»… утверждает, что Колчак и Городысский были неискренни, пытаясь уйти от ответственности за то, что не обеспечили на корабле должный порядок. В неофициальных беседах Колчак якобы заявлял другое — и Елкин ссылается на письмо, полученное «из-за океана». «Мне, как офицеру русского флота, — говорится в письме, — довелось быть во время описываемых событий в Севастополе. Работал я в штабе Черноморского флота. Наблюдал за работой комиссии по расследованию причин гибели «Марии» и сам слышал разговор Колчака с одним из членов комиссии. Колчак тогда сказал: «Как командующему, мне выгоднее предпочесть версию о самовозгорании пороха. Как честный человек, я убежден — здесь диверсия. Хотя мы и не располагаем пока конкретными доказательствами…» Автор письма просил не называть его фамилию.
В своих воспоминаниях морской министр адмирал И. К. Григорович писал: «Причину взрыва найти трудно, но лично мое мнение — это злонамеренный взрыв при помощи адской машины и дело рук наших врагов». Другой причины взрыва я не вижу — следствие выяснить не может…»
Из воспоминаний капитана 2-го ранга А. П. Лукина: «Летом 1917 года секретная агентура доставила в наш морской Генеральный штаб несколько небольших металлических трубочек. Найдены они были среди аксессуаров маникюра и кружев шелкового белья очаровательнейшего существа, одного из тех блестков войны, которые в кровавую эпоху человеческой бойни так внезапно и так ярко вспыхивали во всех столицах Запада и Востока и столь же быстро исчезали, вызывая восторг, поклонение и трагедию одних и пронизывающие, страшные, тайно следящие взоры других… Так, вероятно, погиб и этот сверкнувшей в северной столице мотылек, попавшись в своей игре с «безделушками» в скрытые когти более ловкой, пронырливой и беспощадной руки… Миниатюрные же трубочки — «безделушечки» были направлены в лабораторию. Они оказались тончайше выделанными из латуни механическими взрывателями.
Отпечатанные с них фотографии секретнейшим порядком, через специальных офицеров были разосланы в штабы союзного флота, при чем выяснилось, что точь-в-точь такие же трубки были найдены на таинственно взорвавшемся итальянском дредноуте «Леонардо да Винчи». Одна — не взорвавшаяся — в картузе, в бомбовом погребе…
Вот что по этому поводу рассказал офицер итальянского морского штаба, капитан 2-го ранга Луиджи ди Самбуи: с несомненностью установлено существование некоей тайной организации по взрыву кораблей. Нити ее вели к швейцарской границе. Но там их след терялся. Все попытки обнаружить его за пределами этой границы остались безуспешными. Тогда решено было обратиться к могущественнейшей воровской организации «Сицилийская мафия». Та взялась за это дело и послала в Швейцарию «боевую дружину» опытнейших и решительнейших людей.
Прошло немало времени, пока «дружина», путем немалых затрат средств и энергии наконец напала на след. Он вел в Берн, в подземелье одного богатого особняка. Тут и находилось главное хранилище штаба этой таинственной организации — забронированная, герметически закрытая камера, наполненная удушливыми газами. В ней — сейф с хранящимися в нем ценностями. «Мафия» приказала проникнуть в камеру и захватить сейф. После длительного наблюдения и подготовки «дружина» ночью прорезала броневую плиту. В противогазовых масках проникла в камеру, но за невозможностью захватить сейф взорвала его. Целый склад… «трубочек» оказался в нем. К сожалению, никакой переписки найдено не было. Что же касается ценностей, «мафия» все захватила себе. Поэтому цифра этих ценностей осталась неизвестной».
Отметим, что если весь 1916 год российский флот буквально лихорадило от диверсантов, то в следующем, 1917 году диверсанты не пытались ничего взрывать ни на Балтике, ни на Черном море. Чем это объяснить? Только тем, что они получили команду на свертывание своей диверсионной деятельности. Но почему? Да потому, что Россия стремительно входила в революцию (и, как мы теперь уже знаем, не без помощи германского Генерального штаба) и существовала большая вероятность того, что с заключением сепаратного мира между революционной Россией и Германией российские боевые корабли будут переданы последней. Стремление Германии захватить российский флот подтверждают события ледового похода Балтийского флота и затопление в Новороссийске Черноморского в 1918 году. Некоторой информацией о сговоре новой власти в лице Троцкого с германским Генштабом владел командующий Морскими силами Балтийского моря А. Щастный, за что и поплатился головой, спасая Балтийский флот.
По крайней мере другого внятного объяснения тому факту, что за все время революционных событий, в обстановке полнейшего хаоса и безначалия, на кораблях не было совершено ни одной попытки взрыва «адских машинок». Зачем же уничтожать то, что завтра, быть может, будет принадлежать тебе.
Источники:
1. АВПРИ. Ф. 493. Д. 217, Д. 218, Д. 220, Д. 890, Д. 891.
2. Иллюстрированная летопись Русско-японской войны (По официальным данным, сведениям печати и показаниям очевидцев). С картами и планами, портретами, изображениями боевых эпизодов, рисунками из военно-походного быта. Вып. 3. СПб.: Типография А. C. Суворина. Изд. «Нового Журнала Иностранной Литературы» (Ф. И. Булгакова). 1904. С. 98–119, 137–139.
3. Исторический вестник. 1914. № 6. Т. 4. Ч. 1. № 1921.
4. Смилевец И. От земли Санникова до сопок Маньчжурии. Саратов, Приволжское изд-во, 2012. С. 206–207.
5. С. О. Макаров. Документы. М.: Воениздат, 1960. Т. 1, 2.
6. Макаров С. О. Рассуждения по вопросам морской тактики. Санкт-Петербург, типо-лит. Шредера, 1904.
7. Быков П.Д. Русско-яп онская война 1904–1905 гг. Действия на море. М., 1942.
8. Ножин Е. К. Правда о Порт-Артуре. Типо-Литография «Герольд» 1906.
9. Семанов С. Н. Тайна гибели адмирала Макарова. Новые страницы русско-японской войны 1904-1905 гг. М. «Вече» 2000.
10. Алексей Николаевич Крылов Собрание трудов. Т. 1–12 — М.–Л.: Издательство АН СССР, 1936–1956.
11. Бубнов А. Д. В Царской Ставке. Нью-Йорк, 1955.
12. Корр, G. Dai Teufelsschiff und seine kleine Schwester, Erlebnisse des «Goeben». Leipzig, 1930. (Русский перевод, приведённый ниже отличен от оригинальной книжки).
13. Пестов А.И. «Гебен» был на русских минах 16 октября 1914 года // Военная Быль, 1973, № 125.
14. Лукин А. П. Русские моряки во время Великой войны и революции // Иллюстрированная Россия. Париж, 1934, кн. 49, 50.
15. Монастырев H. A. Гибель царского флота // Русское военно-морское зарубежье. Вып. 3. СПб., 1995.
16. «La guerre navale 1914-15. Fautes et responsabilit;s» par le vice-amiral Bienaim;, Paris, 1920.
17. Адмирал Эбергард. Время и судьба: книга-архив / авт.-сост. А.С. Гутан. – М.: Арт Волхонка, 2016.
18. В. Доценко. Гражданская война в России: Черноморский флот / — М.: ООО «Издательство ACT»
19. Елкин А. С. Арбатская повесть. М., Московский рабочий, 1978.
20. Допрос Колчака. — Л.: Гиз, 1925.
21. Газета «Русский инвалид» от 26 октября 1916 года.
22. РГАВМФ, Ф. р-1565, Оп. 1, Д.45.
23. Ласопов В.А. Свойства и технология взрывчатых веществ. М., 1934.
24. Рудников М.Л. и др. Краткий курс порохов и взрывчатых веществ. М., 1955.
25. Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества. М., 1949.
26. Левицкий В.А., Заболоцкий В.П. Почему же погибла «Императрица Мария»? // Морской исторический сборник. Выпуск 3. СПб., 1992.
27. Пузыревский К.П. Повреждения кораблей от артиллерии и борьба за живучесть. Л., 1940.
28. Кооп Г. На линейном крейсере «Гебен». — СПб.: Корабли и сражения, 2002.
29. Виноградов С.Е. — Линейный корабль «Императрица Мария».
30. Р.М.Мельников. Линейные корабли типа «Императрица Мария». — СПб.: Гангут, 1993.
31. Борис Айзенберг — Линкор «Императрица Мария»: Главная тайна Российского флота.
32. Виноградов С.Е. Императрица Мария Возвращение из глубины — Санкт Петербург, 2002.
33. Виленов Влад Тайны «Императрицы Марии».
34. И. Благовещенский. Ввод в док вверх килем линейного корабля «Императрица Мария». « Морской Сборник» №1, 1924.
35. В.В. Бехтерев. Подъём б[ывшего] линейного корабля «[Императрица] Мария» // ЭПРОН. Сборник статей по судоподъёму, водолазному и аварийно-спасательному делу. Выпуск III-V. — Л.-М.: Водный транспорт, 1934.
36. К.К. Нехаев. Подъём затонувших судов. — Берлин, 1923.
37. A.C. и П.С. Романовы. «Марпартия» — первая в России судоподъёмная организация / /ЭПРОН. Сборник статей по судоподъёму, водолазному и аварийно-спасательному делу. XXVI-XXVII. — Л.-М.: Водный транспорт, 1940.
38. Л.H. Мейер. Ввод в док б. линейного корабля «Императрица Мария» «Морской сборник, № 10, 1926.
39. Н.А.Максимец. Подъём 12-дюймовых орудийных башен линкора «Мария»//Судоподъём. Сборник. №29. -М.- Л.: Изд-во Наркомречфлота СССР, 1945.
40. В.Г.Андриенко. Тайны «Императрицы Марии»// Цитадель, №2(7), 1998.
41. И.К.Григорович. Воспоминания бывшего морского министра. СПб. Дева, 1993.
42. Т.В.Есютин. Гибель «Марии». Воспоминания моряка Черноморского флота. M.-Л., ГИХЛ, 1931.
43. Официальное сообщение МГШ о гибели линейного корабля «Императрица Мария» // Морской сборник, №12, 1916. с. 219-221.
44. Журнал «Техника-Молодёжи» №№ 10-11 1970 г
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.