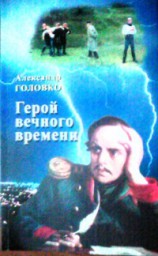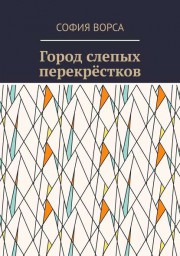Деревня, 50-ые. глава из романа.
«История души человеческой едва ли не любопытнее и не полезнее, чем история целого народа...» — М.Ю.Лермонтов.
***********
Однажды приходит желание: вспомнить всё с самого-самого начала своей жизни. То ли интересно становится: а объемлема ли память, то ли просто хочется достать из архива эти слайды и внимательно рассматривать каждый кадр, оценивая все его цвета. Зачем некоторые делают это для всех? Кому это может быть интересно? А вспомните, как по-разному читаются книги. К одним из них испытываешь уважение, информативный интерес, сочувствие — но как бы со стороны, холодно-отстранённо. Потому что — НЕ ПРО ТЕБЯ. А есть книги ПРО ТЕБЯ, совершенно отвечающие твоему строю души. Здесь ты, читая, всё более разгорячаешься и на каждой странице восклицаешь: «Да, да, точно так!»Душа пылает, переживая свои собственные чувства и мысли вновь. У каждого читающего человека есть такие книги, СВОИ книги. Для меня это «Игра в бисер» Германа Гессе, «Приглашение на казнь» Владимира Набокова, «Три товарища» и «Чёрный обелиск» Ремарка, «Жизнь Ван Гога» Анри Перрюшо, «Моя жизнь» Сетона-Томпсона… Для другого – другие. Может быть, и страницы чужой памяти поддержат в другой душе никогда не гаснущий беспокойный огонёк. Беспокойный – потому что всем людям свойственно желание самовыразиться, но не все ясно видят пути к этому. Можно самовыразиться и через другого, узнать себя в картине, книге. Вот почему нас так утешают (тешат?) музыка, изобразительное искусство, литература… И каждый опыт достоин внимания: он может принадлежать многим – и тебе…
ДЕРЕВНЯ. Середина 50-ых.
Две самые ранние картинки моей жизни прочно засели в памяти, хотя одна из них чем дальше, тем больше кажется уже миражом, следствием сильной детской впечатлительности.
Мы бродим с моей деревенской тёткой по болоту, и как будто заблудились. Я очень маленькая, три-четыре года. Может, мне привиделось в полуобморочном состоянии от усталости, но вдруг – в ярких-ярких красках прямо передо мной на небольшом, словно опустившемся с неба, серо-белом облачке, на одном преклонённом колене – юноша-витязь. Он передаёт мне в руки что-то очень красочное – кажется, Яблоко… Лет до 10 потом я видела всё это снова во сне, этот сон многократно повторялся. А потом – забыла детали, и сон этот больше не приходил. Значит ли это, что только детство с его чистой душой может получить и держать в своих руках необыкновенно яркий ДАР? Кто-то пронесёт этот дар через всю жизнь, а кто-то и потеряет. Или тогда мне просто подарили жизнь как самый яркий Дар, ведь мы с тёткой всё-таки выбрались из гиблого места...
А вторая картинка – суперреальна. Она очень запомнилась мне ракурсом, понимаю – почему: наверное, я всё ещё была очень мала, потому что пространство вокруг себя вижу сильно выпуклым, полусферичным. Прямо перед глазами – крутая дуга горы, на которую взбегает моя дорога, крутые дуги зелёных холмов вокруг, ни одной прямой линии. Я бреду босая в невероятной мягкости толстого слоя фиолетовой дорожной пыли, лёгкой как пепел. Моя маленькая босая ступня опускается глубоко в этот слой – и невыразимо нежные, невесомые прохладные струи приятно обтекают её. Я занята сладкой работой: ищу в пыли «драгоценности»: мелкие осколки от тарелок с волшебными рисунками – красным цветочком, зелёным листочком, голубой полоской-каймой — или цветные стёклышки. От одной околицы деревни до другой — и ты богач. Я складывала эти осколки вместе, выкладывая одно прекрасное панно – и зачаровывалась этой красотой…
Ещё помню, что степь – там, за бревенчатыми избами, пахла необыкновенно – и ветер доносил этот запах. А цвет полыни – не белый, не серый, не стальной, не серебряный, а какой-то совершенно необъяснимый – я нигде больше не встречала. В траве вокруг бабушкиной избы водились стайки шампиньонов. Наши детские коленки были всегда зелены. Приятно было пальцами рук прощупывать ворс густой и низкой тёмно-зелёной травы, продвигаясь всё дальше и захватывая пальцами колонию за колонией белых крепких шампиньончиков.
У бабушки была совсем маленькая изба, из серых старых брёвен и досок, с расшатанным и довольно высоким крылечком. В узкой избе много места занимала высокая, почти до потолка, белёная печь-лежанка, там всё время грелся покряхтывающий дедушка. Мы звали почему-то дедушку – «дЕдинька», а бабушку – «бАбынька» — так было принято в том русском селе, с тридцатью дворами друг против друга по одной длинной безымянной улице, со старинным романтическим названием Воецкое, Майнского района Ульяновской области. Напротив печи стояла широкая железная кровать с большими никелированными блестящими шарами на «боковушках». Эти шары не давали нам, детям, покоя, мы всё стремились отвинтить их и утащить поиграть.
В красном углу под иконами, небогатыми и тёмными под виньетками из фольги, стоял квадратный добротного дерева стол с табуретками. На нём всегда красовался большущий медный самовар, всегда идеально начищенный. Ну и рожи были в нём, когда наши носы приближались к этому кривому зеркалу! За стол садились обязательно все вместе, в строго определённые часы. Дед Никифор не разрешал издавать ни звука за едой. Если мы, двое-трое детей за столом, поглядев друг на друга или на свою вытянутую рожу в самоваре, прыскали в тарелку от смеха, дед тут же пребольно ударял своей деревянной ложкой по лбу виноватому. Мы ещё больше прыскали, а «прибитый» с некоторой уже обидой посматривал на остальных. Ели только деревянными ложками, расписными, красивыми. А кисель бабынька Анна делала славно: клала в стакан (всегда в мельхиоровых с завитушками подстаканниках) ложку сухого розового порошка киселя – и ставила его под краник самовара. Густой кипяток лился в стакан – и вкуснющий горячий кисель был готов, обжигал горло.
Кухонька была только повернуться. Печь, уходящая в потолок, чёрная заслонка, ухваты. В широкой подпечной дыре–пОдполе – зола. Я боялась даже смотреть в чёрный провал подпола: там жил домовой, которым пугали нас дединька и бабынька, когда ругали нас за проказы: «Вот домовой вас, антихристы!..»
По деревне раз в месяц проезжал тряпичник на телеге, собирал ветошь, давал за неё детям надувные шарики, леденцы. Мы всегда с нетерпением ждали его.
Помню, в жарко натопленной зимней избе, совсем крохой, я стою голенькая, после домашней бани, между дединькой и бабынькой. Они сидят на табуретах друг против друга, один легонько шлёпнет меня по голой попке, толкнёт к другой, а та так же ласково шлёпнет по голому животику, толкает снова к деду. Я реву. А дед пугает: «Смотри, кони ржут за окном, сейчас тебя заберут, не реви!» Мало кого из деревенских детей миновала эта извечная жуткая сказка про цыган, которые забирают непослушных и плаксивых ребятишек. Я реву и от страха, и от обиды на шлепки. А два старика умиляются на крохотное крепенькое розовое тельце.
На стене всегда висел портрет дяди Вани – младшего сына дединьки и бабыньки, без вести пропавшего на войне 1941-45 годов, как мы тогда думали. Впоследствии разыскалась весть о его ранней гибели. В заметке областной газеты участник войны В.П. Токарев опубликовал воспоминания о себе и своих, таких же, как и он тогда, 18-летних товарищах: «В июне 1941 года я получил аттестат зрелости. И буквально на другой же день после выпускного вечера радио принесло нам страшное известие… В начале декабря райком комсомола послал меня, Виктора Обрезкова и Ивана Волкова из Воецкого, на курсы инструкторов танкоистребительного дела, а в конце этого же месяца мы, все трое, добровольцами отправились на фронт. Враг уже отступал из Подмосковья, и повсюду были видны следы отступления: брошенные каски, искорёженная, а порой и совершенно целая немецкая техника… Месяц мы, три товарища, были вместе. Потом Виктор Обрезков обморозился, я был ранен и контужен, а Ваню Волкова убили. Осколок мины попал ему в голову…» Эта заметка от апреля 1985 года, когда дединьки и бабыньки уже не было в живых, принесла, наконец, правдивую весть. Тогда, в 41-ом, мать и отец получили извещение, что их сын пропал без вести. Шёл первый год войны. Может, кто-то пожалел родителей 18-летнего паренька: пусть, мол, лучше живут надеждой, чем горем…
За избами и огородами текла совсем неширокая речка, всего в два метра шириной, но так бойко журчала она весёлой прозрачной водой! Сколько там было интересного! Там я впервые в жизни рассмотрела лягушку. Наверное, я лежала в высокой траве на противоположном бережку, потому что лягушка смело сидела прямо против моих глаз на небольшой песчаной отмели, журчанье бегущей вприпрыжку воды заглушало шорохи с моей стороны. Лягушка была очень красива. Брюшко беленькое, чистенькое, кожица на спине и лапках – в нарядных зелено-чёрных кружочках, и так блестит! Она умела надувать горло пузырём. Такая красавица! Не то, что эти уродливые жабы, тяжёлыми танками шлёпающие в траве. От них – бородавки. Если бородавки выскакивали на руках – мы направляли на них струю мочи, как учила бабынька – и они, действительно, проходили.
Высокий плетень вокруг деревенского двора из ларца моей детской памяти казался мне шедевром рукотворного искусства: так тесно и ловко переплетены были довольно широкие тёмные прутья!.. Живёшь за этим плетнём — как лилипут в корзине, меня переполняло восторгом от этого ощущения.
Во дворе была навозно-земляная куча. Приятно было разрыхлять жирную прохладную её глубь и находить там белых, свернувшихся упругим кольцом, больших и толстых личинок. Это были личинки майских жуков. Для нас это были радостные находки, мы складывали их в банки и хвастались, у кого больше. Навозная куча была огромная, до трёх метров в высоту, забирались мы на неё на четвереньках. Нас не ругали за грязную одежду. На мальчишках были одни только чёрные сатиновые трусы, до колен, а свою деревенскую одежду я не помню. Видела старую фотографию: шёлковые белые панталончики под вздёрнутым почти до пояса крепдешиновым, белым с крупными цветами, платьем – всё это надели на меня наспех, когда в деревню приезжал фотограф. Платье явно мало, снизу торчат босые загорелые дочерна ноги, сверху – бритая голова. Ребятни было много, старики за всеми уследить не могли, поэтому девочек летом стригли наголо – от вшей. Хотя эти насекомые сильно кусались, а некоторые особи пугали своей величиной, мне нравилось, когда бабушка или тётка клали мою голову себе на колено и за долгой мирной беседой швырялись в моих джунглевых волосах мягкими пальцами – и блаженен был миг, когда свербяще запульсировавшая было боль от свежего укуса с чувством снималась широким заботливым ногтём. Мне и самой приходилось вылавливать этих хищников из джунглей волос двоюродной сестры. Ни одна, даже самая шустренькая вошка, не могла скрыться от моего острого охотничьего взгляда. Но всё же постричься наголо было для нас большим облегчением.
Руки и ноги наши были постоянно усыпаны «цЫпками» — так называлась одубевшая от сети мелких царапинок (как цыплячьи следы – потому и «цыпки») кожа. Когда мы лечили эти «цыпки», опуская в таз с разведённой в воде марганцовкой ладошки и ступни, саднило очень больно.
Деревенские взрослые днём были на тракторах и фермах, с ребятнёй возились старики. Мои родители были далеко: отца-военного переводили с одного места службы на другое, а мать еле успевала перевозить за ним пятерых детей и весь наш скарб. Вот и отправляла нас на лето в среднерусскую деревню к своим старикам-родителям. Других бабушку и дедушку мы не знали: папины родители когда-то учительствовали на Алтае, умерли рано.
Но и самим деревенским старикам ещё приходилось работать. У бабыньки и дединьки были две коровы – старая Зорька и молодая Вечёрка – и несколько овец. По очереди жители деревни пасли в степи общее стадо, не колхозное, а деревенское, частное. Однажды дед взял меня на пастбище на долгий летний день. Негде было укрыться в степи от нещадного солнца. Воздух был дымчатым от зноя и вибрировал. Голова моя безостановочно звенела, словно находилась внутри огромного перпетуум-колокола. Это было суровое испытание для малокровной городской девчонки. Я весь день млела и вянула, пока на моих глазах белое солнце не прошло свой долгий путь от одного края неба до другого. А дедушка бегал за скотиной старческими припрыжками и щёлкал длинным витым кнутом. Кажется, я тогда заболела и лежала в жару несколько дней.
Никогда не забуду вкусную деревенскую еду. Картошка в чугунке из печи, на молоке с подгоревшими пенками, с хрустящей подрумяненной ребристой корочкой сверху… Хлеб бабынька пекла сначала сама, в чёрной внутри и чисто белёной снаружи печи, был он круглый и вкусный. Потом уже стали носить из магазина «кирпичики». Молоко тёплое, прямо из-под сепаратора, стоящего в сенях, мне не нравилось: уж очень пахло животом коровы. Но каждое утро нам, только что проснувшимся детям, давали по высокой кружке холодного, только из погреба, молока, а я непременно просила размешать в нём две ложки сахара – и вкусней не было ничего на свете! Картошка, хлеб да молоко, да ещё кисель и чай из самовара – это была почти вся наша еда, и была она нам вкусна. Иногда в деревенский магазинчик, где в одной половине размещались продукты, в другой – промтовары, привозили селёдку – и вся деревня становилась в очередь за редким лакомством. Сахар был комовой, дедушка большими щипцами его разламывал и давал нам как гостинец. И соль была комовая. Мы с наслаждением лизали языками эти большущие кусищи, еле умещавшиеся в наших детских пальцах.
В чулане всегда стоял широкий и высокий сундук, покрытый стареньким одеялом. В знойный день в сумраке и прохладе чулана так сладко спалось на этом сундуке! И даже бесконечное зудение какой-нибудь большой зелёной мухи, бьющейся и бьющейся между стеклом и задёрнутой полотняной шторкой чуланного оконца, не мешал сладкому сну, а только ещё больше убаюкивал.
Была ещё пОдловка (так в деревне называли чердак), куда надо было забираться по узким перекладинам высокой лестницы. Там дедушка сушил травы. Они висели, перевязанные снопиками, вниз головой и печально раскачивались. Там мы любили рассказывать друг другу страшные истории, пугливо оглядываясь на дальние тёмные углы подловки.
Позади избы тянулся длинный огород, он спускался по склону к речушке, и здесь, на бережку, стояла семейная деревянная банька. По пятницам в ней мылись мужчины, а по субботам – женщины семьи. Два дня топилась баня. Даже я, от горшка два вершка, не выдерживала стоя горячий банный воздух, присаживалась ближе к полу, где легче дышалось. Воду из больших деревянных кадушек в металлических обручах-поясках доставали жестяным черпаком, из одной кадушки – кипяток, из другой – холодную воду. Как приятно было одеваться в предбаннике: он был открытый, на воздухе: вокруг толстой деревянной двери в баню полукругом ставился небольшой плетень и скамеечка внутри, на скамеечке стояла корзина с чистым бельём. Как пахло оно, выутюженное прямо к бане, только что из-под тяжёлого чугунного, с яркими угольками внутри, видными в клинообразные отверстия, утюга! Казалось, ткань насквозь была пропитана чистотой и свежестью. Растомлённые, в белых платочках на головах, мы бежали после бани в избу, рано и быстро засыпали. Я всё время думала: каким же длинным был, наверное, банный день для семьи Зининых – у них было одиннадцать детей…
Вдоль деревенской улицы в пыли дороги стояли седые деревянные столбы. Они держали провода. Я любила прижаться ухом к столбу и стоять так долго-долго, слушая музыку внутри них. Это была одна высокая, бесконечная и напряжённая нота, таинственная и тревожная, завораживающая. Вокруг этой одной постоянной ноты вилисьь и другие звуки: словно слышалось завывание метели – то ли полярной, то ли космической, где-то глубоко-глубоко в омуте звука неистовствовали вихри. И душа, и глаза словно углублялись в эту музыку, а всё вокруг казалось нереальным, каким-то вторым планом: далёкая степь, взметённая пыль дороги. Как воспоминание…
В церковный праздник в начале мая вся деревня ходила к далёкому ключу с иконой, там молились и набирали святую воду из ключа. Жаль: меня, как малую, не брали с собой.
Мужики в широких и длинных, до колен, чёрных трусах, ходили с бреднем по реке: рыбы было много в более глубоких местах. А мы, дети, ловили на мелководье пескарей квадратными металлическими сетками с загнутыми краями, привязанными с четырёх углов к длинному древку. В центре сетки проволокой приматывался хлеб, на который и приманивались пескари. Бабынька не чистя клала всю эту пескариную мелочь на сковородку и жарила на маслице, присолив, конечно. Вкуснотища!
Не забыть деревенскую грозу. Вздрагивать и обмирать, когда она гремит за окнами — одно. Но однажды мы попали под грозу в степи. У нас уже был велосипед – большой, взрослый – один на всех. Кто-то из старших крутил педали, я и ещё двое прицепились кто на багажнике, кто на руле, ещё один из нас бежал по очереди следом. Мы ехали в соседнее село за семь километров. Хорошо помню: небо хмурилось, когда мы выезжали за околицу, и нам было тревожно — но всё же отправились. За околицей стояла ветла – единственное дерево на много вёрст вокруг, дальше – степь да степь. Мы ехали по просёлочной дороге. Ещё была видна позади ветла, как всё стемнело в один миг – и пошёл проливной. Сразу мы промокли, и зубы затряслись от озноба. Чёрное небо, казалось, прижимается к земле, молнии словно чьей-то рукой с силой метались сверху, из пространства по-над низким чёрным небом, они с шипением вонзались остриями в землю то справа, то слева от нас, даже дымок шёл оттуда. Это были извивающиеся раскалённые металлические ленты – так мне казалось. Со страху мы, двое маленьких, залезли под брошенный на дороге велосипед. Куда, в какие щели забились остальные – не знаю. Только услышала крик: «Дураки, молнии к железу притягиваются!». Вмиг мы отскочили – и тут же очередная молния-стрела с шипением ударилась в землю между педалями лежащего велосипеда. Гроза длилась долго. Перепуганные, после неё мы возвращались по грязи раскисшей дороги пешком к Воецкому, а впереди, словно факел, горела ветла. Шипящий звук летящих с неба раскалённых металлических лент до сих пор в моих ушах…
Мать рассказывала мне, что в деревне два раза случалась со мной «младенческая»: вдруг я вся становилась красная и начинала задыхаться. Бабушка выгоняла всех прочь и запиралась со мной в избе. Никто не знал, что она там делает: молитвы читает или ещё что. Но я оба раза выжила, причём всё бесследно проходило после бабушкиных «запираний». Что это была за «младенческая» и как её лечила бабушка? Жаль, что не передано это знание по наследству. Сколько их, драгоценных, ушло с нашими дедами! Великая коллекция добротных знаний, умений, навыков, традиций, которые были бы нашими верными помощниками в жизни, наполовину, если не больше, пуста, утеряна…
Я не провожала в последний путь свою бабыньку Анну Степановну: в это время я училась в геологоразведочном техникуме в Саратове – и родня решила не «сдёргивать» меня с учёбы, сообщили позднее о прошедших похоронах. А вот у гроба дединьки Никифора Петровича я стояла. Пшеничные усы его по-прежнему бойко торчали в разные стороны. Из гроба высовывались большие голые ступни, очень чистые, белые, неестественные, словно вырезанные из слоновой кости. Когда начали выть плакальщицы, мне стало дурно – и я выбежала вон. Старики оба прожили по 90 лет. Если моя мама с 1917 года рождения, значит, бабынька и дединька пожили ещё и до революции, повидали многое. По рассказам мамы, они были крепкими хозяевами на земле, много трудились, а после революции их «раскулачили», оставив на голодную смерть их многочисленных детей. Пятеро детей всё-таки выжили, выросли три дочки и два сыночка: Маруся, Клава, Зина и Гена с Ваней. Старшего брата Геннадия моя мама звала «брАткой», а старшую сестру Марусю – «няней». Такова была традиция. Первенцам в деревне всегда доставалась большая работа: они помогали матери поднимать и воспитывать последующих детей. Это была хорошая традиция русской деревенской семьи. Из этих малолетних «нянь» вырастали стойкие, энергичные женщины, для которых не существовало безвыходных положений: они умели всё. Такой выросла и моя старшая сестра Галина.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.