Редакционный портфель № 13. Памяти Поэта. Маргарита Мыслякова
Стихами Маргариты Мысляковой со мной пару недель назад поделился её старинный друг, замечательный поэт Марк Шехтман. Я был потрясён чистотой и силой этой поэзии, автор которой несомненно обладал огромным талантом, потрясающей внутренней цельностью текстов, изумительным русским языком. Увы, в начале февраля сего года земная жизнь Маргариты Мысляковой прервалась… Отдавая дань светлой памяти человеку и поэту, мы публикуем сегодня подборку стихов, которую вместе с небольшим вступительным словом подготовил для нашей рубрики Марк Борисович.
«В начале февраля я получил сообщение о смерти Маргариты Мысляковой, прекрасной, может быть, гениальной поэтессы. Для меня это горчайшая весть. С Ритой меня связывали давнее знакомство и многолетняя дружба, начавшиеся когда-то в столице Таджикистана Душанбе.

В Азию Рита, родившаяся в Запорожье, приехала в конце 80-х годов с молодым мужем Сергеем Мысляковым, с которым они вместе закончили филфак МГУ. Оба, по отзывам знающих людей, были многообещающими филологами. Обоих немедленно пригласили на работу кафедры разных ВУЗов, но мало кто тогда в городе знал, что в Душанбе приехала не просто способная молодая преподавательница литературы, а ещё недавно самая юная в СССР обладательница членского билета Союза писателей. Стихотворений Риты Мысляковой уже тогда отличали чёткость мысли, страстность и прямота, свойственные традициям русской классики:
Как хочется соли! Я чувствую: вот, началось –
как хочется соли! Насыпать её между строчек!
Лизать всей душою, глодать, как израненный лось,
припрятанный в кухне бесформенный белый комочек!
Разбить, истолочь и столовою ложкою в рот
отправить крупицы! Что может быть лучше и чище?
Врут масло и сахар. Лишь соль никогда не соврёт -
глубокая истина всей человеческой пищи!
С Ритой мы работали в разных ВУЗах. Одна моя знакомая, заведовавшая кафедрой в этом институте, как-то рассказала мне о новой ассистентке, которая не только замечательно образована, но и пишет чудесные стихи… Но мало ли таких – молодых и пишущих?! Однажды – это было, вероятно, спустя год-полтора после приезда Риты в Душанбе, – подборку её стихов опубликовал журнал «Памир». Как ни удивительно это для многих прозвучит, но попасть в поэтический раздел провинциального, казалось бы, журнала было очень престижно. Им руководила прекрасная поэтесса и знаток литературы Марианна Фофанова, не склонная ни к каким компромиссам и экивокам, если речь шла о поэзии.
В астрономически огромном количестве всех написанных стихотворений лишь очень и очень немногие тексты отличаются отсутствием любых недостатков. Они идеальны с точки зрения идеи, сюжета, архитектоники, целостности исполнения, развития и завершения конфликта, лексического и фонического отбора и даже авторской пунктуации. Таких стихов относительно немного даже у великих поэтов. В «памирской» подборке Риты Мысляковой идеальными мне казались ВСЕ стихотворения. Я расспросил общих знакомых об авторе, нас познакомили. Рита была не только талантлива, но и умна, наблюдательна, непосредственна, а иногда упряма и капризна, что, впрочем, было нормальным и даже естественным в поведении молодой и красивой женщины. Удивительно, что при всей близости её стиля к русской классике, её любимыми поэтами были немцы Гёте и Гейне. С течением времени она даже пожелала, чтобы друзья звали её не Маргарита и не Рита, а Гретхен и даже просто Грета!
Писала Рита много, охотно показывала мне новые стихи, но почему-то никогда не говорила о том, как она работает над ними или как шла к той или иной теме. Предметами её стихов были самые разные события и вещи, но судила она обо всём с позиций человека глубоко религиозного. Даже ирония и эпатаж у Риты, не теряя своих специфик, имеют «человеческое лицо» – и это лицо всегда обращено к Богу. Его и только Его поэтесса ощущает водителем мира, властителем судеб, в том числе, и своей творческой судьбы:
Лжецы произошли от обезьян.
Есть в каждом одиночестве изъян –
скрывать себя в потугах лицедейства.
Я плачу, я пытаюсь разобрать,
что затевают ручка и тетрадь...
Весь гений – Твой, мое – одно злодейство.
После 90-го года Рита вернулась в Запорожье. Мы переписывались сначала по почте, потом уже по почте электронной, оказались на одних поэтических сайтах России: стихи.ру, поэзия.ру. В 2009 году вышел сборник «Мольба», и Рита прислала мне его. Сборник получился небольшим, но удивительно гармоничным, глубоким и похожим на монолог, который разбит на отдельные стихотворения. Я написал это предложение и подумал, что именно слово «монолог» как никакое другое удивительно подходит для определения специфики творчества Риты. В её стихах – по крайней мере, мне так кажется, – нет различия между поэтессой и лирической героиней. Всё, что написано Ритой, написано от первого лица, без попыток сочинить некую иную реальность, высказаться от имени кого-то или чего-то. Перед читателем прямая речь, внешне простая и безыскусная, но превращающая в поэзию всё, что становится её предметом.
Постепенно наш контакт становился всё у́же и ограниченней. Я предполагаю, что Рита опасалась слишком откровенно высказывать по важным политическим и общественным проблемам, так как все на Украине были осведомлены о контроле властей над Сетью. Но я знаю точно, что Рита, родившаяся на Украине, прекрасно знавшая украинский язык и украинскую литературу, всегда и однозначно считала себя русским поэтом. Она не только говорила мне об этом – она об этом писала, и во многих стихах появлялись мотивы, которые афористически оформились в стихотворении «Лингвистическое»:
Язык – это звонкое зеркало наций.
Мне сладко, когда он является русским!
Понемногу наше общение свелось лишь исключительно к откликам на стихи, размещённые на поэтических сайтах. Но и этого хватало для понимания, что никакого спада в поэзии Риты не происходило. Людмила Некрасовская, сообщившая мне о смерти Риты, на все мои вопросы ответила скупо: близкие были с Ритой «до последнего дня», а ещё, что «… у нее недавно новая книжка вышла. Она радовалась, что есть материал на еще одну».
И последнее… Было в Рите что-то от святой. Её вера в Бога представляется мне сложной, с вопросами и противоречиями, но безусловной и страстной. Однажды она написала мне, что с одним из её родственников большая беда, что спасти его может только чудо, и попросила поставить свечку во здравие его в иерусалимском Соборе Святой Троицы. Я, конечно, выполнил эту просьбу и сообщил об этом Рите. А через два месяца она позвонила и сказала, что всё хорошо. И мне кажется, что чудо произошло не потому, что в Соборе была зажжена свечка, а потому, что Рита верила в чудо и хотела чуда. Но сказано: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас»...
Риты Мысляковой больше нет. Земля ей пухом. Мир праху её. И долгой жизни её стихам.»
Маргарита Мыслякова
ЖЕЛАНИЕ
Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу,
чем сделаешь её солёною?
Мф.5;13
Как хочется соли! Я чувствую: вот, началось -
как хочется соли! Насыпать её между строчек!
Лизать всей душою, глодать, как израненный лось,
припрятанный в кухне бесформенный белый комочек!
Разбить, истолочь и столовою ложкою в рот
отправить крупицы! Что может быть лучше и чище?
Врут масло и сахар. Лишь соль никогда не соврёт -
глубокая истина всей человеческой пищи.
Я вновь обретаюсь среди межеумков и сонь.
Как хочется соли! Наскучило жить по уставу.
Ведь даже у звуков есть нота по имени «соль»,
поющая вкусно, собою приправив октаву.
Начать все сначала и в воду упрятать концы.
Но как обойтись с достиженьем покоя и воли?!
С лукавой улыбкой глядят на меня мудрецы.
Смиряюсь. Мужаюсь. О Боже, как хочется соли!
ЕДИНСТВЕННОМУ БОГУ
Осталась без любви моя душа,
как будто грифель без карандаша.
Для забытья изыскивая повод,
порой не я, а некий истукан
к губам подносит ложку и стакан, –
но знает Ио, кем ей послан овод.
В наш черный век легко сказать о том,
что жизнь – фонтан, похожий на фантом,-
встревожить смысл, не понимая смысла.
Бессмертье – здесь, но, как им ни владей,
а нужно жить с оглядкой на людей,
писать их буквы, складывать их числа.
Лжецы произошли от обезьян.
Есть в каждом одиночестве изъян –
скрывать себя в потугах лицедейства.
Я плачу, я пытаюсь разобрать,
что затевают ручка и тетрадь...
Весь гений – Твой, мое – одно злодейство.
СПОРНЫЕ СТРОФЫ
Духовным климаксом терзаясь, озвучу маленькую мысль:
бывает плодотворной зависть, когда в ней есть стремленье ввысь.
И в час, когда с усильем лущим познанья каменный орех,
порою хочется быть лучшим. Но неужели лучше всех?!
Приятно стать одним из первых, минуя выспренность преград,
когда лишь Бог – тебе соперник, хоть Он не может проиграть.
«О, как убийственно мы любим!» – согласна я и потому
завидую весёлым людям и их свободному уму.
Прилежно веруя пометам руки Господней на судьбе,
я не завидую поэтам, а значит, и самой себе.
Мне не понять, чего во имя хотят вам строфы подарить
их души, полные, как вымя, которое пора доить.
Не стоит нынче ни полушки рифмовка классная моя.
Поэты – это безделушки на пыльной тумбе бытия...
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ
Слова поэтичные: иволга, ива
лелеют мой слух неслучайным созвучьем.
Язык – это праздник, язык – это диво,
и дан как награда он людям певучим.
В стихах, да и в прозе, согласно с моментом,
бывает он звёздным и солнечно-лунным.
Хотелось бы сделать его инструментом,
похожим на лиру звучанием струнным.
Язык плодовитостью доброй отмечен,
богат именами предметов и действий.
Как он безначален, как он бесконечен!
Как благостно Господу в чём-то тождествен!
А вдруг в лингвистическом ярусе горнем
в родстве проживают арба и арбузы?
Язык – собиратель, он нижет на корни
приставок и суффиксов яркие бусы.
Как сходны в основах, нельзя не признаться,
мольберт и мольба, молоко и моллюски!
Язык – это звонкое зеркало наций.
Мне сладко, когда он является русским.
СКАЖИ, ГОСПОДЬ...
Иона
Сочиняю для тех, кто пытает: «За что Вам
эти грубые муки?» – «Затем, что так надо».
О, как страшно Ионе во чреве китовом!
Ад, наверно, добрей, чем подобие ада.
Хорошо, пусть представится взгляду профанов,
неохотно внимающих высшим идеям,
черный дьявол из полчища левиафанов,
что плывет с заточенным внутри иудеем.
Здесь один только вход, и отсутствует выход,
а зубов у кита – что числа в миллионе!
Пессимист ошибется и сделает вывод…
Замолчим на минуту. Как страшно Ионе!
Я сама, как и он: и в поту, и в крови я.
Вместо просьб о любви – к небу дым папиросы.
Да и где же свобода, коль ждет Ниневия?!
Как у Блока: «Вопросы, вопросы, вопросы…»
Миром правит какой-нибудь дон Корлеоне –
для иных он Господь, – ну и пусть себе правит.
Я твержу об одном лишь: как страшно Ионе!
Видно, это и есть мой неродственный прадед.
И высокое чудо – морозом по коже,
самым вечным огнем, обжигающим душу, –
чтоб однажды воскликнуть: «Хвала Тебе, Боже!»,
как подумал Иона, упавши на сушу.
Скажи, Господь, внимающий всегда
словам людским с наклоном головы:
куда потом исчезла та звезда,
что на востоке видели волхвы?
Зачем-то ни мышленье, ни чутьё
мне не даёт ответа на вопрос.
Похоже, что пропажею её
никто не озаботился всерьёз.
Как прежде, не спешит угрюмый мир
вручить Христу правления бразды.
Сияют нам Алькор и Альтаир,
но больше нет рождественской звезды.
И всё-таки я жду, вдохновлена
сулящим Рождество календарём,
что будет снова брошена она
в ночного неба мягкий чернозём,
как семя неизвестного цветка,
чьей тихой тайны Кеплер не раскрыл.
Ответит снегом-бледностью щека
на белый звук архангеловых крыл.
Я в эту ночь внезапно замолчу,
поскольку дух мой сложностью влеком.
И мне, заблудшей, чудо скажет: «Чу!»
простого междометья языком.
* * *
Нет у души никаких новостей —
разве что выглядеть стала дебело.
Боже, верни мне все стрелы страстей,
ибо молитва моя ослабела.
Ныне отменно спокоен мой вид,
лоб демонстрирует гладкость надгробья.
Уж ни тщеславье меня не язвит,
ни сребролюбье, ни памятозлобье.
Краше душа, чем индийский павлин,
но не наполнилась светом светлица.
Выползла скука, родившая сплин.
Не о чем, не о чем больше молиться!
Плохо. Мне надобно в ходе мольбы
помощь у Господа черпать горстями.
Только о силах просить — для борьбы
с искровенившими сердце страстями.
* * *
Дотошность неуёмная моя
всё норовит просачиваться в стих.
Шепчу слова «полынь» и «полынья».
В уме вопрос: что общего у них?
Боль любопытства слишком велика,
вползая в мой духовный окоём,
ведь я — преподаватель языка
и слишком много думаю о нём.
Язык бессмертен! С гибелью Земли
сокровища его не пропадут,
ведь к нам слова из Вечности пришли
и в Вечность обязательно уйдут.
Сомненья — прочь! Я знаю наперед,
что выплывет словесный наш ковчег
и то, что Бог — великий полиглот:
он с немцем — немец, с чехом — тоже чех.
Как всеохватен Тот, Чья суть свята!
И не случайно ведаю в тоске:
мне светит после смерти немота —
и Страшный Суд на русском языке.
* * *
Читаю молитву обычным манером,
но как бы понять я её ни хотела,
жильё моё с чисто мирским интерьером
меня отвлекает от важного дела.
Препятствия к свету — заборов похлеще.
Все помыслы что-то мои безобразны.
Глаза натыкаются только на вещи,
как черви в плодах возникают соблазны.
Но могут и горы с лесами густыми
для бегства от мира явиться предлогом.
Как страстно я всё же взыскую пустыни!
Лишь там нет помех для общения с Богом.
* * *
Шопен и Шопенгауэр во мне
давно сосуществуют как родные.
Философ воли, правящей вовне,
пред коей мы лишь куклы заводные,
как ты обжил души моей места!
И мысль о Боге — нет, не утешает.
Мне не присуща веры чистота.
Угрюмый Шопенгауэр мешает.
Не всуе довелось его прочесть —
в нём целый мир, хоть горько, а не сладко
листать страницы, на которых есть
о Провиденьи мрачная догадка.
Но вдруг душа запросится к врачу,
ведь ей нужна большая перемена.
Философа любить не захочу.
Мне б слушать вновь весенний вальс Шопена!
Как сердцу эта музыка ясна,
и на неё оно имеет право!
На свете есть лишь радость и весна.
Как беден тот, кто мудрствует лукаво!
Но слишком рано дух во мне запел
от эйфории нот благополучных.
Ах, боги Шопенгауэр, Шопен,
ах, поэтичность двух имён созвучных!
Юла
Памяти моей бабушки
Анны Юрченко
На ножке, отточенной, будто игла,
блестя фиолетово, жёлто и ало,
вертелась, вертелась, вертелась юла,
потом обессиленно набок упала.
А рядом старушка, следя за игрой
балованных внуков, прижалась к подушке
и вдруг зарыдала, поскольку юлой
явилась вся жизнь одряхлевшей старушки.
Заботы, заботы, круженье забот,
кастрюли да стирка с уборкою комнат,
работа в колхозе… Коль Бог призовёт,
в минуту последнюю нечего вспомнить.
И всё-таки думаю я иногда,
прочувствовав сердцем житейские ритмы,
что тот, кто рождён для простого труда,
полезнее многих, рождённых для рифмы.
Собою доволен любой грамотей,
в миру сочинивший хоть пару куплетов,
но как хорошо, что рабочих людей
заведомо больше, чем гордых поэтов!
Смысл жизни не добрый, но всё ж и не злой,
он просто нейтральный — вот верный аналог:
пока есть возможность, вертеться юлой,
а после упасть обессиленно набок.
Стихи об одной прогулке
Запуская руку в лохматые кудри,
весь в тумане, как будто в сахарной пудре,
ты идешь по нехоженнейшей из троп.
И, щекой прикасаясь к сосновой хвое,
будто к грубой ткани, сложенной вдвое,
ощущаешь в теле легкий озноб.
Отрешаясь от купли, а с нею – продажи,
призываешь себя не грустить о пропаже
иллюзорной славы, сброшенной с плеч.
В предвкушеньи костра собираешь хворост.
Пляшут белки. И твой безразличен возраст
комариному клану: не мир, но меч.
Хорошо углубиться в чащу лесную
с ведьмой ошуюю, с лешими одесную
без обычной спешки и лишних слов.
Где от разума нет никакого проку
и от легкого страха ты равен Богу
в сотворении чуда и вещих снов.
Темнота. Но в тяжёлых верхушках сосен
капли света мелькают подобьем блёсен,
вызывают образ морского дна.
Ты стоишь на дне, и всплыть не возможней,
чем вернуться в детство. Лесной таможней
не допущен вверх – высока цена.
Лишь тяжёлый ствол векового кедра
пробивает высь, как бурильщик недра.
У деревьев – особенная из планид:
раздвигать пространство зелёной грудью,
прилипать к земле воспалённой ртутью.
Вся живая: дотрагиваешься – саднит.
Для деревьев все мы лишь эмигранты.
Прожигатели дней. Капитаны Гранты
в ожиданьи таинственных берегов.
Отставные лорды. Смешные леди. –
А у них всё просто, как буки-веди:
ни лукавых друзей, ни добрых врагов.
Если сверить фразу «все люди братья»
в отношеньи деревьев, то их объятья
бескорыстней и чище во много раз
опалённых думами человечьих,
оснащённых слухом, дыханьем, речью,
вожделеньем пола, различьем рас.
Потому, уходя из сосновой чащи,
ощущаешь силу и дышишь чаще
от соседства трав и смолистой коры.
Чтоб в ночной глуши под грудною клеткой
сердце вздрагивало наклонившейся веткой…
Жаль: до времени, до поры.
Роман
Многие рвутся к любовному плену,
но лишь один доживает до свадьбы.
Кафке не хочется видеть Милену.
Только писать бы ей, только писать бы!
Бред иль ошибка надежды высокой?!
Нет, посложнее. Над крышами Праги
выросла готика строгой осокой.
Гений рассудка, маратель бумаги,
там он и бродит. Мечты сокровенны.
(Страсть, от которой стошнило бы Сартра).
Нужен всего-то конвертик из Вены,
жадность «сегодня», поправшего «завтра».
Будет всё так, как написано в Торе:
жизнь – суета, и не к месту мученья.
К черту Милену! Женитьба на Доре*
даст наконец-то покой отреченья.
Глупый вопрос: каково же Милене,
столь белолицей, такой чернобровой?
Кафка молчит. А Милене до фени:
разум здоровый, характер суровый.
Ах, happy end! Расставанье без крови.
Оба забыли в разлуке беспечной
страшный закон: настоящей любови
стоит не сбыться, чтоб сделаться вечной…
*Дора Димант – женщина, которая на-
ходилась рядом с Кафкой в последний
год его жизни.
Критикам Ахматовой
Теперь стало модным искать виноватого,
и деготь настойчиво с медом мешается.
Вопрос: хорошо ли писала Ахматова? —
на высшем совете сегодня решается.
Свободно и яростно сделалось в мире как!
Сам Бог предстает в освещеньи комическом.
Нужна ли сейчас ее женская лирика,
к тому ж сотворенная в малом количестве?!
Почто мы признали фигурою знаковой
ее, лишь владелицу имиджа броского?!
Здесь нет, хоть убей, глубины Пастернаковой
иль бьющей в глаза гениальности Бродского.
Акулы пера с современной закалкою
заблудших умов занимаются чисткою:
она, мол, ребята, была приживалкою,
плохою хозяйкой, большой эгоисткою.
И я себя чувствую полною дурою,
простою овчинкой, не стоящей выделки.
Ну как я посмела гордиться культурою,
которая вся только сказки да выдумки?!
Взяла б да прислушалась к мнению пошлому,
но вижу одно: как рукой загребущею
нехватка любви к беззащитному прошлому
и режет, и колет, и душит грядущее.
Вторжение в сказку
Жестокая рыбка, хоть и — золотая!
Ну что тебе стоит потрафить старухе:
готовя ей завтрак и дом подметая,
вариться в душевной ее заварухе?!
Капризна бабуся: преставится скоро.
А ты ведь из золота, вечная рыбка!
Но, чтобы пребыть госпожой разговора,
ведешь себя плохо — по правилам рынка.
Тягаться-то есть с кем? С убогой старушкой?
Желанья ее — уж такие мирские!..
Иди же к ней, рыбка, и будь ей игрушкой,
чтоб лучше понять все причуды людские.
Навстречу прошлому
Я, кажется, схожу с ума, но
весь этот свет над старой Пресней,
как доктор Фаустус у Манна,
причина собственных болезней.
Январь. Ушанки, В полшестого —
домой, как лебедь на Непрядву.
И Воскресение Христово
опять похоже на неправду,
на сон, где глухо и степенно,
с незамутненными очами,
тоскует музыка Шопена,
от жизни смерть не отличая.
И, отгораживаясь небом
от пыльных далей в пол-оконца,
где варят суп и пахнет нэпом
в карманах скучного торговца,
я отступаю. Я теряю
людей. Безмолвна и безуста,
надсадно хлопаю дверями
пред желтой статуей безумства.
Я помню чудное мгновенье.
Но эта память неуместна,
и я блуждаю по Вселенной
несходством времени и места,
не соблазняясь разговором
о пользе счастья и ночлега,
навстречу прошлому, в котором
нет ничего, помимо снега.
Дифирамб рынку
Отважно пирует наш век-Валтасар.
Пускай он невежда, пускай он язычник, —
да полно! Смеется воскресный базар,
красив, как цыган, и силен, как опричник.
Так новенький дом призывает жильца
в заветных владеньях его поселиться.
Тут паста зубная и крем для лица
мечтают найти свои зубы и лица.
Такая вот шутка. Но я здесь своя.
Стою, не стяжая особой приметы,
глазами вбирая тот пласт бытия,
где цену имеем не мы, а предметы.
Здесь царствует некто, а может, никто.
Люблю тебя, вещь, как паломник Каабу!
Приятель мне руки вдевает в пальто —
простое, размером на скифскую бабу.
Но торг неуместен! Так старый вассал
с младым сюзереном ведет поединок.
Неправ был тот гений, который сказал,
что мир весь -театр. Весь мир — это рынок.
Долгая жизнь
Всегда у поэтов труды нелегки,
хоть многим и кажутся просто игрой.
Глубокое таинство первой строки
скрывает в себе закавыку второй.
Когда же слова зазвучат в унисон,
заплещет форель неожиданных рифм,
поймешь, что за ветром ты вдруг унесен
в большой океан, где наткнешься на риф
сплошной несвободы, поскольку стихи
уже без тебя управляют тобой, —
хоть соком гордыни за них истеки,
хоть волком лесным от бездарности вой.
Да будет оправдан любой графоман,
чьи слабые строки иным ни к чему!
Он тоже немножечко слова гурман,
и творчества муки не чужды ему.
Поэзия — дом для духовных бомжей.
Не зря на земле возрастает число
ее колдунов и ее ворожей.
Она — луноход, и она — НЛО.
Затворник, по сути, в ней каждый творец,
решившийся слово свое произнесть.
Тот хижину строит, а этот — дворец,
но каждому место под солнышком есть.
И «физики» зря наседают гурьбой.
Сколь практику лирик нулем ни кажись,
не сможет Эвтерпа покончить с собой,
когда ей обещана долгая жизнь.
Афродита
На талант не ссылайся, душою своей не криви,
ты не знаешь, поэт, подоплеки высокого дара.
Настоящая муза обычно поет от любви —
лишь об этом вещает твоя золотая гитара.
Не спала сто ночей, пролистав мифологий тома,
но не смейся, мой друг, с укоризной такой не гляди ты.
Я до нашей разлуки не ведала даже сама,
что над лирой моей — неизменная власть Афродиты.
Было б денег побольше — снимала бы видеоклип
о ее бытии, чтобы всем нам поведать в итоге,
как совместно с Эротом восходит она на Олимп
и ее красоте поклоняются шумные боги.
Повторяю сей миф, как настойчивый древний аэд,
подпирающий мир неземными плечами атланта,
и зову Гимерота… Ах, нет, ты не знаешь, поэт,
что любое бесстрастье чревато пропажей таланта.
Снова в небе журавль и почти что исчез вдалеке.
С дисгармонией сфер ощущаю свою идентичность.
Но когда остается одна лишь синица в руке,
то унылому духу на смену приходит античность.
И любовь воскресает. Рождается заново, чтоб
повториться на чудной, еще не известной основе.
Ты целуешь меня в изможденный от знания лоб,
и царит Афродита. И нам все как будто бы внове.
* * *
… А Библия, в сущности, грустная книга,
жестокая даже — и всё же приятно
попасть под её безусловное иго,
в бездонности веры пропасть безвозвратно.
Здесь смыслы сакральны, речения резки,
то холодом веют, то огненным жаром.
И низость, и пошлость для Библии мерзки! —
таков уж канон Высочайшего Жанра.
Она не боится, что, в ней разуверясь,
я что-то порою промямлю некстати,
и ей не страшны мои резвость и ересь,
ведь я её самый прилежный читатель.
Пусть света конец, нашу грешность итожа,
положит предел человеку и зверю.
Но, значит, исчезнет и Библия тоже?!
Не знаю. И знать не хочу! И не верю...
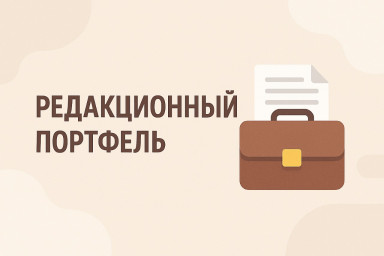
В первый же день публикации я прочла всё скопом и в голове случилось подобие восторженной неразберихи. Потом спокойно, частями прочла всю подборку. И создалось чёткое ощущение, что Автор прожил, пропустил через себя каждую строчку. Наверное, так и должно быть у любого писателя.
p.s. Понравился профиль Маргариты на фото.
От выпуска к выпуску подборки становятся всё глубже, весомее, я бы даже сказала — профессиональнее.
Стихи Маргариты Мысляковой — очередное откровение. Их надо медленно перечитывать, смаковать, проникать в глубинный смысл каждой строки, каждого образа. Главное — они отзываются и долго дрожат где-то внутри тебя, как невидимый камертон. И безумно жаль, что мы узнали об этом поэте так поздно...
Чтоб в ночной глуши под грудною клеткой
сердце вздрагивало наклонившейся веткой…
Жаль: до времени, до поры.
Красив как опричник — представила себе Кирибеевича.
* и оговорка по Фрейду: ведь у Маргариты был "силён как опричник". Виноват, естественно, Кирибеевич.