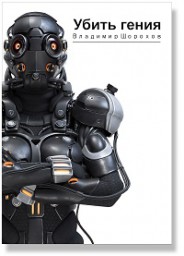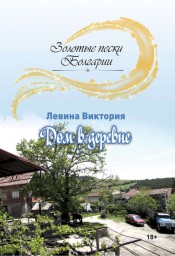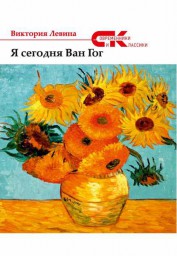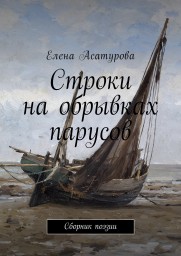Терновый крест (отрывок)
Часть первая Эпоха и судьбы
Величава, могущественна Россия, бескрайни границы ее империи. Богаты и плодородны земли. И казалось бы, живи да радуйся во славу, народ. Но крепостное право раскололо ее мир, разделив его на два враждебных лагеря. Тяжелые унизительные условия доводили до отчаянья крестьян. Нищета и слезы наполняли чашу народного гнева. То и дело вспыхивали кровавые стычки, пылали барские усадьбы. Царская власть не церемонилась с мятежниками, жестоко покоряя их силой. Российские суды неустанно выносили суровые приговоры мятежникам. Сразу же за Уральским хребтом раскинулась матушка Сибирь. Именно она стала местом наказания непокорных. Через Тобольск днем и ночью тысячи каторжан шли по этапу, умирая от простуды и болезней. Весь Сибирский тракт был усеян людскими костями. Так в 1697-м году «боярский сын» Петр Мелешкин повел из Тобольска в Нерчинск этап ссыльных в числе шестьсот двадцати четырех душ, но к месту назначения пришли только четыреста три человека. Из двух тысяч пятьсот арестантов, отправленных из Соликамска опять же в Нерчинск, за семь недель этапа умерло от голода и болезней пятьсот семнадцать ссыльных. Либеральные реформы царя Александра II оборачиваются еще более резким всплеском численности ссыльных в Сибирь – около трехсот тысяч человек за период с 1862 по 1881 годы, то есть около пятнадцати тысяч в год. Доставкой колодников в Сибирь ведал Сибирский, а затем Сыскной приказ. В 1812-м году на том месте, где сливаются Иртыш и Ульба, посланец царя Петра I майор Иван Лихарев заложил Усть-Каменогорскую крепость. Названа она была так потому, что в этом месте Иртыш как бы вырывается из объятья каменных гор и гонит дальше свои воды по равнине – спокойно и величаво. Но вырывались здесь и вольно текли лишь сибирские воды, безжалостна была судьба узников этой крепости, немногим из них удалось выйти на свободу. В 1823 г. здесь для военнослужащих, осужденных на каторжные работы, отстроили особое Усть-Каменогорское военно-каторжное отделение. Невиданной жестокостью прославился этот острог. Невыносимые условия и тяжелый труд на каменоломнях сводил заключенных с ума, превращал их в зверей, заставляя бежать.
Беглец
Морозной стояла зима 1864-го года на Алтае. Но с февраля потеплело, и задули метели. Серой мглой затянуло небо. Вот уж вторую неделю по Змеиногорскому уезду бушевал снег. Его белые хлопья тяжелыми шапками ложились на вековые соны, с треском обламывая их промерзшие сучья. Голодный волчий вой заполнил обезлюдившую степь. Боже упаси кому-то в это время оказаться вдали от жилья. Здесь дикий край, здесь от села до села сто верст.
Первыми сюда прибыли доверенные Акинфия Демидова, начав здесь рудное дело. Их медеплавильные печи требовали древесного угля. Бездонным кладезем для его производства стал барнаульский бор. Огромные березовые рощи этого лесного массива привлекли внимание демидовского приказа. С тех пор закурились дымком «волчьи ямы»(1), потянулись к Змеиногорску угольные обозы. До чего же чуден человеческий мир и подобен дикой природе! Вот возьмем, к примеру, травинку. Несло ее грешную ветром, зацепилась она в голом поле, глядь, а уж через пару лет на этом месте щетинится, зеленеет луг. Так произошло и с урочищем углежогов. Возведенные у леса рабочие казармы положили в этом диком краю основу человеческого жилья. Не успели обжиться рудокопы, как потянулся сюда народ. Обозами шли на Алтай казаки и вольные землеробы. Облюбовав в округе пригодные земли, ставили они свои станицы и села. В семи верстах от «Старых казарм»(2), вдоль кромки соснового бора, пристроился поселок Александровка. Изумительное место для жилья выбрали поселенцы. С одного бока вольные степи, с другого – дикие запасы богатейшего леса. В ложбинах слезой скользит родниковая вода. За полвека прижился здесь народ. В двух верстах от села основался кордон земской управы. Хозяйничал здесь смурый объездчик Федор Колычев. Этот жилистый чернобородый мужик был грозой всей округи. Жил Федор при кордоне со своим семейством — женой Еленой да белокурой дочкой Анфисой. Слыл в округе человеком нелюдимым, с темным прошлым, так как о своей жизни он не делился ни с кем, даже изрядно выпивши. За все годы своей жизни в Александровке, сдружился он лишь с местным охотником Мишкой Власовым. По сей причине в народе о нем ходили разные сплетни.
— Тять, а тять! — будила в ночи, храпевшего отца Анфиса.
— Чего тебе? — сонно хрюкнул через нос отец, повернувшись на бок.
— Во дворе кто-то у нас. Слышишь, как в дверь шаркают, — тревожно шептала во тьме дочь.
— В голове у тебя шаркает, — зевая, недовольно пробурчала разбуженная Елена. — Перезрела девка, мужа бы ей. Да где взять. Вот и чудится по ночам всякое. Иди, спи!
— Цыц ты! — рыкнул на нее Федор, наострив уши. — Надысь и вправду, кто-то шкребется. Дойду-ка до двора, гляну. Ну-кось! — отодвинул он к стенке жену и шумно сполз с кровати.
В углу у печи замычал разбуженный телок.
— Кызь ты шалава! — отталкивая шаркающего языком телка, шарил Федор рукой валенки. Найдя наконец-то обувку, накинул тулуп и шмыгнул за порог. Вслед ему в распахнутую дверь ворвалась снежная буза, хладно облизав голые ноги Анфисы. А та, стояла, чуть дыша, вслушиваясь в густую темноту. Но до нее доносился лишь вой ветра. Вдруг резкий скрип прервал ее любопытство, она вздрогнула, — в дом вошел Федор.
— Анфиса! — с выдохом просипел он с порога, смахнув пятерней таящий снег с лица. — Заблудший там упал. Одевайся и айда на двор. Пособишь занести его в дом, мне одному не осилить.
Наспех обув ноги, накинув старенькую доху, дочь тенью скользнула во двор. За порогом, липкими хлопьями бушевал буран. В недалеке, сдерживая его силу, сердито шумел сосновый бор.
В трех шагах от сеней, калачиком чернело чье-то тело.
— Ну-ка, бери его за ноги, — сквозь вой пурги, орал Федор.
С трудом оторвав от снега незнакомца, шатаясь под порывами, они втащили его в избу. Елена, запалив лучину, поднесла огонь. Тусклый свет выхватил из темноты тело мужчины в заледеневшем арестантском бушлате. Его худое заросшее лицо было мертвецки бледно. Признаки жизни подавали лишь таявшие снежинки, слезой стекавшие с русой бороды. Скинув шубейку, Анфиса жадно всматривалась в черты незнакомца. — «Это он! Это он»! — истошно билось ее сердце.
— Да это никак беглый! — прикрыв рот ладонью, ахнула Елена и быстро осенила себя крестом.
— Беглый не беглый, нам какая разница, — сердито ворча прервал ее муж, стягивая с вялого тела рваную обледенелую одежду. — Откуда он у него?! — воскликнул вдруг удивленно Федор.
— Чего? — не поняла жена.
— Да крест, говорю у него, Фролки, брата моего! — указал он пальцем.
На обнаженной груди беглого темнел старообрядный терновый крест.
— Ладно, мать, опосля про то познаем. Перевяжи-ка теленка к кровати и стели ему доху у печи. Анфиска, жир барсучий давай! Анфиса, шлепая босыми ногами, метнулась к висевшему шкафчику. Подав батьке чаплыжку, она встала за его спину и принялась из темноты разглядывать обнаженное тело. Это было ее первое знакомство с интимными местами мужчины. От увиденного груди ее вдруг наполнились, рука машинально скользнула между ног, а по телу пронеслась истомная дрожь. Не в силах сдержаться, застонала Анфиса в этот сладостный порыв.
— Чаво вылупилась? Брысь отсюда! — услышав стон, прервал ее блаженство Федор, усердно растирая незнакомца.
Пыхнув жаром от стыда, Анфиса ужом скользнула в свою комнату и забилась под одеяло.
— Ну вот и все, — укутав страдальца в тулуп, протянул жене опустошенную чаплыжку Федор. — Теперь он в руках божьих. Выдюжит, значит будет жить. И мы ложимся, мать, утро вечера мудренее.
Перекрестившись, Елена задула лучину. И зевнув, след за мужем рухнула на кровать. Не успела ее голова коснуться подушки, как она уже сладко захрапела. В унисон ей затянул свою сонную песню Федор.
Не спалось лишь одной Анфисе. И на то у нее были свои причины. Два месяца назад ходила она к бабке гадалке. А в сочельник, уединившись в горенке, гадала Анфиса на суженого. По наказу бабки, зажгла она у иконы свечку и трижды прочла молитву. Выполнив обряд, Анфиса зажмурила глаза. В начале была темнота. Потом вдруг предстал яркий круг, от которого плавными волнами растекался ласкающий свет. Желание Анфисы было так велико, что она, поборов страх, шагнула в этот золоченый омут. Холод, пронизал тело. Перед ее взором предстало лицо бородатого мужчины. Ледяные сосульки свисали с его русой головы, а на щеках застыли бусинки слезы. Как на иконе Христа, сиял над ним золотой ореол. Мужчина открыл свои голубые глаза, посмотрел на неё и сквозь посиневшие губы издал жуткий крик: — «Замерза-ааю я, любимая-ааа»!
Вскрикнула в ужасе Анфиса. Ноги ее подкосились, и она с грохотом рухнула на пол. На шум принеслась перепуганная спросонок Елена, обозвав дочь перезрелой дурой, задула свечку. С той поры нарушилось ее девичье спокойствие. Жила она в ожидании какого-то страшного события. «Неужто это свершилось. Неужто это он?» — мучилась в догадках девица. Томно ворочаясь в постели, она ненароком вспомнила про бабку.
— «Бабка! Вот кто может все истолковать! Завтра же схожу к ней». От этой мысли ей стало легче, и она уснула.
(1) «волчьи ямы», — для отжига древесного угля отрывались ямы, в эти ямы закладывали сухие сучья и березовые стволы, затем их поджигали и присыпали землей. Эти ямы в Сибири назвали «волчьими».
(2) «Старые казармы», — название поселения, ныне — это село Сросты Егорьевского района.
Анфиса
В семье Колычевых Анфиса была единственным ребенком. Ее рождение было радостным событием. Впервые свет она увидела утром под весенние раскаты грома, в аромат бушующих трав. Вопреки бурной природе, появилась Анфиса тихо. Принимавшая роды бабка-повитуха сразу же это приметила.
— Славная у тебя, Мироновна, внучка. Смирная будет.
— Твои бы уста, Михеевна, да до Бога! — перекрестилась та, вспомнив то час крутой норов своего чада.
Последнее время Олеся Мироновна жила при дочери, карауля ее на сносях. Под вечер, с клубами пыли, прилетел на кордон вспотевший дед, Титок Иван Григорьевич
— Где внучка? — кинулся с порога он.
— Спит, — поправила косынку побледневшая после родов Елена.
— Дай хоть глазком взгляну, — шагнул к люльке дед.
— Да пошел ты! Как черт вонючий. Сглазишь еще! — преградила путь Мироновна. — Иди-ка лучше отца поздравь. Вон, кажись, Федька с объезда вернулся.
До утра пил Титок, обмывая рождение внучки.
— «Нет, батя, кукиш тебе! — говорил он злобно сам себе, глотая полугар под цветущей черемухой. — Плевал я на твое проклятие, будет наша любовь жить!» — Федька, ты даже не знаешь, как меня уважил, — пьяно икая лобзал он зятя. — Теперь мне и помирать не страшно. Мы одной семьей должны держаться. Олеська пусть за внучкой приглядывает, дурного не будет. Да я, ежли что, любому горло порву! Правильно я говорю?!
Но охмелевший зять лишь кивал головой. Крепкая сивуха, без особого труда сломила непьющего Федора.
Так и выросла Анфиса на два двора. Впитывая в себя ласку бабушки и грубое общение родителей. А в мае, когда ей исполнилось шестнадцать годков, на кордон неожиданно завернул друг отца Михайло Власов. Пробыв немного, обсудив с родителями что-то, распрощавшись, уехал. В скорости под вечер прикатил он со своей женкой. Елена накрыла стол. Из горницы Анфиса слышала, как, чокаясь, они шумно обсуждали ее сватовство. Но в этот самый разгар вдруг у ворот заржал конь. Скрипнула дверь, и в дом вошел дед Иван.
— Что это вы здесь за праздник устроили? — недобро взглянул он с порога.
— Да вот Анфиску пропиваем. Присаживайся к нам, батя, — почувствовав неладное, затрусил перед ним Федор.
— Во как!? А с нами вы посоветовались? Или мы вам уже не в счет?
— Сыну мому, Митьки, приглянулась ваша Анфиса. — «Как цветочек, говорит»! Вот хотим породнится, — влез в разговор подвыпивший «новоиспеченный» сват.
— Не этот цветочек твому Митьки рвать, — оборвал его радость Иван. — Пущай пока растет. Конец сватовству! Поворачивайте оглобли до дому.
Побледнел Михайло Власов.
— Забижаешь, Григорич! Мы люди не последние, смотри, не прокидайся. Митька мой, жених видный, за него любая пойдет.
— Вот и ступайте с миром, выбирайте себе любую. О нашей пока никакого толка не будет, — решительно отрезал Иван, выпроваживая за дверь сватов.
Озлобленно хлопнув калиткой, вылетел со двора Михайло.
— Батя, зря ты так! — понурился Федор. — Не по-человечески это.
— Вечно ты не в свои сани лезешь! — поддержала мужа разозлившаяся Елена.
— Поговорите мне еще! — строго осадил их Титок.
Дурная слава об этом сватовстве вмиг разлетелась по округе. И вот уже свой двадцатый год ходила в девках Анфиса...
Сибирское казачество
Когда то привел в Сибирь свое войско атаман Ермак. Укрепившись по Иртышу, двинулись казаки к подножью Алтайских гор. По древним славянским поверьям, таилось здесь где-то чудное Беловодье. Проливая кровь в сечи с кыргызами(1), рыскал Ермак в поисках этой райской земли. Но так и не найдя мифического уголка, погиб он в пьяной стычке. Потеряв атамана, разбрелись казаки по Алтаю. Блуждая по диким местам, прибились они к чалдонским дворам(2). С подозрением отнеслись те к пришлым братьям. Но вскоре сблизил их единый русский язык. К тому же, в местных поселениях женская половина испытывала мужской голод. Тяжелый быт и свирепый климат первыми вырывали из семей мужчин. Переженились казаки на местных девках. Осели на Алтае и разбили свои первые курени. Сытно зацвели их станицы. По округам паслись стада овец и коров, нагуливая вес изобилием сочных трав. Вот так и положили выжившие ермаковцы и их дети основу Сибирского казачества Особый рассвет получили станичники с приходом Демидова. Окрепшие в морозах, хорошо владевшие оружием, они стали лучшей охраной для перевозки грузов и городовой службы. Испокон богатства Сибири манили чужеземцев. Пользуясь бесконтрольностью границ, потянули они свои грязные лапы к несметной кладовой России. Тогда-то, наконец, и встревожились в Питере. Огромную роль для сибирского казачества сыграл посланный Петром I князь М. П. Гагарин. Хоть и повешен был Матвей Петрович, но сделал он для укрепления Сибири немало. При нем закладываются и строятся новые крепости: Омская, Железинская, Ямышевская, Семипалатинская, Устькаменогорская, Бийская, Петропавловская и Пресногорьковская. По ходатайству Гагарина, начинается создание линейного казачества. Он же добивается введения должности единого сибирского атамана. Позже, им становится сотник Железинской крепости Федор Анциферов. Началось массовое заселение сибирской пограничной линии. И уже к концу текущего столетия было сформировано Сибирское Казачье Войско. По новому положению, оно носило название «Сибирское линейное казачье войско». Впервые в истории сибирское казачество получило правильное военное устройство в составе десяти отделов мирного времени. На тот момент на службе в Сибирском линейном казачьем войске состояло около шести тысяч человек. Величайшим указом был определен служивый статус: — каждый курень получал пожизненное право на земельный надел от шести десятин на душу; — на службу в казачьи полки зачислять с семнадцатилетнего возраста; — служивых наделить жалованием: для низших чинов от шести рублей, взводным урядникам от восемнадцати рублей, вахмистру от двадцати шести рублей. С оплатой один раз в два месяца. В военное время казачье жалование удваивалось. — ежегодно выдавать казенный паек по три четверти муки на каждого в год; — для конного состава – фураж по семь четвертей овса на год; — закрепить право заготовлять сено по цене две копейки за пуд и беспрепятственно ловить рыбу на всех сибирских реках. В военное время отделы преобразовались в конные полки. В 1809 году полкам пожалованы десять знамен в виде бунчуков, а войсковым знаменем стало знамя томских казаков, полученное в 1690 году. С 1812 года отделы были ликвидированы и переименованы в десять казачьих полков. За заслуги перед Россией сибирское войско было удостоено особой форменной одеждой уланского типа, не имевшей аналогов ни в каких других казачьих войсках. Кроме того, только сибирским казакам разрешили носить оружие по старинному обычаю сибиряков — карабин на левой стороне, а боеприпасы на правой. За «усердие и исправность к службе» войско получило свою первую награду — флюгера на пики с надписью «В ввящее отличие, усердие и исправности в высочайшей службе». В начале девятнадцатого века открыли первые школы для казаков действительной службы, а через два года после их открытия было введено обязательное начальное образование. Для подготовки офицеров в Омске в 1813 году создали войсковое училище, и уже в 1830-х годах образовательный уровень офицеров-сибирцев был выше, чем у их сослуживцев по Киргизской степи — уральцев и оренбуржцев. Тогда же войско стало выделяться образованностью урядников и многих рядовых казаков. Но не только караульную службу и охрану границ несли казаки, но возродили они и культуру земледелия. Казацкая косуля впервые резанула девственные алтайские земли. Тесня вековые ковыли, густо заколосились хлебные поля. Не виданное доселе зерно получили сибирские казаки. Каравай с его муки имел божественный вкус, а хлебный дух разносился до семи верст в округе. Еще сама императрица Екатерина Великая, отведав сибирский ситный, с восторгом воскликнула: — Это изумительно! — и посмаковав немного, добавила властно, — пора вам, господа, пересмотреть свои колониальные взгляды на Сибирь и взять ее под заботы империи. Ибо скоро она может стать яблоком раздора за право владеть ею.
(1) кыргызы, — так славяне называли местные народы тюркских племен.
(2) чалдонцы, — часть славян, сбежавшая в Сибирь после разгрома Золотой орды. К ним смело можно отнести Емельяна Пугачева, Кондратия Булавина. В дальнейшем так стали называть и староверов, всех тех, кто не признавал власть Москвы.
Григорий Титок
Стекая с вершин Алтайских гор, сливаясь с мелкими речушками в отрогах Тигирецкого и Колыванского хребта, берет начало вьюнок Алей. Спустившись с гор, стремительно несет он горные воды в Приобское плато. Свое название, «Элей» (1), эта река получила в пятнадцатом веке от прибывших в Сибирь чалдонцев. Подметили они, что его воды, как масло ускользали, найдя новое русло. До их прихода местные тюркские народы все что текло, называли «катунь», что в переводе означает «река». Змеей льется Алей по алтайским степям, то появляясь, то стремительно исчезая за поворотом. Быстры и сильны его воды. Здесь когда-то проходил караванный путь из Бухары до Томска. А в конце восемнадцатого века осуществлялись попытки доставки грузов с Змеиногорского рудника на Барнаульский сереброплавильный завод.
Начало активного заселения его берегов пришлось на рубеж семнадцатого и восемнадцатого веков. Тогда-то и облюбовал этот дикий уголок казацкий сотник Бобок. Отстроились у зарослей лесной поймы казаки. Так и родилась станица Бобковская. Место и впрямь дивное. Хоть и не широк Алей, но богаты рыбой его бурные воды. Косяками изобиловали в нем окунь, щука, хариус, таймень, лещ, судак, сазан, карп. А в трех верстах от станицы, плещутся воды степных озер. Щедра была и природа. В густых зарослях черемухи и калины сплошным ковром чернела ежевика. Дикая клубника стелилась так, что негде было ступить. В тени забоки кружит голову запах черной смородины, гнущейся под тяжестью своих плодов. И вокруг божественная тишь, лишь белые березки шуршат, перешептываясь с водами реки.
В ста шагах от берега, в зелени сирени, кутается курень Григория Титка. Ладный хозяин Григорий Макарович. Уютно в его доме, чисто в его дворе. Заботлива и ласкова его жена, красавица Марфа Тимофеевна. Когда-то «выкупил» (2) он ее у староверов. Выкупил не для забавы, приглянулась она ему. Вот уж сорок лет они вместе, душа в душу.
В свою молодость, служил(3) Титок в Змеиногорске. За хорошую службу, по лету, дали ему побывку домой. Дорога до дому лежала через кумандинские земли. Неспокойно там было в то время, кыргызские кочевники то и дело чинили свои разбойные набеги. Но приелась казаку колива(4). «Карабин и шашка при мне, отобьюсь, ежли что. Не отобьюсь, так Калмык(5) вынесет», — неведомой силой тянуло его на волю.
Не стал казак дожидаться обоза и двинулся в путь один. Налегке прошел он верст десять от «Змеевки», покинула сердце тревога. Осталась лишь последняя сопка. «Ну вот, до Курьи уж рукой подать, а там и дом видно», — радостно подумал Григорий, покачиваясь в седле.
Но едва обогнул он этот скальный горб, как вдруг зафыркал, затрусил под ним конь. А из зарослей березняка заржала чья-то кобыла. Не успел Титок и глазом моргнуть, как на него уж неслись пятеро верховых. Вмиг повернул коня казак, но вновь, в половой охоте(6) заржала кыргызская кобыла. Не слушая плети, заржал Калмык, танцуя на месте. Не учел Титок эту древнюю хитрость кыргызов. Выпрыгнул тогда он из седла, снял из карабина ближнего, а перезаряжать уж времени нет. С гиком подлетели к нему кочевники, взяли его в «карусель» (7), закрутили свои тугие арканы. Но верток, силен был казак и востра его шашка. Обозлились кочевники, выхватили сабли, а молодой, скуластый, оскалив свое смоляное лицо, метнул в него дротик. И предстать бы Григорию пред Богом, но видно ангел был в этот час где-то поблизости. Отбили Титка возвращавшиеся с охоты курьинские староверы(8). Привезли в общину, выходили.
Вот тогда-то и приглядел он местную красавицу Марфутку. Ох, и красива была девица! Стройный стан, руса коса до пояса, а с лица только божью росу пить. Любая княгиня позавидовала бы сему творению природы. Кинулся в ее двор Григорий, хоть и не блистал тонкостью своей внешности. На его удивление, отец белокурой красавицы дал свое согласие, но запросил с него «калым» (9) по старому обычаю.
— Возьми моего коня, — предложил казак. — Двадцать целковых за него калмыкам отдал.
— А зачем он мне! — усмехнулся его будущий тесть Тимофей. — У меня свои не хуже, девать некуда.
— А что же ты хочешь?
— Ружье мне отдай и припасы к нему, тогда сговоримся.
Не пожалел, отдал Григорий ему свой новенький тульский карабин.
Так ли сильно полюбил ее тогда Титок? На этот вопрос он не мог бы ответить и сам. Тогда ему ясно было лишь одно — она ему нравилась. А все, что ему нравилось, он стремился получить любой ценой.
Добротной женой оказалась Марфа Тимофеевна. Трех сыновей и дочку родила она Титку. Дочь Марию, что за старшим Петром, замуж выдали. Живет не хуже других, трех внучат на радость им родила. Младший Иван уродился всем на зависть. Лицом в мать, рослый, широкоплечий, да и силой не обижен. На службе вот уж третий год состоял. Смел и надежен казак в любой стычке. Зауважали его станичники, а бобковские невесты, вздыхая, сохли по нему в ночи. Но острый глаз Григория Макаровича в этой девичьей густоте отыскал истинную красавицу.
В нынешнем году, на пасху, после церковной службы подошел он к тучному казаку Мирону Крылову. Мирон Крылов слыл в станице как человек зажиточный. Имел он близкую родню на Дону, а некоторые языки поговаривали, что даже и в самом Питере.
— Христос воскрес, Мирон Гордеич! — раскинул руки для объятий Григорий.
— Во истину воскрес, Григорий Макарыч! — облобызались станичники.
— Как поживаешь, Мирон Гордеич? — начал свой подход Титок.
— Да ничего, справляемся, — сняв фуражку, вытер лысину Мирон. — Ну и жара стоит нонче, прямо как на югах.
Титок никогда не был на югах и поэтому не придал его словам никакого значения, а продолжал гнуть в разговоре свою линию.
— Дашка то, вон какая у тебя вымахала. Не планируешь ее замуж выдать? Девки-то, они товар скоропортящийся, — и вопросительно взглянул он на Мирона.
— Не волнуйся, моя не залежится, ее красота от Бога, и приданым не обижена. Женихи все пороги уж обили. Но пока не вижу достойного.
— Ну, а Иван тебе мой, как? — в ожидании вытянул по-гусиному шею Григорий.
— Иван-то!? — пауком впил в него свои глаза Мирон.
Напрягся Титок от этого. Нет, он не страшился, он стыдился быть униженным отказом.
— Отчего ж не породнится, сын у тебя недурен, — снял, наконец, напряжение Мирон.
Выдохнул облегченно Григорий Макарович. Счастливый был этот день для него. Еще бы! Первую красавицу станицы с одного захода увел он для сына. Такую радость он испытывал всего лишь раз, когда с коньком «нагрел» шурина. Так и сговорились в тот день казаки. Дали слово, ударили по рукам, а сватовство назначили к покрову.
Но не все так гладко шло в семействе Титка, не обошло и горе его двор. В двенадцатом повел на Бонапартия из Каменогорской добровольную(14) сотню старший Петро. Попрощался он у ворот с женой и сыном, обнял мать с отцом, вскочил на коня и ушел в галоп. Ушел не один, привязался к нему младший брат Мишка. Семнадцать годков всего лишь тому было. Сгинули они оба где-то под Бородино. Лукерья, женка Петра, как только получила казенное извещение, заколотила окна своего куреня и пришла в дом тестя.
— Как хошь, батя, гони нас с Ваней, не гони, а мы все одно с тобой жить будем.
Выдавил слезу Титок, поклонился ей за верность мужу.
— Сколь хошь живи, ну а коли сватать станут, тебе решать.
В том же году прирубил он к куреню трехстенок. Вот уж десять годков живет в нем вдовая сноха. Приезжали, сватали ее не раз, но осталась она верна своему мужу. Подрос и Ванюшка, сын Петра, ну прямо вылитый батя. Даже походку отцовскую взял. Смотрит на него Григорий, а из груди стон так и рвется: — Эээх! — протяжно сглатывает он горький ком.
Тяжела ноша смерть сынов, не дай Бог, кому-нибудь испытать это при жизни. До гроба, как ржа, гложет отцовскую душу чувство вины. Смог бы тогда этот старый, израненный в сечах казак, как отец спасти, удержать своих детей, отговорить их от похода. Как отец — наверно смог бы. Но не сделал он этого как воин, как защитник Отечества. Ибо защита России для него была святым делом.
Тяжко бы пришлось Титку доживать свой век, если бы не его младший сын. Всю свою отцовскую любовь и заботу посвятил он ему. Эх, знать бы тогда ему, чем все это обернется!
(1) Элей — со временем Элей стали называть Алей, так как буква «А», была более приемлема для местного населения.
(2) выкупил — заплатил калым.
(3) служил — все казаки проходили обязательную службу в линейных полках с семнадцати лет.
(4) колива — казацкая казарма.
(5) «Калмык», — имя коня.
(6) в половой охоте, — брачный период, в котором кобыла допускает к себе жеребца.
(7) в карусель — скакали вокруг него, стараясь закружить жертву, чтобы с легкостью набросит свой аркан.
(8) староверы, — православные, не принявшие реформу Никона.
(9) калым — компенсация отцу за то, что он растил дочь, этот обычай частично сохранен до сих пор.
(10) добровольная сотня, — официально сибирские казаки в войне 12-го года не участвовали, на них была возложена охрана границ. Но несколько сотен добровольцев все же было отправлено на защиту России.
Иван Титок
Младший сын Григория Макаровича Титка появился на свет 19-го мая 1806-го года, в день поминания Святого Варвара (1). При крещении, бобковский поп отец Василий нарек его Иваном. О чем тут же, шустрый дьячок Дионисий, приняв чарку за его здравие, сделал запись в Метрической книге.
В Титковом семействе, Иван был последним и самым любимым чадом. Частенько, прилюдно гордился им Титок.
По тем временам, в Боковской, как впрочем и по всей Руси, любимым занятием стариков был спор о мужицкой силе. Собравшись кутком в «шинкарке», они до хрипоты спорили отстаивая своих кандидатов. Хитрый от роду Титок постоянно отмалчивался в этих спорах. Но если выбор был не в его пользу, то с ходу бил «под дых».
— «Сильнай казак, спору нет — нараспев соглашался он. — Но все жа, на чуток, послабжа будет моего Ивана».
Хоть и недолюбливали его за наглость, но под давлением совести сникшие старики принимали его сторону.
— Да… Сын у тебя Григорий что надо. Редкой породы казак!
Эти победы, над «сивобородыми», доставляли ему неписанное удовольствие. Домой Титок летел в приподнятом настроении.
— Тимофевна! — вертаясь, кричал он с порога. — Мечи на стол все что есть. А то я проголодался, как волк.
— Ты часом Макарыч не в шинок ли вхаживал? — видя приподнятость мужа спрашивала догадливая жена. — Что-то веселый ты сегодня больно.
— Какой шинок Тимофевна? День сегодня хороший. Ванька то когда приедет?
— Я почем ведаю? — отвечала жена наспех смахнув материнскую слезу.
Да… Титку и впрямь, было кем и чем гордится. Его сын вырос на славу. Верно подметили старики, — редко природа рождает «породистого» человека. Человека в котором сочетается сила, смелость, ум и красота. О таких в народе веками слагали легенды и песни, а в историю они входили как незаурядная личность. Таким, мужская сторона с молоду оказывала уважение, а женская, молила бога по ночам, послать ей в мужья.
Иван Григорьевич Титок, внешне выглядел так. Отроду жилистый, мослатый, плечи прямые, широкие. Роста высокого, более сорока вершков (2). Не смотря на чуть изогнутые в коленях ноги обладал стройной фигурой. Походка мягкая, уверенная. Лицом, в мать. Высокий лоб, прямой нос, волос темный, глаза выразительные, карие.
В миру слыл человеком доброй души. Но защищая свою жизнь или жизнь близких, приходил в дикую ярость и не знал страха. В жизни был рассудительным и обладал врожденной притягательностью. К нему как магнитом тянуло людей, — иные хотели услышать его мнение об интересующих их событиях, а слабые видели в нем защиту и покровительство.
На службу Иван поступил, как и гласил казачий устав, по исполнению семнадцатилетнего возраста. 19-го мая 1823 года он был приписан к Змеёвскому крепостному гарнизону в чине рядового казака линейной службы. А уже через год, на побывку, прибыл с нашивкой урядника. Его приезд стал праздником для Григория Титка. Выпивавший строго по церковным, в сей день, он упился до «поросячьего визга». Еще бы! Никому из станицы, не удавалось за год достичь таких высот.
— Петро с Мишкой показали, а Ванька еще больше покажет, кто мы такие! — напялив на себя, сыновий кафтан, доказывал во все горло Титок неизвестно кому.
— Мы Титки, еще с Еремой на Алтай пришли! Мой дед...
— Уймись ты, дед! — успокаивала его жена. — Ваня, сынок, доведи отца в постель.
Заматерел, возмужал Иван за год службы. Как ребенка, под колени, хватил он пятипудового отца и бережно уложил на овечий тюфяк. (3)
— Хватит бурчать. Спи батя. Голова уже болит от тебя.
Довольный Титок, с трудом изобразил подобие улыбки и тут же захрапел.
Но не радостью пьяного отца запомнил Иван свою первую побывку. Этот приезд, как топором, до гроба зарубил в его голове образ любимой женщины. То что произошло с ним, часто встречается в среде «однолюбов». Наверное по тому, что они выбирают свою половину сердцем, раз и навсегда. И не приведи господь, когда злой рок судьбы отнимает их идеал. Мучаясь, они ищут его на всем жизненном пути, но к сожалению редко находят и умирают в одиночестве.
В вечер перед отъездом, собрался он на вечёрку. (4) Собрался, да не дошел. По пути, встретилась ему вдовушка Глафира Лучкова. Чертовски красива и стройна была казачка. Да годами, всего лишь лет на семь старше его. Глядя на закат, «висела» она на калитке своего двора, маясь от одиночества.
Шесть лет назад, мужа её, урядника Мишку Лычкова, срубили кыргызы на колыванской линии. На восьмом месяце была тогда Глашка. Как увидела она мужа поперек седла, так впала в истерику. Кое-как бабковские бабы «отлили» её водой. Отлить то отлили, но не доносила Глашка Мишкиного дитя. Выкидыш вышел. Года два опосля не выходила она в люди. Кроме подружек в дом никого не пускала. Но с годами по немногу оттаяла, стала общительней.
— Доброго вечера Иван Григорьевич! — мягким говором пропела Глаша. — На вечерки путь держите? — полюбопытствовала тут же, кутая лицо в козью шаль
Её слова на миг смутили казака. Глашка никогда не называла его по отчеству.
— Здравия желаем! — быстро подавил смущение Иван. — Зорьке радуетесь Глафира Петровна?
— Скажите тоже! Горька радость в одиночестве. Пирожков вот нонче напекла, самовар запалила, да не естся одной. Может составите компанию? — с надеждой посмотрела Глаша, ножкой чуток приоткрыв калитку. — Таких же, что ты мальцом, с Мишкой Вольных крал у меня на свадьбе. Паренная свеколка с калиной.
Толи бес под ребро, толи неведомая сила, но что то толкнуло Ивана в ее двор. Наскоро оглядевшись, он вошел в ее дом.
Ох и скора была Глаша! Видно впрямь люто истосковалась ее плоть по мужской силе. С ходу затащила она Ивана в постель. Сладко охнув, раздвинула согнутые в коленях ноги и ощутив его в себе, принялась страстно работать тазом. А тот, испытывая неписанное блаженство, с каждым движением извергаясь выпадал из нее. Стыдясь своего бессилия, он сполз с её разгоряченного тела. Затем. С жадно бьющимися сердцами, они молча лежали в темноте, пока природа вновь не взяла своё.
— Погоди Ваня. — нежно отстранила его руку Глаша. — Я сейчас.
Томясь, ожиданием во тьме, слушал Иван плеск воды у кадки. Летевшие минуты казались вечностью. Наконец-то, освеженная Глаша, шлепая босыми ногами, улеглась рядом.
Второй, третий и последующие заходы происходили уже как то по иному. Нет, страсть в них не угасла, просто они научился чувствовать друг друга. Редко кому с первого раза удается достичь такой гармонии. Природа идеально создала их друг для друга, как мастер создает ключ и замок. Лишь под утро, утомленные, они уснули «без задних ног».
Очнулся Иван лишь во второй половине дня. Солнце уже шло на закат. Осторожно, стараясь не потревожить сладко сопевшую Глашу, он снял ее руку с плеча. Приподнявшись, тихо присел на край кровати. Но почувствовавшая расставание сердце Глаши пробудило ее. Откинув одеяло, она села рядом. И они, забыв обо всем, молча наслаждались духовной близостью. Ивану нужно было торопиться, догонять своих. Казаки ушли еще поутру. Их блаженство нарушила Глаша.
— Спасибо тебе Ваня за эту ночь. Ох и налюбилась я за все эти шесть лет! Как святой водой смыл ты с моей души слезы и печаль одиночества. Впервые в жизни почувствовала я что такое бабье счастье. Мой то покойный, слаб был на это дело. Да и я была дуреха, думала что так у всех. А теперь тебе пора. Ступай огородом, улицей не ходи. — укладывая растрепанный волос поднялась с кровати Глаша.
— Сам знаешь, ежли наши бабы прознают не будет житья мне в станице. Христом богом молю тебя, забудь это и сюда более не приходи.
Прокравшись забокой к своему двору, Иван ужом скользнул в калитку. На ее скрип из сеничной двери вынырнул племянник.
— Живой? — обрадованно вылупил глаза он. — Дед с самого утра, причитает. К «корягам»(5) уехал искать. Думает утоп. Приедет колом тебя воскресит. Где был?
— Отвяжись сопляк! — отмахнулся дядька входя в дом.
Мать увидя его поняла все. Не зря говорят в народе, что материнское сердце чувствует свое дитя будь оно хоть за тридевять земель.
— Ванятка! — открыв дверь позвала она внука. — Езжай деда кликни. А то будет до потемок блукать в поисках.
Через час в дом влетел, грязный и взмокший Макарыч. Минуты две он стоял с открытым ртом жадно хватая воздух. Увидя живого сына, его мозг раздвоился. Он не знал что делать, — толи выпороть стервеца, толи плакать от счастья.
— Ииии! — наконец выдохнул Титок и махнув рукой вышел во двор. До отъезда сына он больше не произнес не слова.
По утру, Иван оседлал коня, привязал дорожную суму и обняв мать, вскочил в седло. Отец провожать не вышел.
По приезду в крепость, его вызвал комендант. После приветствия, он сразу перешел к делу.
— Урядник Титок, вы почему на сутки отстали от взвода?
Иван, спокойно воспринял его вопрос и глядя ему в глаза ответил:
— Виноват господин капитан. Женщину встретил. Не смог.
— Впервые? — взглядом оценив его, усмехнулся комендант. — Понимаю вас голубчик. Эти бестии такие. Не оторвешься. Ну что ж! За вашу честность, на первый раз я вас прощаю. В следующий раз пощады не ждите!
службе был строг.
Третий год уж ломал он службу в Змеиногорской крепости и за свое усердие к двадцати годам был произведен в вахмистры(6). Его взвод нес погранично-патрульную службу. Сам комендант крепости, атаман Куделин, обещал ему вскорости офицерские погоны. И достичь бы казаку в службе высот, но судьба повернула иначе. Как-то в «петровки» вел Иван с дозора свою полусотню. Духота стояла, сил нет. Сморились в седлах казаки. А рядом Алей журчит, манит своей прохладой. Не вытерпел Иван и как только прошли Оловишниково(7), высмотрел тропинку к берегу.
— Ну что, браты, может передохнем, искупаемся? — предложил он повернувшись в седле.
Казаки сонно:
— Не! Дома лучше отдохнем и искупаемся.
— Как хотите! Передал Иван полусотню приписанному(8) красноярскому уряднику Максиму Вольных, а сам к берегу свернул. Облюбовав одинокую раскидистую иву, спешился в ее тени, расседлал взопревшего Воронка. Освободившись от седла, конь рьяно потянул его к реке.
— Ну! — сжав удила прервал конскую прыть казак. — Остынь пока. Вначале я охолонусь, а потом и до тебя очередь дойдет. Но едва он успел спуститься к реке, как услышал за спиной чьи-то шаги. По тропинке, к берегу, босой ногой мягко спускалась девица с коромыслом. Стройная, в белом вышитом сарафане, она как пава проплыла мимо опешившего Ивана. Подойдя к воде, сняла коромысло и загорелой ножкой пощупала воду. Ошалел от ее красоты казак, застыл как столб. А девица подол ручкой приподняла и в воду. Зачерпнула ведро, взор на него свой перевела: — Эх ты, кавалер! Стоишь, глаза таращишь, нет бы девушке помочь!
Буряком вспыхнул от ее слов Иван, кинулся в воду. А та, хохочет: — Ты хоть бы сапоги скинул, жених! Подлетел он к ней, выхватил ведро, встретились их васильковые взгляды. Дрогнула, смутилась красавица.
— Ну что пристал, пошутила я! – пыхнув маково, легонько толкнула она в грудь казака.
— Как тебя зовут, девица? — очнулся наконец Иван. — Ты оловишенская? Что-то я тебя раньше не замечал.
— Важный ты больно, потому и не замечал! — усмехнулась красавица.
— Прям, уж так! — поймал ее взгляд казак.
— Олеся я, дочь Филиппа Петренко, — снова смутилась девица.
— А я Иван. Из Бобковской. Сын Григория Титка.
— Ладно, Иван Титок, пойду я, — встревожилась Олеся. — А то мамка будет сердиться. Боится она вас казаков, говорит, что вы девок крадете.
— А если я захочу такую красоту украсть. Как тебя найти?
— Если захочешь, найдешь! — обернувшись у ивы, крикнула Олеся.
С этого момента все изменилось для Ивана. Любовь проникла в его сердце. Любовь, это чувство неописуемого восторга, это когда человек начинает замечать и ценить красоту. Но любовь многогранна и обманчива. Не каждому дана возможность любить. Часто бывает так, что возвышенные чувства всего лишь плод собственной похоти. И эта похоть с годами превращается в растленного уродца. Вечна и божественна лишь духовная любовь. Это когда две любящие души, по случаю или воле Бога, находят друг друга в нашем грешном мире. Блаженна и хрупка такая любовь. Немногим пришлось насладиться ей в земном бытии. Зачастую жестокий мир, утерявший эти чувства, нещадно рушил это хрупкое духовное создание. Лишь только сильным удается сохранить свой божественный дар.
Расставшись с Олесей, Иван вошел в воду. С силой оттолкнувшись от берега, он с головой погрузился в хладное русло реки. Бурный поток Алея подхватил его, стремясь подчинить своей воле. Но молодое тело было неподвластно ему. Сильными гребками прошел казак от берега до берега, покоряя буйный норов реки. Остудив свою страсть, выкупав коня, уже по темному, подъехал к дому Иван. Услышав его у ворот, к нему кинулась счастливая мать, слезно лобызая свое чадо.
— Ну, полно вам, мама! — легонько отстранил ее смутившийся сын.
— Пойдем в дом, сынок! — Ты же голодный с дороги, — украдкой утирала со своей красы слезу радости Тимофеевна.
Годы щадили, не старили ее. Вслед за матерью шагнул Иван в свою отчину (9). Родной с пеленок запах куреня встретил его с порога. Сладостно защипало сердце, пахло молоком и свежим хлебом. Сняв амуницию, он присел к столу.
— А где же батя с Лукерьей? Ванюшкой где?
— По заре еще уехали на покос. Явятся по потемкам. Отец нонче как сбесился, все луга в захаровской балке захапал. Совсем Лушку с Ваняткой заездил. — Гремя крынками, делилась новостями Тимофеевна.
Поев кислого молока с хлебом, утомленный дорогой, Иван прилег на полати. Он не слышал, как приехал отец со снохой и внуком, как радостно лаял Волчок, бежавший впереди телеги, звонко оповещая станицу о своем возвращении. Иван спал. Поутру снилась ему бескрайняя степь, по которой, подминая седые ковыли, крепко держась за руки, шли они с Олесей. Их сердца были наполнены счастьем. Над их головами светило солнце, а в лазоревом небе пел жаворонок. Вдруг свет померк, скрылось солнце, и закружил ураган невиданной силы. Схватил Иван Олесю, прижал к своей груди, крепко сцепив руки и …
— Вставай, соня! — прервал его сон племянник.
— Ты че гавнюк? — скрипнув полатями резко повернулся к нему Иван. — По ушам хочешь гад!
Ванятка был всего лишь на пять лет моложе и по этому их отношения были приятельские. Наделенный от природы колючим языком, он всегда старался «поддеть» дядю.
— Баба на стол накрыла. Вставай, а то сейчас дед с кочережкой придет, — грозно пуганул ершистый племянник.
Взбрыкнув ногами, Иван спрыгнул на пол. Было раннее утро. Поигрывая разводами, в окно пробивался малиновый рассвет. На дворе, настырно горланил проснувшийся петух.
Подпрыгивая, поочередно переставляя ноги, Иван натянул шаровары и вышел из спальни. На кухне, сгорбившись у стола сидел отец.
— Ну что, со свиданьицем! — вскочил он с лавки, едва сын просунулся через порог. — Приехал значит. А мы уж с бабкой заждались тебя! — труся ногами от радости, развел руки.
— Здорово батя! — ласково прижал его к плечу Иван
— Надолго? — спросил расчувствованный встречей Макарыч незаметно смахивая слезу. Гордился и по отцовски любил Титок сына. И не было в этом ничего предрассудительного. Иван был для него последней радостью жизни. А последнее, человек всегда ценит больше всего.
— Куделин на покос отпустил. Через две недели должны быть в «Змеевке».— присел за стол Иван.
— Ну давай умывайся по-быстрому. Завтракаем и на покос. — уняв восторг встречи, перешел Макарыч к делам насущным.
— Батя, вы езжайте. Я вас на Воронке догоню, — поев наскоро, встал из за стола Иван.
— Ху, ты! Вечно не как у людей! — сменив радость на гнев, возмутился отец. — Поехали бы все вместе, за дорожку о жизни потолковали.
— Успеем еще, за день наговоримся, — отмахнулся сын.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.