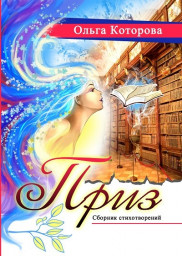"За десять дней до Победы" Рассказ
… Он шёл по улице. Сапоги давили битое стекло, и этот противный звук раздражал и заставлял нервничать. На соседней улице долбил, не переставая пулемёт, заглушая автоматное и винтовочное многоголосье, иногда были слышны взрывы. Но здесь было тихо. Никто не стрелял. И от этого было особенно тревожно. Когда что-то не так, как должно быть, значит будет плохо… Апрель тут был теплый. На солнце, так и вообще было жарко. И ватник, так и не снятый по старой привычке, что " пар костей не ломит", тяготил. Хотелось его скинуть. Как и сапоги, которые давили битое стекло, усыпавшее толстым слоем, всю эту сторону улицы.
— Как всегда Федьке сливки! — он матернулся про себя, и присев на карточки за большую круглую афишную тумбу огляделся. Из-за сгоревшей легковушки на другой стороне улице, чуть сзади и сбоку, метрах в двадцати, раздался короткий свист — Федор подал знак. Он снял пилотку и протер лицо. Пот катился ручьём и щипал глаза.
— Всё-таки надо было снять ватник...
Он свистнул коротко два раза. Это было уже на автомате. За три года они чувствовали друг друга, как близнецы. И каждому давно было не уютно, если кто-то из них надолго пропадал, оставляя второго в одиночестве. А это случалось, когда кто-то из них попадал в госпиталь. А кличка «близнецы», как приклеилась к ним однажды, в таком далёком сорок втором, когда они, два молодых парня из одной деревни, одинакового роста, с абсолютно одинаковыми голубыми, словно цветущий лён глазами, и кудрявыми иссиня-черными кудрями, приехали на призывной пункт, так и шагала с ними от Сталинграда. И хотя давно никто кроме офицеров старше командира батальона не обращался к ним кроме, как по имени отчеству — Петр Артёмыч и Фёдор Иваныч. А молодые, которых сейчас после Кёнигсберга в полку было большинство, смотрели на них не иначе, как на фотографии из газеты- с почтением и неверием. А как иначе?! От Сталинграда до логова зверя дойти! И не в обозе или на продскладе, а в ударном полку! У каждого на груди одинаковый иконостас: " За отвагу", " За боевые заслуги", и уму не постижимо — ОРДЕН! Да орден! У офицеров то не у многих, а у них есть. После " Славы", почитай самый почетный солдатский — " Отечественной войны". Одно слово: " близнецы". Можно сказать уже Легенда! Палец в рот не клади — откусят и хлебнув из фляжки наркомовскую сотку, згрызут его на закуску. И даже комбат, с которым шли, а чаще ползли они от Курска, закрывал частенько глаза и на серебряные цепочки от часов, торчащие у них из галифе, и на неуставные офицерские сапоги, и на блатные наборные из пластиглаза финки, болтающиеся на ремне. Солдаты! Настоящие. Те солдаты, что пропахали на пузе от Сталинграда до Германии. По два раза раненные, по два раза контуженные. Пять переформирований полка пережившие, закопавшие товарищей столько, сколько у них в деревне, за триста лет не хоронили. И всё-таки дошли. Доползли. И теперь будут тут, в логове зверя, ставить Гитлера раком…
Он вытер пот и огляделся. Улица была пуста. Авиация сделала свою работу — половина домов лежали в руинах. Но были и такие которых война словно обошла стороной. И их заложенные мешками с песком витрины пугали. В первую очередь своим молчанием. Вот уже две недели, как они шли по Германии, и улицы всех этих немецких городов были похожи, как две капли воды. Или, как шутил Федька, два теленка из одного отела. На соседней улице не смолкала стрельба. Пулемёт фрицев затих. Косторез, как называли его солдаты, замолчал. Но автоматная перекличка с обеих сторон продолжалась. Громыхнул фаустпатрон. Видно, не выдержал очередной десятитилетний ублюдок долгого сидения в засаде. И не видя танков шмальнул куда глаза глядят.
— А у нас спокойно. И это не к добру. Не к добру … Надо было всё-таки снять ватник.
Он вытащил и тут же вставил магазин ППС- просто так по привычке. Проверять то было нечего. Он ещё не сделал ни одного выстрела.
— Вот так бы до Победы. — он улыбнулся, и свистнул три раза.
Через минуту, рядом с ним присел Федор.
— Ну ты чего Артемич?
— Да ничего. Пусто. Похоже все фрицы там. Слышишь?
— Да там наших причесывали знатно. Но херня. Не сорок первый! Ща побреют гансиков под ноль. Пулемёт то уже сдох похоже. Так чего делаем старшой?
— Значит так Федя. Идём по этой стороне. По твоей смысла нет. Видишь там одни развалины и всё выгорело. Там никого не будет. Если кто есть, то по нашей. Короче идём парой. Твой низ, мой верх. Понятно?
— Яволь комрад! Я пошёл. — надвинув пилотку поглубже на затылок, Федор мягко засеменил вперёд по улице, оглядываясь и водя своим ППШ по сторонам.
Он отстал от него на десяток шагов и шаря глазами по окнам верхних этажей, похожей рысцой потрусил следом. Улица была пуста. По дороге попалась только одна старуха, сидевшая на разбитых ступеньках подъезда, перед трупом мужика в коричневом пальто. Из оторванной, по плечо руки которого, торчала белоснежная кость. Она бубнила что-то себе под нос, покачиваясь взад-вперёд. В шагах в десяти на решётке канализации лежала та самая рука, сжимавшая винтовку маузер с погнутым стволом. На рукаве белая повязка фольксштурма. Две огромные крысы обгладывали кисть. Он топнул, а потом зацепив сапогом, швырнул в них битым стеклом. Одна из крыс тут же нырнула в ливнёвку, а вторая, вскинув морду, вперила в него злые красные глаза и ощерилась.
— Вот же твари. И война им не война.
Он вскинул автомат и навёл на крысу. И та, видно уже опытная и знавшая, что это значит, тут же юркнула за первой.
— И крысы то у них какие холёные… Надо всё-таки снять этот ватник проклятый. Уже и так вся жопа мокрая…
Он сплюнул и пригнувшись двинулся дальше. У очередной афишной тумбы, стоявшей на самом углу, где улица словно река впадала в площадь, сидел на ящике Федор, и курил немецкую сигарету.
— Ну шо дальше Петро? Нам сказали до площади. Вот она площадь. Шо делаем? Или тут курим?
— Да хрен его знает! Тут будем ждать. Не на площадь же соваться. Стопудово положат с той стороны, как телят. Вон их ратуша. А на башне небось пулемёт. А то ещё и снайпер. И наверняка не фольцы, а СС. Тут посидим, подождём. Наши придут, подкатят пушку, долбанут пару раз по башне, подравняют на этаж, потом зачистим, а там гляди, и кухня подкатит.
— Эт точно. На площадь нельзя. Проходили. И про СС ты прав. Им деваться некуда — только воевать. Этим плен не светит. Кончат сразу. Или к стенке или вздёрнут. Но я вон шо думаю Артемич. Смотри в право. Ешо правей. Вишь стеклянная не разбитая? Чего написано? А-ПО-ТХЕ-КЕ! Что это значит? Аптека! А шо у нас в аптеках Петя? Вооот! Правильно! Спирт! Давай заглянем. А оттуда и площадь вся, как на заднице у Машки — во все стороны всё видать. Там засядем и будем наших ждать. Вишь, стрельба стихла. Побрили наши фрицев, и уже бодро шагают сюда. А как придут, уже хана. Не видать тогда спирту. А так и спирту возьмём, да ещё комбату притащим этого… как его… асьпирину от кантузии. Ну старшой чего думаешь? Артёмыч! Петро! Ну?
Пётр задумался, сдвинул на затылок пилотку, прищурившись оглядел площадь.
— Ладно давай. Но что б культурно Федя. Фрицев не мордовать без дела, если кто там есть. Всё-таки аптека! Люди культурные. Врачи. Видишь красный крест. Идём так же: ты по низу, я по верху. Пошли.
И они двинулись мелкими перебежками вдоль разбитых витрин кафе и парикмахерской, где в одном кресле, так и остался сидеть на всегда, кто-то решивший постричься. Из шеи у него торчал длинный осколок витринного стекла.
Дверь аптеки оказалась не запертой.
И мало того, когда Федор открыл толчком дверь, и отпрыгнул в сторону опасаясь часто установленных немцами растяжек с гранатами, ничего не произошло. А наоборот, раздался мелодичный звон колокольчика. Пётр вбежал первым, прижимая приклад ППСа, и готовый дать очередь по первому подозрительному звуку. Но в аптеке никого не было. Аптека сияла больничной чистотой и на хромированных деталях витрины, кассы и прилавков плясали весёлые солнечные зайчики. Откуда-то из глубины помещения играла негромкая приятная музыка. Пахло валокордином и хорошим кофе. В лучах весеннего солнца, бивших через большое витринное абсолютно целое окно, клубились редкие пылинки. Размеренно тикали, огромные похожие на башню, напольные часы в человеческий рост. И большой густой фикус, стоявший на маленьком столике у окна, своими сочными, темно зелёными с лиловым оттенком листьями, придавал такое настроение всему вокруг, что казалось будто и нет и не было никогда никакой войны. Где-то далеко внутри тихо зашевелилось давно позабытое чувство спокойствия и уюта. Чувство росло и кресло. Он будоражило и одновременно отбрасывало далеко назад, в то уже почти сказочное, и счастливое довоенное прошлое. Пётр опустил автомат, и вытер лицо пилоткой. Федор, на минуту растерявшийся от этого давно не видимого и уютного, и по тому не понятного окружения, быстро пришел в себя и закрутив головой, скользя глазами по витринам, зло проговорил. Скорее даже прошипел:
— Вот суки. Даже не попрятали ничего. Борзые твари. — сплюнул и добавил, выкрикивая: — Ау! Есть кто? Них шисен. Гитлер капут.
На сколько было велико их удивление, когда тут же через секунду, из-за двери за стойкой раздался звонкий доброжелательный голос:
— Я! Я!
И распахнув дверь за стойкой, вышел крупный седовласый мужчина лет пятидесяти пяти, а за ним прижимая мальчика с колючими белёсыми глазами, женщина средних лет. Довольно симпатичная, ухоженная и с широкой доброй улыбкой.
— Гуттен так офицерен! – произнес, улыбаясь мужчина и за ним повторили женщина и мальчик.
— Гитлер капут! Рот фронт! — мужчина поднял сжатый в коммунистическом приветствии кулак, и заулыбался.
— Гутен вам фрау и … фазер. Мы есть красная армия. Гитлер капут. Мы вас них шиссен. Спиритус есть? Спи- ри- тус?! Фриц? Ганс? Как там тебя? Есть спирт у тебя или нет? Шнапс?! Яволь? — Федор навёл свой ППШ на немца. А другой рукой провел по шее, продемонстрировав международный жест желания выпить.
— А? Я. Я!!! Спиритус. Я. Я. Гуд! Дринкен! Шнапс! Я. Я! — немец стал шарить под прилавком, а потом выставил на стойку большую литровую аптекарскую бутыль с притертой пробкой.
Федор оглянулся на товарища и уже улыбаясь, лучистыми голубыми глазами и своей очаровательной белозубой, сводившей всех девок деревни с ума улыбкой, громко сказал:
— Ну вот Петя, а ты говорил! Есть и Спирт и асьпирину найдем. Правильно зашли. Ты ж знаешь — у меня чуйка! Будешь пробывать? Ты ж старшой! Тебе и пробовать.
— Не я не буду. Жара. Спарился весь. Истек уже словно сало. Мочи нет, как пить хочу. Давай ты. Я вечером. По холодку. И воды спроси у них.
— Ну как хочешь. А я попробую. Фёдор закинул за спину автомат и двумя руками поднял бутылку.
-Ну за победу! — весело выкрикнул, подмигнул и сделал два крупных глотка.
Выдохнул, улыбнулся, и вдруг через секунду захрипел, выронил бутыль и схватившись за горло повалился на пол. Ещё несколько мгновений он извивался в конвульсиях, а потом дернувшись всем телом затих, выпучив свои ярко голубые тамбовские глаза. Пётр рванулся к другу, но половине шага его остановил заразительный, словно ржание породистого жеребца, смех. Это хохотал немец аптекарь, повторяя сквозь смех:
— Русишь швайн! Юден камисарен! Швайн. Капут!
И следом за ним раздался звонкий смех женщины, а затем и мальчика.
— Русишь швайн! Швайн! Юден камисарен капут!
Пётр вскинул автомат и дал размашистую очередь. И сразу ещё одну и ещё. Посыпались стекла витрин, разлетелись в разные стороны осколки склянок, пузырьков и банок, перемешиваясь с брызгами крови и мозгов. Он расстрелял весь рожок, вставил ещё один и снова стал поливать горячим свинцом всё вокруг себя. Лопнула с визгом какая-то пружина в огромных часах, валялся срезанный, словно на покосе фикус, и тела немцев уже превратились в месиво, а он стрелял и стрелял и стрелял, пока не выстрелил всё до последнего патрона во всех четырех рожках. А потом обессиленный, оглохший от горя и стрельбы, он упал на колени перед телом Фёдора, и заплакал. Первый раз за три года войны. И горячие слёзы текли по потным и пыльным щекам и падали на лицо его друга. А тот, уже будучи далеко- далеко от сюда, мирно смотрел куда-то в вечную пустоту, и казалось Петру, что он улыбается…
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.