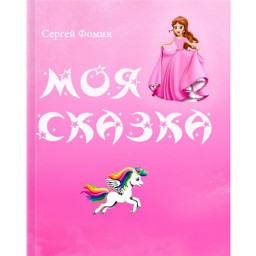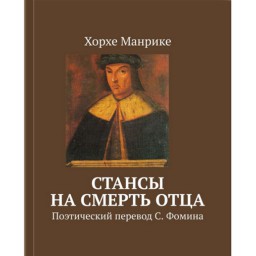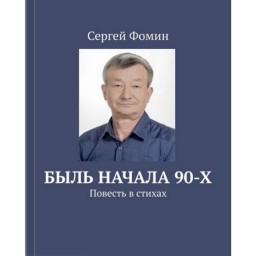Архивы мастерской
Я проваливаюсь на ЕГЭ*
Я проваливаюсь на ЕГЭ постоянно – на русском,
В аллоформы морфем не вхожу, не справляюсь с нагрузкой
Артикуляционных нюансов и слогораздела
В орфоэпии. И — паникую, не знаю, что делать,
Ведь слова то свои всё, я метонимически вижу
Всю их поликативность, — чай, русский, — но смят и недвижим.
Наирусскоснейшие слова, не бывает русее!
Парадигмы субморф аффиксальных, а я вдруг рассеян
Перед нейтрализацией признаков субстантивата.
Все вопросы простые, язык то родной – виноват и
Сочинять начинаю… стихи, вот такие, как этот.
И пишу их, пишу их с надеждой, а вдруг как поэту
Мне, неграмотному, их коннотационно зачтут.
И в поту просыпаюсь от фразы «Нет, вам здесь не тут!»
Мысль непостижимая, а… словно расцеловала
Прямо в мозг, и я в норме… до следующего провала.
*Единый государственный экзамен
Тук-тук
Тук-тук – открыл глаза и слышу стук –
Так капли с крыш, ныряют в талый снег
За окнами, оттаяв по весне.
И тут же понимаю, это – тут,
Не за окном — по клавишам стучат –
Жена ли, сын, не важно – человек
Родной проснулся с мыслью в голове,
Оттаявшей в волнах или в лучах,
Не важно — пальцы дроби бьют глухие
Весенние порывисто – стихия!
Крик петуха
У меня был петух. Предрассветную тьму
Разрывая на части,
Он кричал что-то вдруг, не понятно кому
Или просто от счастья.
И хотелось за криком, к морям, где гудки,
Что сродни этим крикам,
Сквозь туман, одиноки и так далеки,
Отзываются хрипло.
И хотелось к вершинам взлететь. Налету
Он ронял свои перья.
Ими я и пишу никому, в пустоту
Каждой ночью теперь я.
Бумага
Очень давний роман у бумаги со мной:
Я сражён чистотой её и глубиной,
Этим внешним безмолвьем заснеженной чащи,
Что лишь тронешь, а там — целый лес — настоящий
Лес в листе!
И идёшь им, бывает, устал,
А рука — ещё там — всё скользит вдоль листа.
Заголовок
Оттого ли, что прежде всего и везде было Слово,
И оно – слово Бог, для всего остального в Начале,
Мир вещей покидают слова – он, пустея, печален
Как газетный, оторванный сам от себя — заголовок,
Потерявший своё содержание, мимо летящий,
В тот момент, когда часть его (мученически) святая
Расстелилась с селёдкой внутри на насиженный ящик
Под стаканы — легла – на ней режут, и тут же читают,
Но — лишь цифры, события, факты – фрагменты романа…
Без Начала. Течёт по ней пойло для мир этот пьющих,
Вдруг один пропускает, встаёт, обделён и обманут, —
Видит он, — и бежит за названием недостающим.
Фотокамера
Вот в камеру, как в дверь, влетает свет –
Мгновенный срок — и вылетает птицей.
Гляжу на фото и ищу ответ:
Как свет мгновенья смог оборотиться
Эпохой, там оставшись на века
Таким, как есть, проникнув в наши лица
Пожизненно. Где мы — ещё, пока —
Всё те же, те. И это длится, длится...
Групповой фотопортрет
Мы за столом сидим. Пленэр в начале,
Тогда, я помню, пели и кричали,
Но выписаны местным фонарём
И чьим-то «Зорким», так, будто умрём
Все-все ещё тогда, на том пленэре,
В такой реалистической манере,
Как будто у Рембрандта мы — с руками
Из мрака силой вырваны… На Каме,
Под звёздами… Потом мы стол покинем
По одному навек уже такими,
Уйдём во тьму, чтоб снова с нею слиться,
Оставив свету эти наши лица.
Многослойность эмали
Делал «Древнюю Русь» — не пошла. И я тут же над нею
«Неолит» (сто веков) положил, и в просветах сильнее...
Стала форма Руси! Ожила, из глубин проникая
Через головы предков: «Я позже, смотрите, какая,
Я сложней, а при этом...! Где логика, правда? — Измена!»
И уже только этой манерой своей современна.
Рисунок в Летнем саду
Они в саду как паузы мертвы
Намеренно. И тем неотразимы
Все эти нимфы, голые как зимы
И белые среди живой листвы.
А я нарисовал их, как умел,
Углём, ещё любитель, словно выел
С натуры в пустоте бумажный мел,
Они и получились как живые,
С загаром среди снега. А рука
Всё хочет удержать, и будто жаль их,
Уже живых — вновь просит уголька
Того же — отогреть, чтоб не сбежали.
Архивы мастерской
Моряк, океан обнимавший,
Приходит, меня обнимает.
«Художник, смотри: я и плавал
В глубинах, — не только ходил.
А что на руках мне осталось?
Одни мои сны да усталость,
Какая-то соль на ладонях,
Под кожей, да вот — ещё ты».
А следом приходит мой лётчик,
Пилот, обнимавший всё небо,
Шофёр, обнимавший все дали,
Приносят тоску и мечты.
Проходят в пустую картину,
Судачат, разводят руками:
«Рисуй наши души с натуры —
Попробуй хоть что-то вернуть!»
И вот я рисую им в руки
Волну с белой пеной дымящей,
И облако в виде подушки,
И дымную даль-глубину.
И точечку на горизонте
Рисую, где сходятся рельсы,
Балансы и люди и боги,
Как знак завершенья пути.
Друзья, поднимаясь, уходят,
Довольные, пусть ненадолго,
Оставив в картине лишь дыры.
А мне куда с ними идти?
Зандан
Зандану Дугарову, скульптору
Весна у нас в этом году наступила так бурно -
За ночь смыло лавы-мосты и, как пьяные дурни,
С утра притащились они в своих льдинах и лезут
На мост наш, который один среди них из железа.
И — держится — вижу я — в шоке — впервые их встретил,
Своих ближних братьев. Они же ему: «Будешь третьим,
Братан, принимай нас! Признал?» И вот бьют его в плечи,
Расталкивают, обнимают, перила калеча —
А сами-то — «в хлам уже!» — в гости-таки залезают
На мост наш ложатся, и… сходит река, как слеза их
Нетрезвая. Вот… мы идём по ним всем уже — «Встреча
На Эльбе», картина — смеёмся, и слышим их речи...
Я вспомнил, Зандан, как мы были на практике в Дани
Ты, скульптор бурятский, и я, живописец из Суздаля,
Гуляли по Фюну, по древнему городу Одина*.
А рядом, ходили средь нас эскимосы гренландские,
Те, что прилетают туда регулярно — расслабиться,
Попить-подурить, покурить что-нибудь европейское.
Мы, словно два разные мира, друг друга не трогали,
Я не замечал их особенно, ты был внимательней...
И вот — та картине с мостами — они вдруг бросаются
Все дружно к тебе, обнимаются, пальцами тыкают
В тебя, дескать, мы распознали, довольно куражиться
Над нами, наш брат-инуит, из посёлка такого-то,
Таких-то родня, говорят тебе по-инуитскому...
А ты говоришь по-английски им: «Я из Бурятии,
Студент, вы ошиблись...» И… видят они — ошибаются,
Хоть внешне похожи вы, но говорят тебе: «Вспомни нас,
Как можешь, дружок, не на нашем, пускай — по-хорошему,
Нельзя нам лицо потерять!» И вот ты вспоминаешь их -
Я вижу это по работам твоим — как вы мамонта,
Ещё вами вместе убитого, косточку резали
Лет двадцать всего-то назад тому (тысяч, конечно же).
Пусть кто-нибудь скажет мне: «Нет, не живут люди столько-то!»
Живут — вспоминаясь в работах своих, продолжаясь в них -
Не надо шаманом быть — искусствоведом достаточно,
Чтоб это понять, да такие и не умирают ведь.
И эти мосты… — ты ведь сам создаёшь их, Занданище! -
Меж этносами и культурами, временем, вечностью...
*Город Оденсе.
Жак-смотритель. Музей Родена
Закрывают музей – и он сразу стремится к «своим» -
На диван у экранов, с кофейником — вместо Родена,
За хозяина — китель снимает и думает: «им»
Это всё, телевизор и тапочки, пусть, хоть наденут…
Первым вваливается Мыслитель: «Насилу дошёл, -
Говорит, — ещё не разогнулся, кто нынче играет?
Жак, дружище, ах, если б ты знал, как это… хорошо –
Хоть на время не думать!» — «О, знаю, родимый, стараюсь, -
Отвечает охранник, — я сам… Ангулем – ПСЖ…»
Вот и девы пришли – из «Любви», из «Рассвета», из «Мая» —
Парни курят – « Месье, — говорят, — как нам тяжко, уже
Целый век…» — «Да, родные, кивает он им, — понимаю,
Одевайте халатики, тапочки…» Пьют кофеёк….
«… Так прекрасны — «живые(!)» — хоть снова лепи их с натуры, -
Жак даёт интервью, — и у каждой при этом своё…,
Я — им свой, тридцать лет без взысканий, уже — как скульптура».
Стихи или картины
Писать стихи или картины
По мне – одно, процесс единый.
Но прячут, знаю я, украдкой
Художники в столы тетрадки
Стихов, что душу распирают,
Стыдясь. Как будто мать вторая
Их кормит, а должна одна
Быть мерой пройдена до дна.
И мне шептали: «Выбирай:
Отец и Мать – с кем хочешь в рай?»
А я дитя, мне больно это –
Предать в художнике поэта.
В Эрмитаже
Юным ещё приходя в Эрмитаж,
Шёл я в Египет, на нижний этаж,
Через барханы и тёмные залы
С мыслью: а вдруг это мне показалось?
Есть оно, чудо? И видел, что есть —
Губы богини — как тайная весть.
В них оживает и светится камень,
Мне говорит что-то тихо веками.
И уходил я в то тысячелетье.
Что-то съедал и курил в туалете,
Всё размышляя: богиня, конечно,
Очень красиво, но это — не внешность,
Это… И шёл сквозь музей не спеша.
Юная торжествовала душа.
Музей Арсэ в Париже
Искусство, что здесь лишь приснилось или показалось
Да так и застыло, исполнено духом вокзала,
Повисло как солнце в дыму и тумане — двойное,
Разорвано веком, мечтаниями и войною.
Искусство, как крики носильщиков «Посторонитесь!»,
Зстывшие с грохотом вместе и вместо. как нити,
Нас связывающие, жизнь, за которой усталость:
Пути, паровозы убрали — искусство осталось.
Реставраторы и Венецианов
На рентгене в лице Петра Первого
В слое первом под слоем вторым
Обнаружили глаз его третий.
Вот ведь символ! — Скрывался от них до поры -
А ведь знак! Коллектив его встретив,
Как триумф, чтоб не вышло наружу,
Через силу скрывает свой трепет,
Будто их это глаз обнаружен
Третий… Хочется отреставрировать смысл,
Поменять под картиной табличку,
Времена, представления, что-нибудь смыв,
«Доложить генеральному, лично!»
А художник три века сидит в мастерской
Сам себе непонятен, неравен
«Чуден мир, — говорит, — а нелепый какой:
Реставратор художником правит!»
В волнах потрясений
В волнах потрясений, под тучей души беспросветной
Жду птицу-удачу свою с виноградною веткой
Какой-нибудь рифмы и темы как добрую весть:
Лоза! Это значит и песня, поэзия есть.
Пусто в городе
Пусто в городе — только торговец, его говорок
Заговорщический: «Рулька, зельц, творожок, медовушка…» -
Прохожу… и ещё его слышу как будто – на ушко
Кто-то свыше мне: «Рильке, Лисняночка, Шварц, Кушнерок…»
Пейзажи стареют
Пейзажи стареют и, благо, коль есть у них имя –
Они, как актёры, которых мы помним «такими»,
Не столько играют – кричат, чтобы их замечали.
И свет от них – как через сумрак – в нём больше печали.
Хитиновый покров
Одновременно он и внешность, и скелет.
Хитиновый покров жука живучей…
Жука — как голос в записи певучей
Себя, певца, на сотни-сотни лет.
А живы ли мы, скрытые в броне,
В картинах, изготовленных для рамы,
Да в записи, в трёхмерных фонограммах,
Скелетом обращённые вовне?
Где-то там (поезд)
Я люблю, чтобы ночь не глухая была, а лишь тихая,
Как-то раз просыпаюсь и слышу вдруг — часики тикают...
Где-то там..., и вдруг так захотелось, чтоб наверняка
Стало, больше ещё — от гремящего товарняка -
Где-то-там — пустоты во мне… Чувствую, хочет потрогать
Пустоту эта ту, что в движении ищет дорогу
Где-то там. Тело ищет любовь, разум речь свою жаждет,
Смерть — рождения нового, каждое ждёт себя в каждом
Где-то там. Где-то там время вечность во тьме свою ищет,
Чтобы стать очевиднее там где-то, явственней, чище,
Оно ходит в душе где-то там, по забытым местам,
Где-то там, где-то там, где-то там, где-то там, где-то там.
Свет фар
Когда свет фар в ночи один, бегущий,
Всё трогает в движении своём,
Деревья из кромешной чёрной гущи
К дороге вычленяются, в объём.
Им нужен свет дневной. Они — соседи
Его, и голос, уши, и глаза,
Подходят посмотреть: не он ли едет? —
Не он! — И снова пятятся назад.
Уральский океан
Ракушки, что в камне, здесь были вольны
Со дна, выживая, стремиться всё выше,
Из ила и мрака на гребень волны,
Чтоб звёзды увидеть и дождик услышать.
И видят они, погружённые в сон,
В веков миллионах, в волнах-монолитах,
Как дивно, причудливо вздыбился он,
Урал-океан их застывший, отлитый
В породы фантазий, их форма одна
И и та же… На что ещё это похоже,
Как не на мечтания первых у дна
Ракушек, смотрящих теперь на прохожих?
Карельская слобода
Слободка: огни только вижу
Проездом, всегда в отдаленье -
Неведомая, она ближе,
Милей мне всех местных селений.
Там старый красивый порядок
И быт, как из прошлого эхо,
И речка, и храм… Я был рядом,
Смотрел из полей — не доехал.
То с грязью не сладил, то с пылью,
Пытался, но — не принимает.
И пусть. Не раскрывшись мне былью,
Она будто сказка немая.
Слепая река её лижет
Лениво — в моём представленье.
Нездешняя, мне она ближе
Знакомых ближайших селений.
Синий камень
И не очень большой, и на счёт синевы тут вопросы -
Тёмно-серый, и «чудо» его объясняется просто.
У Плещеева озера в землю под Клещином* вросший,
Он с ближайшей горы был монахами первыми сброшен
Да утоплен. Зимой его в прорубь столкнули, как в омут
Тёмной злобы, за то, что ходили к нему, как к живому.
А весною он с донною льдиной вернулся на берег
Победителем, лишь утвердившись в Перуновой вере.
Все решили, что чудо, оставили на берегу,
Примирились… и деньги берут за показ, стерегут.
Я смотрю на туристов: он в каждом из нас, этот камень,
Тайный код, из глубин подсознания, всплывший. Веками
Потому и идём к нему дружной толпою покорно,
Как к живому, с мольбою, и он нас надеждами кормит,
Как язычников, нас, трезво мылящих, непогрешимых.
Мы стыдимся его и возносим, свергая с вершины,
Ополчившись, идём на него, как на Русь из России,
Но приходим и любим, и гладим, назвав его синим,
Чтоб уехать и знать: он ползёт, возвращается в гору,
На которой остались валы, а когда-то был город.
*Клещин – древнее городище близ Переславля.
Весенняя песня
Неброская птица холодной весною
И будит, и славит пространство лесное.
Поёт,
будто звуками в небо врастая,
В полёт —
всеми вёснами, будущим, стаей.
И мир раздвигается, красочный, кружит,
Цветущий уже, ещё голый снаружи.
Вторая жизнь
Так звучала в руках его — струны уставшие рвались!
Повисала на нём, растворялась… — не знаю, жива ли.
Говорили одни, что без струн стала деревом — просто,
Говорили другие — не просто — способной для роста.
Жизнь теперь у неё, — говорили, — открылась вторая,
Ветви в небо пустила как руки, да ими играет
На невидимых струнах, на тех, что под ними звучали,
Под руками — и нежно, и страстно, как в самом начале.
Пан и нимфа
На тракторе среди лесных дорог
Я встретил Пана, дующего в рог.
И нимфу с ним лесную: так мила
Она была, что косы расплела…
А он глядел сквозь нас, как неживой,
В дремучий вольный мир, волшебный, свой,
Где пели ему нивы, его даль
И всё ещё давил ногой педаль...
Ему кричали в ухо: «Дуй опять!»
А мне сказали: «В нём промиллей — пять!»
И стало жаль мне всех — настолько жаль,
Что я не стал свидетелем — бежал.
Колодец
Колодец: всплеск неба во тьме подо мной
Тащу, словно память, со всей глубиной,
В бадье на цепи, как из будки, на свет.
И солнце её наполняет — привет,
Разбуженных воспоминаний круги,
Моих отражений и чьих-то других!
Других, убегающих в прошлое, вспять,
Дрожащие губы целую — опять
Круги.
Татарник
Татарник — и в памяти — «Хаджи-Мурат»
И скрытые жилы, как войны.
И корни глубин у заросших оград,
На склонах — колючий и вольный
Татарник. Он там, где разбита судьба,
Он — как из поруганной чести,
Из боли — и форма колюча, груба,
Но всюду — как дома, на месте.
Цикорий
Люблю этот синий цикорий,
Пролившийся с неба в поля,
Как бездна, смотрящая в корень
Со стебля. Им всходит земля
На нёбо, как в небо — земного
Глотка аромат неземной -
Обратно — горчащий немного,
Полынный какой-то, родной.
В лугах
В лугах — у каждого своё —
Начало вольное, живое.
Мой луг попьёт, да попоёт,
И выдохнет дурман-травою
В лицо. И я, уже хмельной
От этих запахов, условий
Иду к нему тропой-весной
А он меня в объятья ловит,
Приплясывая: «Здравствуй, друг!
Давненько…» Ай! – спина сырая…
Ещё!.. И никого вокруг.
Лишь ветер слёзы вытирает.
Зимний туман
В школу бегу весь в кристалликах льда.
Хруст и туман, а мороз — пятьдесят.
Пар от дыхания тоже вода,
Значит и память: слова-то висят
Облачком, белые, над головой —
В комиксах только такое бывает!
Видимый возглас светящийся свой
Каждый несёт, даже просто зевая.
Дядька с весёлым «Приветом» в усах,
Девочка с кротким «Пока» на ресницах…
В школу бегу, а вокруг голоса,
Мысли, рассказы. И это не снится.
Вижу: ладонь на узорах стекла
След свой протаяла в тайны кристаллов.
Память по линии жизни стекла
Струйкой в рукав. И чего-то не стало.
По дворам
По дворам, пустырям, заколкам знакомым с утра
Я бегу за детьми и шарахается детвора
От меня, толстяка. Без причины, для смеха бегу,
То мента из себя представляя, то бабу-Ягу.
А они меня так будто тащат на юных ногах,
Вот уже я в лугах где-то с ними, вот где-то в снегах.
И уже понимаю — бегут от морщин и седин,
От моей полноты – вот уже остаётся один.
Я углы ему режу, ходы его вижу вперёд,
Наконец, нагоняю — он знает, что не удерёт -
Всё же возраст за мною, к тому же я не чемпион...
Останавливаемся, дышу — ровно так же как он,
Разворачиваемся — глядит, будто в чём виноват.
Это – детство моё – говорит – подбираю слова…
Из юности
Земля покинута теплом.
И я переживаю,
Как она быстро о былом,
О лете забывает.
Надолго, от Покрова дня,
Под снегом и — другая
Уже, не чувствует меня.
А я всё тот, шагаю,
Спешу вписать: «Как он приник
К ней, совершенно голой!»
И детский свой ищу дневник,
И рифму для глагола.
Пирамидальные тополя
Их не много, высоких и стройных, на наших широтах –
Выживают не многие – цепью идут по полям,
Вдоль дорог, десантируясь с юга повзводно, поротно,
К Чайхане прижимаясь, к Шашлычной, (к своим). Тополя
Эти пирамидальные дальние, редкие встречные,
Друг за друга цепляясь, в морозы-метели, в снегах
Прикрывают собою Хинкальные и Чебуречные,
Образ юга, дыхание… — насмерть стоят за юга
Ангурийская ночь
Днём мы их взяли – увидели на пустыре – наугад,
Так, кулаком только тюкнули в темя – и вся недолга!
Сразу в багажник, приехали – теплятся! Нож и свеча.
Мальчики? – крутим их, шлёпаем – девочки? – надо кончать…
Ночь ангурийская красная, сладкая страшно внутри,
Хрящика корочка лопает, вспорота с хрустом — утрись!
Косточки, звёзды рассыпаны бисером порванных бус,
«О»(!) — как в разрезе — anguria*, ягода, он же – арбуз.
*Аnguria — по итальянски арбуз
Кладбище на юге
С юных лет, встретив кладбище с видом на море,
Где всё — горы да парки, дворцы и жара
А-бри-ко-со-ва-я, и – ни боли, ни горя,
Как не стыдно, я думал, им здесь умирать!
Здесь цикады поют, и из этого рая
Вдруг уйти, неизвестно зачем и куда!
Значит — вкус потерять или меру, играя
В правду жизни, чтоб стала возможной беда.
Чтобы всплыли здесь эти кресты и оградки —
Из таёжной болотины, тундровых трав,
Где за счастье отмучившись, скрыться украдкой
В лучший мир, это — здесь. Я ребёнком был прав.
В Феодосии
На жаре очень старый в костюме татарин с весами,
Прибывающих в рай этот, взвешивает небесами.
Хлеб по тридцать рублей, – он берёт за услугу лишь пять, -
Точно ведает, ангел их, новеньких, взвесит опять.
И отдаст ещё сдачу им, каждому, с этих монет
Равновесною мерой удачи, чего у них нет.
А они, обновлённые, в город пойдут поутру,
Сувениров, да снеди по больше себе наберут.
Встретят деда с весами, начнут ему что-то дарить,
Уговаривать станут поднять хоть немного тариф.
Он опять скажет: «Нет, ничего я не стану менять,
Я хочу одного, чтобы все жили лучше меня».
Дождь в Абхазии
В «Прогулках по Абхазии -Апсны*
Написано: там дождь проходит ночью,
А дни ясны. И, правда, будто сны
Кошмарные, дожди там – это точно.
Представь, ты спишь, когда из тишины
Внезапно за стеной рванут копыта –
Абреки! – миг – и вот они, слышны
Орудия, и взрывом дом испытан,
Шатается. А бой уже течёт
Во всю, переполняясь, будто в радость.
Мелькают тени, мысли: что, ещё
Страшнее может быть?! И пули градом
Секут листву, но миг – и все замрут,
Сражённые: абреки, кони, взрывы…
И вспомнишь из брошюры по утру:
Апсны — страна души, её порывов.
Апсны* — «Страна души», самоназвание Абхазии.
Лодки
Пустые лодки спят, как псы цепные,
На берегу — как надоели сны им!
А в ночь придёт вода и все рванут
Хоть на моря и к звёздам, хоть ко дну,
Лишь бы уйти! Но цепь, опять крепка,
Вернёт назад, не вырваться пока.
Отец на лыжах
В полях забывания, фальши и лжи,
Преодолевая их, лыжник бежит,
На стареньких лыжах сияющим днём.
Рюкзак за спиной, и я знаю, что в нём —
Труды его, книги, коллекции мух,
Пакетик кефира, на ужин ему.
А следом за ним прямо в поле растут:
Научный, основанный им, институт*,
Построенный дом, дачи, сад, огороды,
Семья, аспиранты… А дальше природа
Меняется, ветер вздымает пургу,
И вот я уже различить не могу
Черты, мне знакомого с детства лица.
И так — всякий раз, вспоминая отца.
*ВНИИВЭА (энтомологии и арахнологии) в Тюмени в 60-е годы.
А пью её
Кран, счётчики, фильтры, заглушки -
Сплошные углы, развороты –
Бежит вода в трубах дюймовых,
Не видит, не слышит себя,
Забыла. Как чайник вскипает,
Свистит – я обычно забывчив,
А пью её и — вспоминаю,
Представьте, всё больше себя.
Два серпа
Мы жили в два серпа — жары и холода,
Которые смотрели из небес.
Один был серп земли, который с молотом,
Другой — луны, меж звёздами и без.
Серпы всегда страшны: не терпят лишнего,
Всё резали и режут без конца.
Но лунный серп — от имени Всевышнего,
А наш — в руках жестокого жреца.
Во имя света общего народного
Трудился жрец, во власти тёмных сил.
И резал, словно тело инородное,
Народ — народу в жертву приносил.
Хотел быть богом жрец, кроил, выкашивал
Любил простор — костями засевал.
Пока его свет лунного, не нашего
Серпа к себе однажды не призвал.
И вот — одни лишь всходы запустения
В стране, в душе, и некому их сжать.
И как идея, призрак бродит, тень его,
Усатого, с большим серпом ножа.
Вина
«Коллективная я, — говорит — марсельезу насвистывать
Ходит по кабакам она, — нет, говорят, — групповая ты,
Персональная ты, — поправляют её, — большевистская».
Среди вин ходит брага, вина, бродит и — забывается,
На колени садится к потомкам крестьян раскулаченных,
Внукам белых попов говорит: «Мне прощенья не надобно,
Ты возьми меня, друг, и признай за свою — будем в складчину
Снова жить да гулять...» Забывание — лучшее снадобье,
И — сдаются они, и прощают, признав её общею,
А тем самым — ничьею — страдала ведь тоже… «Сидела я, -
Говорит она, — вместе со всеми» — наследие отчее
Этих всех она и добирает, дела свои делая.
Я сплю
Я сплю, и идёт моя старая кошка по мне
Куда-то мне в ноги, на север, на край, к океану -
Моей же рукой, берегами Оби. И во сне
Я вижу: всё через меня лишь идёт, и не стану
Менять я течение сна (так — себе изменять)
Ведь я его берег и дно-материк, неподвижен,
Лишь чувствую им. А меж тем далеко от меня
С Байкала по залу мой кот режет путь, и я вижу
Его этим чувством, что норма, конечно, для сна.
Он тоже к Ямалу идёт, но уже Енисеем,
Не через меня уже – роль мне его не ясна.
Меж тем он уверен и даже, как будто рассеян,
Влезает мне в ноги, и точно, как «первый-второй»,
Лежат они, сфинксы, у моря ночного бок обок.
И в смысл законченный смотрятся, шепчут: «Открой,
То, что обособили мы как подобие скобок!»
И я их как скобки уже открываю… — глаза.
Я вижу их — спины оракулов – можно потрогать,
Погладить… Реальность — как сон — выходящие за
Пределы свои, неприметные день, и дорога.
Бандана — бахилы
Бандана! Заморское слово «бандана»
В приёмном покое я только услышал
Одно это слово — не к месту, нежданно –
И сразу тамтамы откликнулись свыше.
И чайки взметнулись меж дюнами где-то,
Дыхнуло волною, кострами… и тесно
Им стало скрываться условным ответом
Во мне, как в бандане — под словом неместным.
Бандана на память узлом затянулась
Но стало опять всё и дробным, и хилым,
Безвольно всё рухнуло и утонуло,
Когда я услышал: «Наденьте бахилы!»
Бахилы, Заморское слово «бахилы»…
В музее. Нож и смартфон
Одним своим ножом мой предок древний
И стол скоблил, и дудочку строгал.
И брился им, и скот валил в деревне,
И пуповины резал, и врага.
Всю тушу-время вспарывал, как зверя,
Разделывал, рубил и свежевал –
С ним выживал, как в друга в него верил,
Да в рун своих резные кружева.
В дощечках растекаясь, на берёстах
Посланиями с кончика ножа,
К нам предок шёл сюда, на перекрёсток
Времён. И вот лежит, устал бежать
Сей нож тропою войн, щелей, лазеек
Истории… Мы можем расплести
Весь путь его, как узел, здесь, в музее
Одним смартфоном, стоит поднести
Его к штрих-коду и войти сигналом,
Неслышным по вибрациям ножа
В тот век, где и себя ещё не знал он.
Довольно… только кнопочку нажать
Смартфона, он — заменою ножу,
Возможностями только приумножен…
Но я не стану доставать из ножен
Его здесь при ноже, не обнажу.
Занавес
«Дело в занавесе, – мне шептал режиссёр, — понимаешь? –
Видно, как он встаёт и кинжал из груди вынимает,
Хлопнул стопку, хрустнул огурцом и её – она та ещё… -
Хвать за ягодицы – вот вам жизнь, себя перерастающая!
Зал в восторге – он в роли Творца… И идут на поклоны,
Поднимается занавес — да, проседают колонны,
Потолок, но не нужно таланта, не нужно лица ему –
Занавес…
зрителю дай
в одну сторону
проницаемый».
Плод всеобщей любви
Плод всеобщей любви, кучерявый поэт, ходит в каске,
В овременной броне и читает стихи свои, сказки
Правильным россиянам. Женат он на старенькой няне,
На Арине своей, лямку главного Сирина тянет.
По цепи ходит кругом, на столько любим и искусен,
Близок… гроб его нам — рядом, кажется, а не укусишь!
Я цель искал
Я цель искал во всём, в природе, в мире,
В своей судьбе – она была то шире,
Чем ожидал я, то чуть-чуть не та –
Меня как цель искала пустота.
Судьба одалживает
Судьба одалживает что-то, но не дарит -
Всё заберёт опять – волной прибоя,
Бесстрастна и слепа, о пирс ударит
И тащит, как добычу, за собою.
Любовь
Солнце, морем разрезанное пополам,
Как любовь, равно данная двум куполам,
Половинкам. И та, что вторая,
В небе, ярче ещё догорает,
Оставаясь в объятиях первой,
Ставшей морем, хранящей ей верность.
Волна
Хлебнул — и пошёл с ней ко дну:
Со страстью не смог совладать -
В канистрах привёз я волну,
Родным же сказал, что вода.
Любовь с одного лишь глотка!
Но в новом дворце из стекла
Она свой забыла накат,
В глазах моих не потекла.
Я думал, аквариум мал,
Испробовал много корыт,
И в ванных её принимал,
Но не был, как прежде, накрыт.
Ей нужен был берег из скал,
А мне – лишь ревнивец её,
Который бы нас отыскал -
Я знал: он стекло разобьёт
Меж нами. Так снова она
Рванулась на пол голубой -
На миг, но, как прежде, вольна,
Решила остаться собой.
И шумом наполнился зал
С тех пор, напитав синеву.
«Простите, — соседям сказал, -
Пролил вас – с волною живу».
В пустынях любимых
Впервые брачующиеся незряче, на ощупь
Ищут в пустынях любимых заветные рощи
С пищей, блуждая в потёмках-мирах опустелых,
Ради любви продолжения, телом по телу.
Шарят, губами, зубами цепляясь, скользя,
В безднах полётов скрываясь, срываясь в «нельзя».
Запоминают пути, где нектар свой открыли,
Мускульно как повороты со взмахами крыльев,
Сумму движений — как чувства. Лелея и зная
Всё это, ищут опять, но уже вспоминая.
И приручаются
Там, где мой кот по ночам исчезает в окошке,
Бродит под звёздами, с кем-то дерётся, дичает -
Я это чувствую – видел уже – из-за кошки –
Зверь настоящий космический в марте ночами.
Там же, из неба навстречу в проёме оконном
Звёзды глядят на меня диковато и робко,
Просятся, входят в пространство дремотное комнат -
Покрасоваться, ложатся в кошачью коробку
Вместо него… Перекладываю их поближе
К сердцу и глажу – мурлыки! – Чешу им за ушком,
И приручаются – чую – глаза мои лижут
Звёзды, свой след оставляя к утру на подушке.
Тут и является кот мой избитый, но гордый,
И завершается круговорот их великий
В сердце моём – всех котов моих прекрасномордых
И этих звёзд нескончаемо прекрасноликих.
Леса и парки
Парк это лес, возвратившийся к людям
Псом приручённым. И мы его любим, -
Это так свойственно нам, — угнетая,
Пилим, стрижём… А иначе он в стаю
Снова метнётся на дикую вольность
Парков, бежавших от нас, недовольных
Парков, проросших в луга и поляны,
Прочь от кошмаров стальных и стеклянных.
Дом в лесу
Я встретил новый дом в лесу меж елей
Как свет: ещё венцы не потемнели.
И радостно: безлюдье, но — рождён
Он здесь, как гриб, под солнцем и дождём,
Ценой усилий всей этой округи.
И тут же вижу, жаль, он без подруги.
Да и как дом он лишь наполовину:
Тропинки нет, а значит — пуповины
От городов и сёл к порогу дома
Как связи — и ведущей, и ведомой.
Чайки
Чайки вольные, дерзкие, словно цыгане,
На полях развели свой базар, хулиганят.
Но привычны для нас, как домашние, стали.
Побираются. Может, от воли устали?
Берегам океанским незваные гости
Предпочли наш ручей… и присели на мостик:
Непонятны. Застыли, глядят в одну сторону -
Стая целая белых ворон. Или воронов.
На переезде
Красный. Звонок. И шлагбаумы в пояс –
Стой! И мальчишка, вагоны считает:
Синий, цистерны, с болванками – поезд,
Как кинолента — платформа пустая,
С щебнем, с брезентом, где всё, что угодно,
С танком, с охранником, знак «осторожно»,
Синий, зелёный, как месяцы, годы,
На переезде железнодорожном.
С лесом, со спиртом — вся жизнь показалась
Движущейся поперечно дорогой -
Синий, зелёный, цепочка вокзалов,
Станций, платформы, последняя… Трогай!
Улей
Есть ли кто в мире круче пчёлы, совершенней, чем улей?
Ощетиненные и в броне, а летают, как пули.
И при этом не хищники — жизнь целиком деловая:
Изгоняют слабейших, задумавшихся убивают.
И во всём разделенье труда, и закон, и порядок.
Социальны предельно. При этом живут с нами рядом
И не трогают. Мы их слабей, устремлённые в вечность,
К ним боимся приблизиться – речь услыхать человечью.
Вниз по течению
По улице, помню, по руслу реки
Вниз по течению,
Видел из окон я, как сплавляли плоты речники.
В праздник на стройки
В потоке высоком.
Толпы, один катерок с плотогоном
Вёл, целый бор.
Все боялись: погоны.
Он, плотогон, И следил, помогая,
длинным багром,
Что несут, как шагают.
Были и в штатском, и те, что стучали
По принужденью. Задолго, в начале
Скобами
Разных нарочно сбивая
В эти отряды, чтоб масса живая
Двигалась.
И, намокая, на дно
Шли, под водой, будто бы все заодно
Спины судов под водой пробивали,
Мстили, особенно быстрым «Ракетам».
Кажется, кто теперь вспомнит об этом
Но и забыть это можно едва ли
Слишком уж многие не доплывали
Даже до стройки
И не доходили.
А доходили, так там уже. Или
Это топляк и я спутал, наполнив
Русла тех рек
Ими. Что же я вспомнил?
По маме дед мой
Хитёр Василий был, по маме дед мой,
А в чём, не ясно – говорили так
В родне, в семье крестьянской многодетной –
На хитрости дедуля был мастак.
Известно, воевал совсем не много –
Хитёр был(!) – вот последние слова
Его бойцам (уже был ранен в ногу):
«Удержим Тулу – устоит Москва».
Хитёт (!) И, чтобы зря не голосили,
Врага бил до последних своих сил –
Погиб в боях под Тулой дед Василий,
Мой хитрый, чтоб я кровь его носил.
Кадры катастроф
Обычны кадры катастроф,
Когда немой удар железом,
И вот — быками на коров
Вагоны друг на друга лезут
И лезут, валятся в траву,
Восстав на волю человечью.
Ещё чуть-чуть — и оживут,
Не умертвив, не изувечив
В себе кого-нибудь внутри.
«Картина страшная какая! —
Ты скажешь. — Снова, посмотри!»
Да, страшно то, что привыкаем.
Из кадра машет нам рука -
Чужая боль, чужая рана,
А мы вовне, мы, как строка,
Бегущая с телеэкрана.
Интернет-сказка
Электронное море шумит, – я забросил свой невод,
Чтоб старуху достать свою, — царь электронный разгневан.
Также сеть-социалку забросил да там и забыл
Будто нет их, иначе – никак, мы уж слишком слабы…
И открылось: старуха бьёт пальчиками по корыту, -
Это всё, что ей надо, — в бутылке прозрачной закрыта,
Стала чьим-то письмом постоянным и чтивом, живая,
Но не видит уже и не слышит меня, уплывая
В своё море видений. Я вижу её над волнами
То как точку уже, то как звёздочку — всё ещё с нами,
Но вокруг неё столько… Она среди них, волевая,
Восседает, — так кажется ей, — всеми повелевая.
Судьбы
С кем-то в покер играет судьба, с кем-то — как лотерея,
Но попробуй свою не найти, не пойти с ней — уронит
И таскать уже будет всю жизнь, до срока старея,
Судьбы бьют нас, но, только лишь переходя к обороне.
В духовности страны
В духовности страны не спрячешь душу,
Но будешь предан ей, коль сам духовен.
В строю трудней дышать, в нём — чтобы слушать,
И глохнет, задыхаясь там, Бетховен.
Словно день этот, лучший
В госпиталь передали больных нас тогда из санчасти
На учения как «пострадавших». И вот — я был счастлив,
Хоть бросали меня санитары на снег из носилок
И пинали, поскольку бежать больше не было силы.
Я был болен – вне видимости офицеров из штаба,
Но — палатки-шатры, автоклавы – романтика – табор!
Проверяющие, генерал… А природа, народы
Исчезали согласно легенде – был взрыв водородный,
Нас спасали. И счастлив я был даже после, в столовой
Там же, встретив танкистов без кожи. «Пусть только условный, -
Говорили они, — будет взрыв, мы, уроды, хоть живы,
А друзья наши…» Много я встретил неложных, не лживых,
Настоящих героев, но эти… — жениться могли бы!
Ведь наутро уже и настал этот миг мой счастливый.
Но пока что ещё я там встретил «секретных», как ветки
Из голов их торчали контакты, они так в разведку
В аппаратных своих уходили — вперёд прозревая.
И они мне сказали: «Там всюду планета живая»
И я спал. И вошла медсестра, как богиня, вся в белом,
Вдруг сказала мне: «Доброе утро!» И так поглядела –
Очень просто, открыла окно… И надежда, как лучик,
Засияла — прошло сорок лет, словно день этот, лучший.
Пингвин и летучая рыба
В бассейне одном при зверинце
Пингвин и летучая рыба
Друг друга нашли, оценили
За сложность, способность грустить.
Пингвин говорил: «Мне бы в небо!»
А рыба: «И я на глубины
Хотела бы очень вернуться» -
Пингвин стал ещё глубже плавать.
А рыба – быстрее летать.
Раскладушка в саду
Раскладушка в сад среди ближних космических тел,
Прямо передо мной — поле чёрное зрелой пшеницы -
Опрокинутое… или я высоко так взлетел -
Если долго смотреть, дух захватывает, будто — снится.
Точка движется… — Боже, с какой же это высоты …
И не спутник, а путник, единственный в поле застылом.
Если долго смотреть, видишь: он — опрокинутый ты -
Средь колосьев идёшь и — Земля за спиной, твоим тылом.
***
Ночью в небе, где звёздная россыпь,
Отчего больше мрака, чем света?
Всё, что лучшее в нас — из вопросов,
Лишь у Господа всё из ответов.
Два моря
Я слушал два моря. У дома — прибой
Реальный, как сон под луной голубой.
Волной белопенной по гальке журча,
Ворочался, трогая слепо причал.
И в доме — мой сын, не раздевшись, уснул –
Весь день это море ловил на блесну:
Дыханье его, как журчанье волны,
Карманы сырые и галькой полны.
Соль
Как вечный снег вершин лежит, не тая,
Внутри нас соль, земная ли, святая,
Соль соли, нота – годы оседают
На голову – как соль, она седая.
И мы внутри себя уже под нею,
В гранит, теряя гибкость, каменеем,
В базальт – в нас кровь, как море, солона,
Уже ей тесно, точит, как волна…
В одной пижаме, в тапочке одном,
Как в первый раз, старик глядит в окно
И думает: зима, душа, смотри,
Под снегом мир, как сам я изнутри!
Босиком
Босиком после ливня из солнца я бегал по лужам
Мнил себя моряком, сам с собой затевая игру,
А теперь я по ним лишь хожу, да, ещё они служат,
Эти лужи мне — стали морями уже и по грудь.
Ангурийская ночь
Днём мы их взяли – увидели на пустыре – наугад,
Так, кулаком только тюкнули в темя – и вся недолга!
Сразу в багажник, приехали – теплятся! Нож и свеча.
Мальчики? – крутим их, шлёпаем – девочки? – надо кончать…
Ночь ангурийская красная, сладкая страшно внутри,
Хрящика корочка лопает, вспорота с хрустом — утрись!
Косточки, звёзды рассыпаны бисером порванных бус,
«О»(!) — как в разрезе — anguria*, ягода, он же – арбуз.
*Anguria – по-итальянски арбуз.
Кусок стекла веранды рамы
Всё выбили, и лишь в одной ячейке
Кусок стекла – забыли, как солдата
В пыли на поле — взгляд фантомный чей-то,
Свидетель жизни, что текла когда-то
В веранды раму. В нём её усталость,
Препятствие для виденья сквозного
В куске стекла — добить? – ему досталось
Уже — на столько старый, что как новость
Веранды рамы. Тронут перламутром,
Он, как фрагмент, оставшийся, экрана
Веранды рамы, в нём застыло утро,
Скопились лица… Свой, простой и странный,
Сверкает — говорит: «В меня смотрите,
Я – в мир окно, вокруг же – голограмма»…
Бывает, слышишь, будто на санскрите,
Слова такие, как «веранды рама».
***
Снег новый у служебного крыльца
Две туфельки, два валенка топтали,
Творили след как красоту деталей.
И, выкурены вместе до конца,
Тонюсенькая сигаретка с «Примой» -
Тут рядом. Лучше прочих для меня
Обычная драматургия дня
Обычного – она неповторима.
Воспоминания
Плетутся за тобою, словно псы
Воспоминания и, всё им давший,
Ты гонишь их назад, ты ими сыт
По горло, но они оголодавшие.
Проклёвываясь ещё только
Проклёвываясь ещё только, вживаясь в сердца,
Любовь их в начале уже не имела конца…,
В котором, как в форме скорлупки прозрачной из мела,
Испита до дна…, и начала уже не имела.
Квантовое сознание
Не владея сознанием квантовым, я в него верю,
Вижу, Бог, закрывая окно, открывает нам двери.
Всё пронизано всем – квант сознания мной обладает,
И, поэтому мама моя у меня молодая,
За стеной, за спиной, где и предки — все также со мною,
Меня тащат вперёд, их присутствие чую сквозное –
Всё пронизано. Тут же потомки мои, тоже рядом,
Меня тянут, пока я их вижу как некий порядок,
Но, и стены Господь отворяет, закрыв даже двери,
Верю в квант – всё проявлено всем – в синергетику верю.
В силу символа верю, в картины-миры на листе,
Знаю, целое больше, чем сумма его же частей
Или меньше. Поскольку «нескоро» есть то же «давно»,
Всё представлено всем — ничего ничему не равно -
Не закончено. Ныне пра-общая бабушка Ева
Соблазняет Адама плодом от познания древа.
И бегут они, изгнаны, тут же (меж нами) из Рая,
Но и, стены воздвигнув, Господь потолки убирает,
Чтоб летели уже – так задумано — ибо Он верит
В нас, людей, закрывая окно, открывает нам двери.
«Среди вод». Описание картины
На судне сермяжного быта, уродливом, старом,
Сработанном из сковородок, посуды и тары,
На судне своей повседневности, вроде корыта
Старушечьего, видим — девушка в море открытом
Сидит, часть природы, венец её — бёдра и груди -
Свидетельство этому – снасти закинула, удит.
А рыба как более древняя форма природы
Является частью подводною судна-урода -
Картина в разрезе – как будто — сознания днище.
Невидима нами, огромная, мы её ищем,
Не зная об этом. Она — в наших действиях, в слове -
Закидывая свои снасти, себя же и ловим…
И вот парадокс: между тем, кем мы были и стали
Как вид — только ноль-символ-уровень горизонтали,
Начало-поверхность, в глубинах которой отвесно
Незримая нить поплавком шевелит неизвестность.
Унху*
Унху проснулся и думает: выпить хочу,
Значит, вчера… и, однако, какой-то мой чум…
Слышит вдруг рядом – прочли его мысли: «Фиг – Вам,
Больше не выпьете — это не чум, а вигвам!» -
Девушка, с виду своя, а понятна с трудом,
Не на хантыйском сказала как будто – дурдом!»
Взял он топор, вышел к речке – навстречу: «Гав-гав, -
Пёс ему, — брось, не топор это, а томагавк! -
Лает, чужой. Унху в лодку ступает – «Кря-кря, -
Утки хохочут, — берёшь не своё всё подряд!»
Смотрит, а это – пирога, секвойи растут…
«Здравствуй, сибирский наш брат, ты в земле Маниту!» -
Сзади услышал, рука чья-то сжала плечо
И развернула – обняли его горячо,
Видит – апачи. «Брат, пить надо меньше, скажи,
Как ты попал в нашу американскую жизнь?»
— «Помню туристов, вот этих, но там был причал,
Обь, в танце ворона – я их всегда так встречал –
Бубен, однако, споткнулся…, шаман не хотел…
К вашему ворону я через полюс летел».
*Унху – имя у хантов, означающее большой человек.
В зоопарке
Я ходил и мечтал: то плыву, то лечу,
То ползу за них — всё было мне по плечу, —
Силой мысли влезал в шкуры разных зверей
И себя представлял то сильней, то быстрей.
Я прошёл зоопарк, всех посильно любя,
Словно путь эволюции весь — до себя,
Всем сопереживая. На выход бегу,
И вдруг вижу: она! И пройти не могу —
Обезьяна последняя, самка гориллы.
Так печальна была она и говорила
Гипнотическим взглядом, как мать, осуждая, —
Не могу объяснить, — совершенно седая.
Я был смят и потерян: а вдруг мы не выше?
Слава Богу, есть совесть! — решил я.
И вышел.
Совесть
Она — та собака, что днём на пути
Встречается и не кусает, но лает
И лает, меж тем позволяя пройти,
Возможно, пинка получить не желая.
А может, надеется впредь обменять
Мой корм на момент тишины и покоя:
Скотина — настолько познала меня,
Собака, не знаю, что это такое.
А ночью, случается, слышу её
Под звёздами в общей большой перекличке —
И вдруг узнаю её голос: моё
Вот это, во мне и касается лично.
Невыносима жизнь
Жизнь как недуг прожив, уже у края,
Уже без боли люди, умирая,
Без страха смерти… всё-таки грустят -
Хотели б вынести хоть что-то, ну… пустяк -
С собой. Но жизнь несносна, как всегда,
Невыносима жизнь, особенно — туда.
Видения пророчеств
Видения пророчеств, голоса -
От веры в них надёжной разомлев,
Уже почти не чудо на земле,
Но правило ещё на небесах.
Не написана давно
Жизнь в подробностях рутинных
Всех мгновений, как кино,
Как сценарий, как картина
Не написана давно.
Не придумана – боролись
За неё – наложен жгут
Чьей-то памяти – все роли,
Диалоги годы жгут.
Ждут возможности, начала –
Места — море впереди –
Миг, когда бы прокричало
Небо молча; «Всё, иди!»
Смерть — подпись
И вспышка-жизнь, и жизнь, что рутинно
Длинна — незавершённые лишь сцены,
Игра, процесс… Смерть — подпись под картиной
Как авторство, законченность и ценность.
Письма
В этих щелях, в хранилищах мрака ночного —
Для того мы и держим почтовые ящики —
Наши письма должны настояться как новость:
Так они завершаются по-настоящему.
А потом, раскрываясь уже на свету,
От неясного к явному, каждою точкой,
Они, сослепу укореняясь, растут
Сверх себя, прибавляя законченность, точность…
Их удел — прозвучать и укрыться во тьму,
В ночь стола, позабыться с другими забытыми
До поры, когда вновь их разбудят, возьмут
И откроют уже как другое событие.
Ночи Голгофы
Памяти Забродина Ю.Е. и всех, кому было отказано в необходимой медпомощи.
«Голгофу вытерпел, но как он перенёс
Блаженство воскресенья?»
«Это значит, что ночи Голгофы
Растянулись на тысячи лет»
Инна Лиснянская
В больницу явился к нам батюшка сельский. «Устал,
Всю ночь, — говорит, — на Урале… привёз вам Христа,
В колясочке тут… во спасенье!» В приёмный покой
Несёт Его, словно с картины, где Он «никакой»,
Где тянутся ночи голгофы, где Он не воскрес,
Лишь сняли Его. И не в этом уже Его крест –
Воскреснуть средь тех, кто Его посылал на маршрут
Всю ночь от больницы к больнице(!) И тут не берут:
«Не к нам, — говорят, — увозите, не наш это вид…»
Главврач моет руки, вещает: «Вот, если б COVID…
И пусть его в этом я лично не вижу вины,
Но перед Минздравом мы все, согласитесь, равны.
И мест нет… А вдруг не по плану начнёт воскресать,
И как мы вернём его в кому? Пойдут чудеса…»
А батюшка плачет: «Да тут же, средь ваших икон
Минздрав не означен, один лишь над всеми Закон…
Да ты Его в ясли хотя бы, в хлеву положи,
Глядишь, и поверит – обратно решится ожить».
Ничем
Не закончилось это решение в Нём,
И тянутся ночи Голгофы. И ночью, и днём.
Звук старый мотора
Звук старый мотора, такой тарахтящий, надтреснутый,
Из детства ещё моего иногда приближается
В ночной тишине за стеною и так удаляется
Неспешно, как будто меня ищет, но неуверенно:
То дом изменился, то фары не светят уж, блёклые...
Ему не пройти техосмотр — я знаю — он с хутора,
И может вот так лишь, по улицам спящим проехаться -
Вдруг сам я признаю… В душе всякий раз поднимается
И кружит тоска моя — пыль над дорогой просёлочной.
Плыть
Лодочкой сдвину ладони —
Плыть через мира бездонье,
Из родника зачерпнув
Свет его и тишину.
Пить отраженья, и тени,
Соки земли и растений —
Губ моих жаждущей стынью —
Плыть через мира пустыню.
Плыть через чёрную полночь
Лодочкой, звёздами полной,
Словно икону целуя,
Пить этот мир. Аллилуйя!
Рай
Рай трудно представить в деталях,
Особенно без туалетов.
А с ними совсем невозможно
Представить пространство мечты.
Но Рай ощутить очень просто —
За ручку ведя своих внуков
В прекрасный наш сказочно город,
В прозрачно волшебный закат,
От мысли, что это — реальность.
И счастье уже — лишь достаток,
Удачливость и… туалеты...
«Нет, дедушка, я не хочу».
Свой нож
Свой нож ношу я в пращуровых ножнах
Затем же, облегчая себе жизнь,
Но только мой нож сенсорный, возможно,
И побыстрей его – 4G.
Идеи войн
Идеи войн глупы и как основа
Истории безжизненны… — бессмертны,
Как звёзды, что во тьме лишь и не меркнут,
Во все века их открывают снова.
Бог
Для сердца Он внутри, зато снаружи
Для разума, ещё не обнаружен.
Для сердца Он в ночи, как уголёк,
Для разума – как звёздочка, далёк.
И вечность возвращает
Жизнь – времени потерянного пропасть,
Но в ней искусством тореные тропы
По дну, где вновь становимся детьми -
Нам вечность возвращает каждый миг.
Сижу, темнело
Не всё понятно сразу, что-то свыше
Нисходит — образ, музыка, слова ли...
Сижу, темнело — крысы, будто, слышу,
Пищат, дерутся — птицы распевались.
Мы грезили письмом
Мы грезили письмом — так легче жить -
В картине будущего, ну… и вот я в ней:
Как ярко были взяты миражи!
А явь-то… оказалась повкусней.
А дальше
А дальше что-то будет? — Не уверен,
И хорошо, неясно — и держись
За эту неизвестность, как за двери,
Единственные в эту нашу жизнь.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.