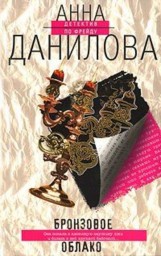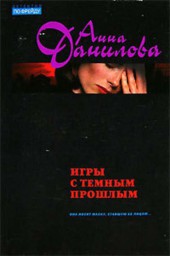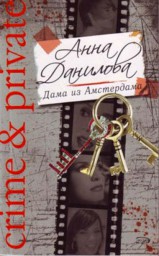От любомудрия к Истинному Христианству. (На примере творчества О.Э.Мандельштама).
От любомудрия к Истинному Христианству.
(На примере творчества О.Э.Мандельштама).
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь
(О.Э.Мандельштам)
Вступление.
Данное исследование стало результатом работы с произведениями поэзии Серебряного века. Творчество О.Э.Мандельштама, к сожалению, слишком мало известно большинству студентов, если известно вообще, как показывает практика. В то же время особого внимания заслуживает в его творчестве очень многое. Во-первых, Серебряный век как таковой – связан прежде всего с главной русской трагедией; с забвением, а после возвращением многих имён, независимо от того, покидал поэт Россию или нет. Во-вторых, «великую тройку» акмеистов — О.Э.Мандельштама, А.А.Ахматову и Н.С.Гумилёва можно считать почти что новомучениками. (О творчестве Н.С.Гумилёва у автора есть сертифицированная статья «Служение Богу и России, причастность вечности Н.С.Гумилёва». Похожая мысль заложена и в данном исследовании). Все они отказались покинуть мятежную Россию и разделили «Русскую Голгофу». В-третьих, сама жизнь О.Э.Мандельштама — яркий пример того, что понятие «русский» — прежде всего духовное. Еврей по национальности, поэт через «тернии» духовных исканий пришёл к Православию и разделил Крестный путь России – умер в пересыльном лагере. Наконец, все истинно русские поэты Серебряного века во многом продолжали традиции лирики века девятнадцатого – и это во много раз важнее любых направлений. Поэтому в исследовании отразилась преемственность творчества О.Э.Мандельштама с поэзией века девятнадцатого, а так же некоторое единство образов и тем с творчеством других поэтов Серебряного века – в т.ч. и других направлений. И произведения выбраны не самые известные – самым известным, таким, как: «Ленинград», «Век» хотелось бы посвятить продолжение.
Произведения О.Э.Мандельштама вместе с произведениями других поэтов Серебряного века читаются преподавателем и студентами во время проведения литературно-музыкальных композиций, чаще по дисциплине «Русский язык и культура речи» на втором курсе, иногда по дисциплине «Литература». (У автора исследования есть сертифицированная методическая разработка творческого занятия «Русский путь», которая в составе конкурсной работы «Страдание, возводящее к небесам» получила диплом Межрегионального Конкурса «Алтарь Отечества»). Надеюсь продолжить исследование, тем более в преддверии столетия Октябрьского переворота.
Считаю, что данное исследование может помочь глубже постичь творчество замечательного русского поэта. А также преклониться перед теми, чья жизнь стала ежедневным подвигом и искупительной жертвой.
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь:
Какая-то страсть налетела, Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.
Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен.
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружен.
Он ждет сокровенного знака,
На песнь, как на подвиг, готов:
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.
Кажется, что отразился в словах этих весь жизненный духовный опыт, к которому приходит поэт незадолго до того, как оставить этот мир и перейти в Вечность. А ещё, читая эти строки, нельзя не вспомнить величайшее произведение, которое по праву считается своего рода «хрестоматией» по созданию всех великих творений – и не только литературы, но и живописи, музыки:
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Волей Бога «исполняется» и лирический герой О.Э.Мандельштама, а по сути, — сам поэт.
И тоже «жжёт сердца людей», особенно в окаянные годы после атеистического переворота.
Камень в стихотворении О.Э.Мандельштама, как и труп в «Пророке» А.С. Пушкина, лишён жизни – и «вдохнуть» жизнь, превратить мёртвое в живое может только Дух Божий! Оттого что «Святым Духом всяка душа живится»! И совершенно очевидно, что речь не может идти только о духовном пути самого поэта – в обоих произведениях!
Шедевр А.С.Пушкина помнят, думаю, все – а в строки О.Э.Мандельштама вчитаемся внимательнее. В стихотворении говорится не только о том, что Дух Божий живит – хотя это, конечно, это — самое главное.
«Как облаком сердце одето» — ведь именно с этого начинается произведение — значит, истинного пути не ещё видно — можно заблудиться, попасться в сети лукавого – а ведь это и есть смерть. И попадали многие, особенно в двадцатом веке, в двадцатом веке, утратив духовное начало и прельстившись. И оттого-то «в темноту погружен» поэт, предназначение которого Создателем ещё не открыто. Оттого — то всё вокруг «какое-то», неясное, неопределённое. Оттого и «страсть налетела», и «тяжесть жива». В таком духовном состоянии легко сбиться с пути, впасть в отчаяние, полететь в пропасть, в бездну. И тьма в этом контексте, скорее всего, означает отсутствие Света, данного Творцом. Не случилось ещё «озарение».
В поучениях Отцов Церкви тьма часто символизирует греховность, в которой, нельзя найти путь праведности, как во тьме, нельзя различить предметов.
Только поэт «ждёт сокровенного знака», знает, что будет «знак» обязательно! Иначе, можно отдаться страстям и впасть в грех унынья. И подумать, как в ранней молодости А.С. Пушкин, что жизнь — «дар напрасный, дар случайный», и что она «на казнь обречена». (Если бы не Святитель Филарет Московский, неизвестно, прочитали ли бы мы когда-нибудь и «Маленькие трагедии», и Повести Белкина», и, конечно, «Пророка»).
А создать великое, богодухновенное можно лишь соединяясь с Творцом! Иначе – никак! Иначе не бывать «таинственности брака в простом сочетании слов»!
А ещё, думаю, в произведении присутствует и то «ожидание», которое было у апостолов, когда возносясь на небо, Спаситель обещал послать им Утешителя. А, может быть, и «мысль» Пасхальная о Вечной Жизни.
Как Пророк посвящает себя жертвенному служению; как апостолы после схождения на них Духа Святого идут проповедовать и принимают мученическую кончину за Христа; так — вольно или невольно, — но предсказал О.Э.Мандельштам и своё жертвенное служение! Еврей, принявший Крещение, отказавшийся покинуть мятежную Родину после трагедии 1917 года, поднявшийся со многими на «Русскую Голгофу»! Это он сам был «на песнь, как на подвиг, готов» — и умер в пересыльном лагере, в который был сослан за хорошо ныне известную эпиграмму н Сталина «Мы живём, под собою не чуя страны». О.Э.Мандельштам — истинно русский поэт, потому что понятие «русский» — категория духовная!
А ещё кажется совершенно непостижимым, что когда создавались эти неисчерпаемые по глубине строки, было поэту всего лишь… девятнадцать! Сам А.С.Пушкин, создавая своего «Пророка», был несколько старше и обладал гораздо большим духовным опытом.
А сейчас обратимся к стихам, созданным тоже молодым поэтом, – но несколько иного плана. Перед нами произведение, в какой-то мере тоже хрестоматийное:
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Великая троица акмеистов – А.А.Ахматова, Н.С.Гумилёв, О.Э.Мандельштам. Не только великих поэтов, но и истинно русских людей, несших жертвенное служение России, не покинувших мятежную родину, хотя каждый имел такую возможность. Преклонение перед их жизнью и творчеством заставляет задуматься, внимательнее вслушаться, всмотреться в их творчество. Так в чём же суть акмеизма?
Конечно, любое направление вторично по сравнению с Духом Божиим и душою художника, без чего в принципе нет и быть не может великого произведения. Вторично – а, может быть, и дальше от главного.
Поэтому сейчас позволим себе небольшое отступление. Великий русский мыслитель И.А.Ильин писал о том, что главным, определяющим в любом великом произведении искусства является «эстетический предмет» — то есть духовное начало, которым определяется абсолютно всё, «даже тогда, когда в произведении внешне нет ничего церковного и религиозного». («Книга надежд и утешений). Оттого и начали мы с произведения О.Э.Мандельштама, по сути «продолжающего» знаменитого «Пророка» А.С.Пушкина. И этот «одухотворённый духом» «Предмет» воплощается в «эстетических образах», которые в какой-то мере могут быть связаны и с литературными направлениями. (Выражение «одухотворить духом» тоже принадлежит И.А.Ильину – и прозвучало оно в одном из самых знаменитых его творений «Путь духовного обновления»).
А одним из самых ярких примеров «эстетической материи» является, конечно, образ моря – потому что символизирует оно вечность. И к образу этому мы обратимся ещё не единожды. Итак, «эстетический образ» — душа произведения.
И, наконец, «плотью» является «эстетическая материя» — форма, в которой воплощается, «материализуется» великое творение — например, стихотворный размер, рифма, рифмовка и т.д. Речь сейчас не об этом. И если форма начнёт превалировать, то уничтожит она «живое творческое содержание», о котором писал как о непременном условии создания культуры не раз упоминаемый И.А. Ильин (Книга «Основы христианской культуры»). И те, которые в форму «заигрались», ничего великого создать не могут. Да и вообще, при углублении в произведения у каждого поэта, наверное, можно найти и яркие примеры того или иного литературного направления, и практически противоположное ему, и вне любого направления. Однако, возвратимся к творчеству О.Э.Мандельштама – к стихотворению, которое мы ненадолго оставили. Сам «сюжет», если в данном случае это слово вообще применимо, взят из культуры ещё дохристианской. Великий Гомер, «Илиада»… («Илиада» присутствует и в произведении другого великого акмеиста Н.С.Гумилёва в стихотворении «Современность» — «Я закрыл Илиаду и сел у окна». И у символиста М.А.Волошина — «Мы пережили Илиаду войн…» — стихотворение «Потомкам»). Вообще мысли великих мудрецов Античной Греции, например, Сократа или Платона, справедливо считаются предвестниками, предтечей, преддверием мышления христианского.
И в этом произведении О.Э.Мандельштама кульминация всех размышлений — «И море, и Гомер — всё движется любовью».
Любовью только лишь к красавице Елене? Да только не воспринимается ли Елена прежде всего как красивая вещь, обладать которой престижно? Или как «объект» вожделения, низменной страсти? Но в таком случае есть ли вообще место любви там, где распалившие себя низменной страстью совершают столь неблаговидные поступки? Конечно, истинно христианское мышление и жизненно кредо во многом уже отличается от языческого. Но это – отдельная тема. А море, как уже было сказано, — символ вечности. И тогда становится ясным, что мысль поэта всеобъемлющая. Любовь – главная христианская добродетель. Она основа жизни. И вот лирический герой соединяется с первоосновой. Очевидно, именно в этом и заключена суть акмеизма.
И следующее произведение, наверное, ещё более яркий тому пример.
Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день.
И пены бледная сирень
В черно-лазоревом сосуде.
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
В финале тоже происходит «возвращение». Только, конечно не в ту эпоху, когда Афродиту всерьёз считали божеством, когда обожествляли силы природы, в чём суть язычества как такового. Время вспять не движется. По всей видимости, — это – «возвращение» к некой целостности, неразделённости восприятия мира. А вышедшая из морской пены Афродита, как и многие языческие божества, остались литературными образами – чаще ранних произведений – помогающими раскрыть главную мысль.
(В одном из относительно ранних стихотворений «По ночам, когда в тумане…» лирический герой упомянутого ранее поэта-символиста М.А.Волошина с горечью восклицает: «Мне, когда-то неделимым, стать отдельным и мужским).
И вообще, некоторые языческие образы были «унаследованы» христианской культурой даже в росписях храмов в первые века Христианства — именно как нечто внешнее, наполненное уже иным содержанием – нельзя же в одночасье же создать все новые формы. Используются они, конечно, и в литературе, особенно в поэзии, чаще всего для более яркого изображения природы. Вспомнить хотя бы финал знаменитого «Люблю грозу в начале мая» Ф.И.Тютчева или его же несколько более сложный образ в стихотворении «Летний вечер», где «горячих ног» Природы «коснулись ключевые воды». А если продолжать «галерею» подобных образов и мыслей, то ярким примером является и стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Природа», в котором для Матери-Природы все равны – и люди, и звери, и травы; и стихотворение «Детство» Н.С.Гумилёва, в котором лирический герой верит, что встретит смертный час со своими «друзьями с мать-и-мачехой, с лопухом», потому что «людская кровь не святее изумрудного сока трав».
И вот ещё один пример «соединения» в произведениях самого О.Э.Мандельштама.
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шёпот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
«Соединения» времён — прежде всего, а значит, — неразрывная связь времени и вечности. Напоминать культурным людям, что упоминаемые поэтом великие люди не жили в одни и те же годы, необходимости нет. «Соединение» гения и человечества – не похоже, чтобы в контексте произведения слово «толпа» употреблялось поэтом в привычном отрицательном смысле — иначе, как же можно «считать пульс» и «верить»?!
А ещё, конечно, «соединение» музыки и поэзии, о чём не раз говорилось; русской и культуры немецкой, несмотря на очень разный менталитет (Вольные переводы И.В.Гёте, Г. Гейне и Ф.Шиллера русскими поэтами тоже хорошо всем известны). И возможно, упоминаемые поэтом великие имена важны не сами по себе – их можно было назвать ещё немало — а именно как пример некого единства гения и человечества, о чём было сказано чуть ранее. Гений призван служить — но не «народу» в примитивном советском истолковании, а нести людям Свет Истины, быть посланником небес, как в знаменитом и многократно упоминаемом «Пророке» А.С.Пушкина.
Но, наверное, самое главное, как нередко бывает, выражено в финале. (Строки эти выделены особо). И ключевые слова, судя по всему, — «прежде» и «до». «Предвечный замысел о мире и его судьбах» — так определил Софию – Премудрость Божию русский мыслитель Н.М.Тарабукин, практически ровесник О.Э.Мандельштама. Судя по всему, мысли философа и поэта во многом схожи.
А ещё, будет нелишним сказать, что стихотворение это первое из трёхчастного цикла – и, конечно обратиться к двум другим.
В игольчатых чумных бокалах
Мы пьём наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как лёгкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребёнок молчанье хранит,
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.
Очень непростые, философские строки – и, возможно, не стоит «вникать» в каждое слово – а взглянуть немного «издалека», как на большое полотно. Да и вообще, если приблизиться к картине вплотную, можно увидеть только наложенные мазки красок – а воспринимать нужно целостность образа и мысли. Вот так и здесь – в целом. Возможно, отразились в стихотворении и искания людей — иногда вслепую, их заблуждения.
Но вот опять появляется столь любимый поэтами – и не только О.Э.Мандельштамом – образ ребёнка, символизирующим чистоту, незамутнённую душу. И тогда начинает «происходить» то, что по земным «меркам», по законам земного бытия невозможно – «маленькое» вмещает «большое». Отчего? Оттого, очевидно, что земное пространство, преодолено, оно больше тяготеет, земное время и пространство себя исчерпали – и «начинается» мир иной, духовный. А дальше…
И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.
Итак, третья часть логически продолжает вторую. Удивительно сочетание, не первый взгляд, — «самосознанье причин», «лечебник», «задачник». Но разве не столь же многогранна жизнь человека на земле?!
Очевидно, то, о чём говорилось в первых двух частях, продолжается и в самой сложной – третьей. Только «мы» превращается в «я» — но это, не дай Бог, не гордость, не ненависть к другим людям. По-видимому, лирический герой осмысливает свой жизненный путь, свой духовный опыт, который нельзя ни с кем разделить, за который несёшь ответственность только ты сам — и больше никто. Оттого-то и «без людей».
Конечно, нельзя не увидеть, что всё как будто «пронизано» математикой – да только математика – лишь наука, пусть и немного менее приближенная к естеству, чем физика, химия или биология. Думаю, именно поэтому будет уместно вспомнить о том, что многие великие учёные — и русские и европейские были верующими – и И.Ньютон, и Б.Паскаль, и Л. Пастер, и, конечно М.В.Ломоносов – список можно продолжать. Верующими не вопреки, а именно благодаря науке. И даже некоторые учёные советские – такие, как Б.В.Раушенбах. Это — отдельный разговор, который может увести в сторону от основного предмета беседы.
А потому возвратимся к самому произведению. И «корни», и «величины» — разве только математические понятия?! Да и задачи бывают разными – поэтому, может быть, «задачник» в таком случае можно рассматривать как аллегорию?! А главным всё же является то, что лирический герой «выходит» из земного «пространства» и преодолевает «мнимое постоянство» и «самосознанье причин». Преодолевает после того, как «увидел», осознал, что «большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит».
Как было уже сказано, отразил поэт преодоление земного пространства – пространства мира материального, мира тварного. А значит, может быть, и не столь явственно, не столь очевидно, но звучит в произведении одна из самых главных, самых важных тем русской, да и всей литературы мира христианского, – Тема Апокалипсиса!
«И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Откр.6:14.
И, конечно, нельзя не вспомнить о том, что земного времени и пространства, силы земного притяжения нет на Иконе — ведь она изображает «грядущий, прославленный мир», как написал в своём знаменитом труде кн. Е.Н.Трубецкой.
И о том ещё, что все эти бесконечно загадочные произведения созданы… в окаянные тридцатые годы, когда вся Россия жила под дулом автоматов Н.К.В.Д.!!! Вот уж, по истине надо смотреть в Вечность и быть готовым к Крестному Пути, чтобы выразить такое мироощущение! А поэт скоро на Крест и взойдёт! Но об этом хотелось бы поговорить не всуе, обращаясь к произведениям несколько более известным. Наверное, в следующей части.
А пока обратимся к произведениям несколько иного плана. Наверное, даже, точно, можно сказать, что всё великое, созданное поэтами Серебряного века, имеет «корни» в классической поэзии, классическом искусстве в целом века девятнадцатого и даже конца восемнадцатого. А иначе, на свет появлялись бы одни «уроды», «мутанты».
Вспомним произведениеО.Э.Мандельштама, приведённое несколько раньше и начинающееся словами «Она еще не родилась». Названия как такового, можно сказать, и нет – потому что «Silentium» (Молчание) – скорее всего «отражение» состояния ума и души, некой «философии». «Silentium» названо и довольно известное и тожеотносительно раннее стихотворение Ф.И.Тютчева.
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои -
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, -
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, -
Питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей -
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, -
Внимай их пенью — и молчи!
Значит, акмеизм во многом можно считать продолжением «любомудрия» — не в общем смысле «философия», а применительно к определённому направлению в искусстве. Именно к «любомудрию» ряд исследователей относят раннее творчество Ф.И.Тютчева. Совершенно очевидно, что «сердце, сердца устыдись» О.Э.Мандельштама и«лишь жить в себе самом умей», оттого чтодругому«понять тебя» невозможно Ф.И.Тютчева – очень схожие мысли двух великих поэтов, которых отделяют почти девяносто лет. Судя по всему, это — отражение мысли великого Платона о том, что наш мир лежит во зле, он «гроб для праведника» — а есть иной мир – прекрасный – только попасть в него невозможно. Конечно, ведь Спаситель тогда ещё не пришёл в наш мир и не воскрес. (Ещё с большей ясностью отразились эти мысли в знаменитом «Фонтане» Ф.И.Тютчева – но речь сейчас несколько об ином).
Только, наверное, у О.Э.Мандельштама все приведённые выше образы «решают» несколько более сложную задачу, что можно увидеть и понять при более внимательном прочтении.
И в том произведении, о котором речь пойдёт далее, тоже, очевидно, происходит некоторое соединение элементов христианской и дохристианской культур.
Первой, как уже говорилось, — на уровне мышления, мировоззрения, жизненного кредо; второй — на уровне внешних образов и может быть, некой историчности.
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.
Стихотворение удивительное – столько всего соединили в себе двенадцать строк! Итак, образ детства, образ чистого сердцем ребёнка — один из главных в русской литературе – да и не только в русской. Детство, конечно, — тоже некая «первооснова», к которой постоянно «возвращаются», о чём уже не раз говорилось. Но всё-таки, видимо, в большей степени воплотили эти строки стремление к чистоте сердца, к восстановлению некой целостности души, неразделённой грехом – ведь именно такой смысл заложен изначально в слове «целомудрие». А без этой чистоты невозможно узреть Царствие Небесное. А как же тогда «из глубокой печали восстать» — преодолеть грех уныния?!
Многие произведения О.Э. Мандельштама проникнуты грустью – и связано это во многом с жизнью самого поэта – только не о жизни поэта ведётся речь в исследовании. Обратимся к следующему четверостишию:
Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.
Оно «вместило» такую палитру чувств, что сразу и объять не получится.
Не раз упоминаемый И.А.Ильин в «Основах христианской культуры» писал, что любовь к своей земле неотделима от чувства религиозного. О том же по сути говорит нам и О.Э.Мандельштам. — любовь противопоставляется, судя по всему, жизненной суете, поглощающей человека. «Я от жизни смертельно устал» — видимо, огрубел в этой жизненной суете душою. Но всё же душа жива, и чистота сердца до конца не утрачена — иначе бы не было таких преисполненных болью и одновременно любовью строк.
Кстати, по логике, «всё большое», которое следует «далёко развеять» — тоже жизненная суета, всё бренное, которое не должно затмить Вечного. И, естественно, вспоминаются слова Писания: «Суета сует, — все суета!»
А образ «бедной земли», наверное, ассоциируются прежде всего с хорошо всем известными строками Ф.И.Тютчева:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.
Очевидно, и лирический герой О.Э.Мандельштама интуитивно ощущает, «что сквозит и тайно светит» в его «бедной земле». «Оттого, что иной не видал» — говорит лирический герой — только любовь-то на пустом месте не возникает. И неслучайно звучат такие нравственно-философские выводы, которые сердце должно выстрадать.
Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.
«Вспоминаю» как что-то очень важное, очень хорошее в жизни, что было тогда, когда душа и ум ещё не затуманились суетой, греховностью, может быть.
И вот опять невольно возникают ассоциации с произведениями Н.С.Гумилёва.
Вот сад, но к нему подойти я не смею,
Я помню… мне было три года… по саду
Я взапуски бегал с лисицей моею.
Я вырос! Мой опыт мне дорого стоит,
Томили предчувствия, грызла потеря…
Но целое море печали не смоет
Из памяти этого первого зверя.
Снова образ сада, в котором был счастлив и в который нет больше пути. Значит, наверное, можно говорить о Райском Саде, из которого человек был изгнан именно за то, что душе, неразделённой грехом, предпочёл познание зла.
И строки Н.С.Гумилёва преисполнены похожим чувством. У его лирического героя«целое море печали не смоет» воспоминания о том, как он «взапуски бегал с лисицей»; как никакие жизненные неурядицы не затмят в памяти лирического героя О.Э.Мандельштама, как он «качался в далеком саду на простой деревянной качели». И то, что качели простые и деревянные, возможно, также подчёркивает что-то главное, очищенное от всего наносного.
А строки Н.С.Гумилёва взяты из довольно известного произведения «Блудный сын», что во многом говорит само за себя. Значит, надо «возвратиться», оставив всё суетное и греховное. И, возможно, покаяться.
«Возвращение» к главному отразится и в другом произведении О.Э.Мандельштама, созданном через много лет — уже в окаянные годы репрессий.
Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или ещё что-нибудь.
Или охватит тебя,
Только уста разомкнёшь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.
Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.
И снова кажется невероятным, удивляет, потрясает, что созданы такие строки в 1930году – их мог написать только очень сильный духом человек! Как и «трилогию» о связи гения с «пульсом» человечества и о «выходе» из земного пространства в Вечность. Итак, соединяется то, что кажется несоединимым – «птица, старуха, тюрьма». Судя по всему, относится всё сказанное поэтом и к нему самому, и ко всей охваченной разгулом репрессий России. Но, пожалуй, только слово «тюрьма» говорит о годах репрессий и о личной трагедии самого поэта. Может быть, ещё указывает на окаянные годы и предупреждение «не говори никому» — ведь в те годы лишнее слово могло стоить жизни – да только сам поэт, как известно, своему же «предупреждению» не внимал – чего стоит одна лишь упомянутая уже эпиграмма на Сталина. Однако если не знать времени написания, то «не говорить» чего-то можно по очень многим причинам. А главное всё же в ином.
Несмотря на окаянные годы – а, может быть, именно потому — в финале произведения лирический герой «возвращается» к детству, как и в ранних произведениях. «Возвращается», возможно, даже, — «убегает» от чудовищной реальности к «осе на даче» и «детскому чернильному пеналу». А «черника в лесу», которую «никогда не сбирал», может символизировать несбывшуюся детскую мечту. У самого поэта детство было в основном безрадостным – но не может великое произведении говорить об одном лишь человеке, даже столь великом, как О.Э.Мандельштам. А потому, наверное, в произведении снова отразилось желание вернуться к восприятию мира чистой душой, незапятнанной, «неразделённой» грехом.
Невольно возникает ассоциация и со строками другого поэта Серебряного века — только символиста – З.Н.Гиппиус из стихотворения «Счастье»:
Нет, лучше б из нас на свете
И не было никого.
Только бы звери, да дети,
Не знающие ничего.
Конечно, духовный опыт О.Э.Мандельштама, его нравственные принципы много-много выше. И его лирический герой в отличие от лирического героя З.Н.Гиппиус не «претендует» на переустройство мира, не «бросает вызова» Создателю, что для З.Н.Гиппиус, можно сказать, вообще свойственно. Только у обоих поэтов в образах чистых сердцем, не «тронутых» грехом детей, а ещё и изначально не знающих греха животных отразилось, судя по всему, желание избавиться от ненужных, мешающих жить «наростов» греховности. Ведь очевидно, что «незнающие ничего» означает «незнающие» греха. К этой чистоте, не знающего греха сердца стремится и лирический геройО.Э.Мандельштама, о чём уже не раз говорилось.
А ещё, перед нами очередной пример того, что все литературные направления вторичны по сравнению с главной мыслью, с духовным началом литературного произведения. И того, что даже не самые благочестивые люди в душе, интуитивно всё равно стремятся к чему-то чистому, незапятнанному.
А теперь ещё об одной грани творчества великого поэта и великого человека — О.Э.Мандельштама. В одном из произведений лирический герой говорит:
Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.
Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!
Как же можно принять «пустоту», да ещё и «болезнь» вместе с «мертвенностью»?! Неужели нормальный человек может всё это «принять» и не возненавидеть весь мир?! А ненависти в стихотворении нет ни капли. Значит, здесь что-то иное.
Снова позволим себе небольшое отступление.
Благодарю за неотступность боли
Путеводительной: я в ней сгорю.
За горечь трав земных, за едкость соли -
Благодарю!
Так заканчивает цикл «Блуждания» М.А.Волошин.
Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.
Это — финал одного из довольно известных произведений С. А.Есенина.
«Благодарю», несмотря на то, что «жизнь-обман» и на то, что все «отреклись» и «забыли».
(Кстати, снова разные литературные направления, а мироощущение очень схожее. И совершенно очевидно, что во всех трёх приведённых произведениях речь идёт не только о лирическом герое, но и о жизненном пути самих поэтов. А ещё — целая «философия» в самом высоком её понимании).
Конечно, «путеводительная боль» — самый яркий из приведённых здесь примеров истинно христианского осмысления жизненного пути. Господь вразумляет – и страданием душа очищается — а без этого можно заблудиться и Истинного пути не найти никогда. Мысль эту и воплощает М.А.Волошин.
В строках С.А.Есенина отразилась нераздельная, кровная, можно сказать, на «генетическом уровне» связь с родной землёй, с Родиной в истинном понимании этого слова. И хоть не греет лирического героя «звёздный огонь», ощутить такую любовь, такую благодарность невозможно, не поняв однажды, что душа бессмертна, что физическая смерть не конец всему. В таком случае очевидно, что и «принимая» пустоту, болезни, скорби, «принимает» лирический герой, а вместе с ним и поэт те испытания, которые посылаются нам в жизни, ради того, что будет Там – в Вечности. А иначе можно прийти к такому жуткому выводу, к которому приходит Свидригайлов в «Преступлении и наказании», и свершить то, что свершает он.
А тема преодоления земных скорбей ради Вечной Жизни с особой силой зазвучит у О.Э.Мандельштама и в хорошо известных поздних произведениях. А то, о чём мы говорили, во многом являют «преддверием», но одновременно и примером, говоря языком самого О.Э.Мандельштама, «ненарушаемой связи» человека с Вечным Мирозданием – а значит и с сами Творцом Мироздания!
А продолжение, дай Бог, — последует.
Литература.
1.Кошемчук Т.А. «Русская литература в христианском контексте».
2.Сборник поэзии Серебряного века Москва 1995 год
3.«Сохрани мою речь» — сборник произведений О.Э.Мандельштама
4.«Я свет у тебя за плечами» — сборник произведений Н.С.Гумилёва
5.«Тихое пламя» — сборник произведений З.Н.Гиппиус.
6.Сборник произведений С.А.Есенина из серии «Школьная библиотека»
7.Сборник произведений М.А.Волошина 1995 год.
8. И.А.Ильин «Книга надежд и утешений».
9.Н.М.Тарабукин «Смысл иконы».
10.Трубецкой Е.Н. «Три очерка о русской иконе»
11. Программа из цикла «Библейский сюжет»канала «Культура», посвящённая О.Э.Мандельштаму «Иосиф Аримафейский»
12. Собственная сертифицированная методическая разработка творческого занятия «Русский путь»
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.