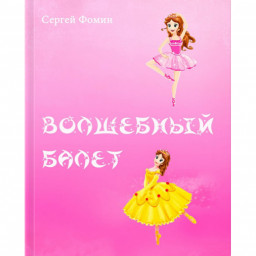Воспоминания - неожиданные гости
Воспоминания — неожиданные, странные гости. Они не предупреждают звонком о визите, не стучат в дверь и не спрашивают: «Есть кто дома?» Они появляются из неоткуда и заполняют все пространство вокруг.
И вот я уже не в своей комнате, не в своём городе, и даже не в своей стране. И стены куда-то исчезли. Сейчас я нахожусь далеко в прошлом, в бабушкином маленьком доме с голубыми резными ставенками, по улице Мичурина 58 города Называевска Омской области. Стою посреди комнаты у круглого стола, покрытого роскошной китайской скатертью из красного атласа с вышитыми павлинами и пальмами по краям. С нежностью поглаживаю тёплый, тяжёлый, гладкий атлас, и объёмные павлины чувствуются под пальцами. Кажется эта дорогая скатерть единственное, что осталось у бабушки от дворянского прошлого её родителей. За столом сидит утончённая красавица, моя молодая мама. Она при жизни очень много читала и сейчас читает книгу. Любуюсь ею, а в голове мелькает мысль: «Почему никто из нас, троих детей и пятерых внуков, не получили и капли её красоты и нежности? Почему мы все похожи на бабушку и папу? Где биологическая справедливость?» В горницу открыта дверь. Вижу нехитрую мебель: кровать, шкаф, лавку, да комод, укрытый белым покровом с кружевом по краю. Фриволите вручную связано бабушкой Машей. В доме много таких же ажурных салфеток, скатёрок, накидок на подушки, задергушек на половину окошка.
Всё в жилище чисто до скрипа и пахнет геранью, которая разрослась на все окно. В красном углу большая старинная икона в металлическом окладе и несколько маленьких, укрытых от посторонних глаз с улицы белыми, хрустко накрахмаленными шторками. Образа, будто настраивают на другие частоты, делают простое пространство комнаты торжественным, невольно вовлекают в тишину, и я почти слышу нечто тайное, запредельное от них. Чьи лики на иконах не знаю. Перед ними зажжена лампадка. Почему-то уверена, что скоро в дом войдёт баба Маша, зыркнет на маму и меня строгим взглядом, отругает обеих за праздность, и даст задание — подмести двор, или прополоть грядку с морковью в огороде. Мы встанем и без единого слова против, пойдём выполнять то, что приказано, потому что обе боимся гнева Марии Николаевны.
А вот уже я одна несусь впереди бабули по солнечной зелёной тропинке с одуванчиками, да калачиками по краям, за красивой бабочкой, а она окликает меня и журит за быстрый бег.
— Не угонюся за тобою. Побегала, будя. А то бегат и бегат. Лучше подсоби мяне узялок донесть до хаты.
Я с бабушкой не спорю, беру её лёгкий узелок и несу, куда скажет.
Или вот ещё: мы с ней идём в магазин за гречневой крупой. Я знаю, что дома бабушка спрячет покупку, запрёт под замок в буфете, поэтому ем зёрна прямо сейчас. Она насыпала немножко мне в ладошку. Ой, какая вкусная сырая гречневая крупа.
— Галькя, да под ноги гляди, вдруг хтой-то денежку потерял. Яны потеряли, а мы найшлы.
Я шагаю по дороге и старательно смотрю под ноги, ищу оброненную, кем-то копеечку. Сколько же мне тогда было лет? Кажется, всего пять или неполных шесть. В школу ещё не ходила.
Баба Маша была женщиной неласковой, вечно командующей по-военному всеми и вся. Мы с младшим братом редко бывали у неё в гостях. Вот папа, тот с удовольствием заезжал. Обожала Мария Николаевна своего зятя, как сына родного привечала, и он отвечал ей взаимностью до самой смерти. А ещё она любила мою старшую сестру Свету, потому что наша мама «гулёна» девочку в подоле принесла, и сиротка, стало быть — несчастная. Света детство провела в бабушкином доме и так же нежно любила свою баМашу.
Вот я постарше. Дома дядя Ваня шебутной, весёлый, любящий всех своих племянников, балующий их. Мы с ним слушаем пластинки. Особенно часто ставим «А снег идёт» в исполнении Майи Кристалинской, потому что дядя любит серебряный голос этой певицы. Под «Джамайку» Робертино Лоретти он учит меня танцевать твист. О, как же красиво у него получается выкручивать коленца! Он так заразительно смеётся над моими танцевальными па. В этот же день часом позже я помогаю Ивану. Изо всех детских сил стараюсь, ношу вместе с ним в маленьком ведёрке, сделанном из жестяной банки из под повидла, уголь с улицы в углярку во дворе. Откуда-то знаю, что, как только мы перетаскаем уголь на место, пойдём на горку кататься. Дядя уже и ледянку залил для меня.
И снова слышу бабушкин голос
— Ванькя, надысь помнишь в воскрясенье, аккурат пред обедней, штой — та стукаить в дверь и кричить хтой — та. Пошла, глянула. Батюшки — светы! Гошка пьяный ляжить на заваленке и орёть, а рядом ну никого нету. Я поглядела, поглядела, люта, стыла на улице, да и затащыла яво в хату, нехай проспится.
Бабушка принимается ругать племянника Григория и сына своего Ивана, на чём свет стоит, но без сорного мата, за бытовое пьянство. Дядя Ваня, посмеиваясь, незаметно сбегает от матери, а я прячусь в тёмных сенцах, чтобы и мне не досталось под горячую руку.
— А время глыкать кончилася, всё. Слухаешь мяне? Ну, ета мы пасля с тобою обсудим, хто пить, да блудить будить, хто мяне в могилку свядёть — продолжает свой монолог в пустоту бабуля.
Мне лет шестнадцать. Бабушка уже живёт с родителями в доме по улице Красная 50. С мамой у них всё так же нет близости и теплоты в отношениях. Мама, взрослая женщина, до сих пор прячется от бабушки, чтобы выкурить сигарету.
Прошу бабушку рассказать, что-нибудь про войну. Она на миг прикрывает глаза и тоже, будто уходит по тропинкам воспоминаний.
— Гдей — та году в сорок втором, тяжёлае было лето, голодное. На Назывевской станции, возля шелону хожу, ищу сваих Марёну с ребятёшками. Вдруг, где на узлах сидять. Вдруг найду дявчонку яё Галю годков пяток ей, почитай, как моя Шурка. Воны же не знають, что мы таперича тута живём. Долго ходила к шелонам искать. Так оне и не объявилися. Поспрашаю там — сям, никто не вядал. А тут стираю бельишко в карыте на дворе, глядь, а воны всею оравой с машины слезають. Вовку на руках, чуть живого, держуть. Я так и обмерла, а потом, как завою. Галькя вся в каросте обсыпана. Малец-то голоднай, посинел уж весь. Жваник сделала с хлеба в тряпочку, тёплай вадички дала, уснул. Матрёна бьётся в слязах и молчить. Посля выяснилась, шта под бомбёжку попала. Контуженная вона вся.
Слушаю бабулю внимательно. Много она мне семейных преданий рассказывала. Как в Сибирь ссылали, как раскулачивали, как за дворянские корни страдала семья её родителей, предков моих. Теперь жалею, что не записывала тогда.
А вот уже бабушка Маша совсем старенькая, сидит на скамеечке перед высокими, почти церковными воротами родительского дома, по улице Красная 50, в своём неизменном наряде: на голове платок, закрывает седые, как лунь волосы, юбка с кофтой и фартук сверху. «Хвартук» называла она этот предмет наряда… Выцветшим взглядом старушка тоскливо смотрит, куда-то вдаль. Она уже давно никого не строит, никого не ругает, живёт медленно и очень тихо, в неком режиме энергосбережения. Руки её трясёт болезнь Паркинсона. Я-студентка, иду с электрички, только что приехала из Омска на выходные домой. Останавливаюсь, целую бабушку, спрашиваю: «Как дела», но даже не помню, отвечает ли она мне.
Я прожила рядом с бабушкой Машей малую часть ее жизни, и только годы, десятилетия спустя, поняла и почувствовала её трагическую историю. Обрывки разговоров, монологов, междометий и плачей, услышанные мной в детстве, до поры до времени вертелись в краешке сознания и вспыхивали иногда в моем воображении на разный лад, пока не обрели смысл и связь и не сложились в жизненный путь человека. Я чувствую, что тогда, давно бабушка передала мне задачи, которые предстоит решить, и, снарядив меня в дорогу, дала внутренней силы и перекрестила. Это осознание приносит очищение, спокойствие и тепло душе. Я поминаю бабушку часто. Спи спокойно, моя родная. Пусть земля тебе будет пухом.
Моя бабушка — Толстенко (в девичестве Сахарова) Мария Николаевна 06. июля 1904 года рождения, умерла в 75 лет 6 июля 1979 года. Она похоронена в городе Называевск.
В последний приезд, к своему стыду, я не нашла её могилу. Венок повесила на безымянный крест, в том месте, где предположительно находится её захоронение. Кладбище большое, считается старым, закрытым, и, что очень плохо — архивы не сохранились. Знаю, что схоронили бабушку рядом с могилой соседа по фамилии Шпехт. Я живу в другом государстве и на Родине, где не осталось никого из родных, бываю один раз в десятилетку. Даст Бог, ещё побываю там и найду дорогую сердцу могилу. Жду только, что скоро откроется сухопутная граница, запечатанная из-за пандемии. Прости меня, бабуля. Царствие небесное и вечная память тебе, моя родная! Ты всегда живёшь в моих воспоминаниях. Молюсь за тебя!
И вот я уже не в своей комнате, не в своём городе, и даже не в своей стране. И стены куда-то исчезли. Сейчас я нахожусь далеко в прошлом, в бабушкином маленьком доме с голубыми резными ставенками, по улице Мичурина 58 города Называевска Омской области. Стою посреди комнаты у круглого стола, покрытого роскошной китайской скатертью из красного атласа с вышитыми павлинами и пальмами по краям. С нежностью поглаживаю тёплый, тяжёлый, гладкий атлас, и объёмные павлины чувствуются под пальцами. Кажется эта дорогая скатерть единственное, что осталось у бабушки от дворянского прошлого её родителей. За столом сидит утончённая красавица, моя молодая мама. Она при жизни очень много читала и сейчас читает книгу. Любуюсь ею, а в голове мелькает мысль: «Почему никто из нас, троих детей и пятерых внуков, не получили и капли её красоты и нежности? Почему мы все похожи на бабушку и папу? Где биологическая справедливость?» В горницу открыта дверь. Вижу нехитрую мебель: кровать, шкаф, лавку, да комод, укрытый белым покровом с кружевом по краю. Фриволите вручную связано бабушкой Машей. В доме много таких же ажурных салфеток, скатёрок, накидок на подушки, задергушек на половину окошка.
Всё в жилище чисто до скрипа и пахнет геранью, которая разрослась на все окно. В красном углу большая старинная икона в металлическом окладе и несколько маленьких, укрытых от посторонних глаз с улицы белыми, хрустко накрахмаленными шторками. Образа, будто настраивают на другие частоты, делают простое пространство комнаты торжественным, невольно вовлекают в тишину, и я почти слышу нечто тайное, запредельное от них. Чьи лики на иконах не знаю. Перед ними зажжена лампадка. Почему-то уверена, что скоро в дом войдёт баба Маша, зыркнет на маму и меня строгим взглядом, отругает обеих за праздность, и даст задание — подмести двор, или прополоть грядку с морковью в огороде. Мы встанем и без единого слова против, пойдём выполнять то, что приказано, потому что обе боимся гнева Марии Николаевны.
А вот уже я одна несусь впереди бабули по солнечной зелёной тропинке с одуванчиками, да калачиками по краям, за красивой бабочкой, а она окликает меня и журит за быстрый бег.
— Не угонюся за тобою. Побегала, будя. А то бегат и бегат. Лучше подсоби мяне узялок донесть до хаты.
Я с бабушкой не спорю, беру её лёгкий узелок и несу, куда скажет.
Или вот ещё: мы с ней идём в магазин за гречневой крупой. Я знаю, что дома бабушка спрячет покупку, запрёт под замок в буфете, поэтому ем зёрна прямо сейчас. Она насыпала немножко мне в ладошку. Ой, какая вкусная сырая гречневая крупа.
— Галькя, да под ноги гляди, вдруг хтой-то денежку потерял. Яны потеряли, а мы найшлы.
Я шагаю по дороге и старательно смотрю под ноги, ищу оброненную, кем-то копеечку. Сколько же мне тогда было лет? Кажется, всего пять или неполных шесть. В школу ещё не ходила.
Баба Маша была женщиной неласковой, вечно командующей по-военному всеми и вся. Мы с младшим братом редко бывали у неё в гостях. Вот папа, тот с удовольствием заезжал. Обожала Мария Николаевна своего зятя, как сына родного привечала, и он отвечал ей взаимностью до самой смерти. А ещё она любила мою старшую сестру Свету, потому что наша мама «гулёна» девочку в подоле принесла, и сиротка, стало быть — несчастная. Света детство провела в бабушкином доме и так же нежно любила свою баМашу.
Вот я постарше. Дома дядя Ваня шебутной, весёлый, любящий всех своих племянников, балующий их. Мы с ним слушаем пластинки. Особенно часто ставим «А снег идёт» в исполнении Майи Кристалинской, потому что дядя любит серебряный голос этой певицы. Под «Джамайку» Робертино Лоретти он учит меня танцевать твист. О, как же красиво у него получается выкручивать коленца! Он так заразительно смеётся над моими танцевальными па. В этот же день часом позже я помогаю Ивану. Изо всех детских сил стараюсь, ношу вместе с ним в маленьком ведёрке, сделанном из жестяной банки из под повидла, уголь с улицы в углярку во дворе. Откуда-то знаю, что, как только мы перетаскаем уголь на место, пойдём на горку кататься. Дядя уже и ледянку залил для меня.
И снова слышу бабушкин голос
— Ванькя, надысь помнишь в воскрясенье, аккурат пред обедней, штой — та стукаить в дверь и кричить хтой — та. Пошла, глянула. Батюшки — светы! Гошка пьяный ляжить на заваленке и орёть, а рядом ну никого нету. Я поглядела, поглядела, люта, стыла на улице, да и затащыла яво в хату, нехай проспится.
Бабушка принимается ругать племянника Григория и сына своего Ивана, на чём свет стоит, но без сорного мата, за бытовое пьянство. Дядя Ваня, посмеиваясь, незаметно сбегает от матери, а я прячусь в тёмных сенцах, чтобы и мне не досталось под горячую руку.
— А время глыкать кончилася, всё. Слухаешь мяне? Ну, ета мы пасля с тобою обсудим, хто пить, да блудить будить, хто мяне в могилку свядёть — продолжает свой монолог в пустоту бабуля.
Мне лет шестнадцать. Бабушка уже живёт с родителями в доме по улице Красная 50. С мамой у них всё так же нет близости и теплоты в отношениях. Мама, взрослая женщина, до сих пор прячется от бабушки, чтобы выкурить сигарету.
Прошу бабушку рассказать, что-нибудь про войну. Она на миг прикрывает глаза и тоже, будто уходит по тропинкам воспоминаний.
— Гдей — та году в сорок втором, тяжёлае было лето, голодное. На Назывевской станции, возля шелону хожу, ищу сваих Марёну с ребятёшками. Вдруг, где на узлах сидять. Вдруг найду дявчонку яё Галю годков пяток ей, почитай, как моя Шурка. Воны же не знають, что мы таперича тута живём. Долго ходила к шелонам искать. Так оне и не объявилися. Поспрашаю там — сям, никто не вядал. А тут стираю бельишко в карыте на дворе, глядь, а воны всею оравой с машины слезають. Вовку на руках, чуть живого, держуть. Я так и обмерла, а потом, как завою. Галькя вся в каросте обсыпана. Малец-то голоднай, посинел уж весь. Жваник сделала с хлеба в тряпочку, тёплай вадички дала, уснул. Матрёна бьётся в слязах и молчить. Посля выяснилась, шта под бомбёжку попала. Контуженная вона вся.
Слушаю бабулю внимательно. Много она мне семейных преданий рассказывала. Как в Сибирь ссылали, как раскулачивали, как за дворянские корни страдала семья её родителей, предков моих. Теперь жалею, что не записывала тогда.
А вот уже бабушка Маша совсем старенькая, сидит на скамеечке перед высокими, почти церковными воротами родительского дома, по улице Красная 50, в своём неизменном наряде: на голове платок, закрывает седые, как лунь волосы, юбка с кофтой и фартук сверху. «Хвартук» называла она этот предмет наряда… Выцветшим взглядом старушка тоскливо смотрит, куда-то вдаль. Она уже давно никого не строит, никого не ругает, живёт медленно и очень тихо, в неком режиме энергосбережения. Руки её трясёт болезнь Паркинсона. Я-студентка, иду с электрички, только что приехала из Омска на выходные домой. Останавливаюсь, целую бабушку, спрашиваю: «Как дела», но даже не помню, отвечает ли она мне.
Я прожила рядом с бабушкой Машей малую часть ее жизни, и только годы, десятилетия спустя, поняла и почувствовала её трагическую историю. Обрывки разговоров, монологов, междометий и плачей, услышанные мной в детстве, до поры до времени вертелись в краешке сознания и вспыхивали иногда в моем воображении на разный лад, пока не обрели смысл и связь и не сложились в жизненный путь человека. Я чувствую, что тогда, давно бабушка передала мне задачи, которые предстоит решить, и, снарядив меня в дорогу, дала внутренней силы и перекрестила. Это осознание приносит очищение, спокойствие и тепло душе. Я поминаю бабушку часто. Спи спокойно, моя родная. Пусть земля тебе будет пухом.
Моя бабушка — Толстенко (в девичестве Сахарова) Мария Николаевна 06. июля 1904 года рождения, умерла в 75 лет 6 июля 1979 года. Она похоронена в городе Называевск.
В последний приезд, к своему стыду, я не нашла её могилу. Венок повесила на безымянный крест, в том месте, где предположительно находится её захоронение. Кладбище большое, считается старым, закрытым, и, что очень плохо — архивы не сохранились. Знаю, что схоронили бабушку рядом с могилой соседа по фамилии Шпехт. Я живу в другом государстве и на Родине, где не осталось никого из родных, бываю один раз в десятилетку. Даст Бог, ещё побываю там и найду дорогую сердцу могилу. Жду только, что скоро откроется сухопутная граница, запечатанная из-за пандемии. Прости меня, бабуля. Царствие небесное и вечная память тебе, моя родная! Ты всегда живёшь в моих воспоминаниях. Молюсь за тебя!
Не возражаю против объективной критики:
Да
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.