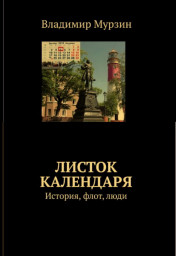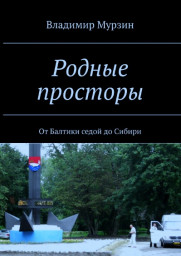Жизнь с попугаями
За удовольствие писать прозу я должен благодарить одного человека, который об этом никогда не догадывался. И — одного попугая. Я не слушал советы, в том числе и классика: насчет лет, которые клонят. Было уже за пятьдесят, а я все не считал это для себя возможным и необходимым, обходился стихами — ну и газетными фактологическими материалами. Сторонился: писать прозу — это как-то придумывать надо, тащить пестрое одеяло на себя, вышелушивать что-то из действительности, обобщать там, где не уверен в отборе деталей. Но вот выяснилось, что ничего выдумывать не надо, что видишь и принимаешь близко к сердцу реалии, которые в газетный материал не пойдут, а в стихи не уместятся в полном объеме. И написал текст о попугае, ну и, как всякому пишущему, а тем более — давно печатываемому, захотелось текст обнародовать.
И тут надо отдать должное Александру Пумпянскому, главному редактору «Нового времени». Я бы на его, приблизительно, месте крепко подумал, стоит ли публиковать такой текст в общественно-политическом издании. А он, со своей лукавой улыбкой, поставил в номер. Так к его впечатляющим достижениям, известным многим и многим, добавилось одно, никому не известное: заставил меня повернуться к прозе лицом.
Конечно, заголовок он изменил и пару строк поправил, как любой профессиональный редактор на его месте. Конечно я, как всякий самовлюбленный автор, при дальнейших публикациях эти правки перестал учитывать. А рассказик о попугае лег камушком уже в несколько моих прозаических книг.
Его ляп дело
Он подбежал, переваливаясь на коротеньких тонких ножках, оценивающе склонил набок свою прилизанную голову и спросил:
- Што?
- Ты о чем?!
- Што пишешь?
О нем и пишу.
Аспирантка из академического института объяснила, что у птиц нет никакой корки – это в мозгу, как в хлебе, самое лучшее. Обходятся они без высочайшей нервной деятельности. Ей виднее – у нее впереди защита. А у меня попугай.
Как-то в октябре похолодало. Дочка подошла к окну выяснить погоду. В сумерках, обняв зябкими пальцами термометр, тихо долбил клювом в стекло попугай. Он легко перескочил на протянутый палец и представился:
— Петруша хороший.
Тем самым выявил свое главное личное качество: искать индивидуальный контакт с каждым человеком. Затем, пробежав уже от моего пальца до плеча, потянул мозолистой лапой за нижнюю губу и пояснил свой жест:
- Дай пить!
И попытался засунуть поглубже в рот свою шерстяную голову. Жену решил сразу поставить на место. Чтобы знала, с кем имеет дело, предупредил:
- Будешь кусаться – хвост выдеру!
С тех пор уже несколько лет он пиратствует в квартире. Старается сбросить на пол любой предмет со стола или шкафа, раскатывает авторучки, бодается со статуэтками – особенно доставалось безответному ангелочку из Кракова. И для каждого находит доброе слово.
Что он там нашептывает своему зеркальцу в клетке – не упомнишь. Но когда Петрухе удавалось вырваться, как Пугачевой, из плена и подпорхнуть к большому, до пола, зеркалу в прихожей, он создавал монументальное полотно на тему вечного несовпадения в любви. Крылья растопырит, шею, как культурист, надует, желтую бороду с симметричными ярко-синими горошинами распушит – и давай завоевывать симпатию у отраженного (а других он, скорее всего, никогда и не видел) попугая:
- Петруша красивый, птичка умная!..
Зеркальная зеленая птичка вроде бы не против такого выгодного знакомства, тогда Петро, волоча хвост, отворачивается от грани, в которую стучался клювом, и как бы манит подругу за собой – в райские кущи. Но оглянувшись через плечо, видит, что желанное создание удаляется от него ( в зеркале-то!). Приходится возвращаться и начинать волынку сначала:
— Петрушечка птичка хорошая…
А результат все тот же – убедив себя в своих достоинствах и возможностях, бедный одинокий мужичок вновь направляется в гипотетическое гнездо любви, а отраженная птица – снова удаляется вглубь своего зазеркалья. Так и ходил, безмозглый дурачок, кругами, пока не надоело.
Рвется Петя, понятное дело, и на кухню. Иногда пускаем. Получается, как в старом еврейском анекдоте: «–Куру не пора приносить? – Пора!»,– ставят на стол живую курицу и она жадно собирает за гостями крошки. Кстати, если едим курятину, категорически не допускаем Петра – чтобы не потакать каннибализму. Или наоборот – видим в нем не хищные инстинкты, а нежную невысшую психику и бережем.
Сам же австралийско-митинский абориген бесцеремонен. Без него ни один разговор не обходится, надо поучаствовать, даже из клетки реплики подает. А уж если сжалились и выпустили (пусть, проклятый, засевает своим гуано плоские и не очень поверхности, лишь бы не крякал от отчаянья и отчуждения, как вурдалак!), немедленно приближается к источнику звука, старается его оседлать и забить причитаниями про неоцененного Петрушу. При телефонном разговоре садится на пальцы, держащие трубку, и вставляет словцо не в микрофон, а в телефонную дырочку – откуда голос доносится. В результате у держащего трубку человека в голове образуется каша, отключающая до птичьего уровня корку с подкоркой. Если же в одиночестве смотришь телевизор и с ним не общаешься – может, размявшись с кнопочками пульта, вскочить на очки и свесить хвост перед глазами. Чтобы обратил, гад, внимание. А потом — вроде же не смотрел!- вдруг начнет пересказывать какой-нибудь отечественный сериал – со стрельбой, сиреной, криками…
К гостям сначала присматривается молча. А удовлетворившись осмотром, вспархивает на плечо и лезет целоваться – научили, видать, прежние хозяева, которые его в том октябре и выставили за окно. Спасибо, хвост не выдрали, хотя если верить Петрушиным рассказам – обещали. Его рассказы и навели на мысль, что ухо в ответ на бесконечный треп надо держать востро и репутацию беречь – при нем ничего порочащего вслух не употреблять. О чем мы и предупредили друга семьи, настоящего чеховского интеллигента – из МХАТа имени Чехова. Актеры, знаете ли, матерятся. Режиссеры подавно – на актеров.
Знакомый пришел, был галантен со всеми дамами дома, подчеркнуто уважал супругу – до первых ста грамм. Потом пошел душевный разговор о духовности – ну как тут не определить действительность!.. Перед дамами, конечно, легко периодически извиняться, а вот попугай извинений не принимает! Петруха сидел на спинке дивана над плечом гостя, молча и внимательно крутил башкой. Ну, думаем, все! Погибла честь фамилии… Наутро, как только сняли покрывало с клетки, попугай выдал словцо из гостевого репертуара. Он явстенно и раскатисто произнес:
- Кустурица.
Ничто дурное к чистому и девственному недосознанию попугая не пристало. Впрочем, если учесть чистоту случая, может – сверхсознанию? Петруша всегда говорит к месту и вовремя. Открываешь клетку, а он, недовольный вторжением в частную жизнь, в лицо:
- Кыш!
Скажете, довольно явное совпадение, не больше. А как быть с самым страшным в моей жизни пробуждением? Тоже случайность?!
Рассказываю. Для большей убедительности себя не щажу. Итак, просыпаюсь в субботу утром, часов примерно в 12, с трудом разлепляю левый глаз – напротив него сидит что-то мелкое, зеленое, с хвостом и произносит сварливо знакомым голосом:
- Ты хоть что-нибудь помнишь?
Обливаюсь холодным потом от ужаса – допился до чертиков!, – зажмуриваюсь, – сгинь! – снова разлепляю глаза – у дверей вдоль косяка сползает от смеха жена, а на одеяле пытливо всматривается в произведенный эффект попугай. Запомнил, мерзавец, ее встречающую реплику, когда накануне они вместе отпирали мне двери. И понял ее, реплики, ключевой характер. Он же к каждому идет навстречу, старается говорить на его языке. Разума коркового нет – так он к душе обращается. Члена-корреспондента Академии художеств по-свойски спрашивает:
- Пивка хочешь?
А птица, все равно, дурная. Смелая, конечно – на включенный утюг бросался. Но это тоже не от большого ума. И тексты править не умеет: прыгнет на клавиатуру, а на результат на мониторе не смотрит. Так что если ляпы найдете – его лап дело.
Цветное эхо
Руками тень перебирая
по серой нитке, по пятну,
по утолщению, по краю
к утру до света дотяну.
Глядишь, и взбалмошная птица
устанет в панике слепой
о прутья рёбер колотиться
и заживёт сама собой,
и вылетит из малой дверцы,
и скажет голосом моим
то, что сказать не может сердце,
бегу я или недвижим.
Я изнутри себя не слышу,
не понимаю, не люблю,
а тут снаружи, сбоку, свыше
шальные сны щебечет клюв.
Глазами звук переживая,
я птицу в кулаке спрошу:
что ты трепещешь, небольшая,
неужто душу задушу?
Но мне в ответ — цветное эхо,
неразличимое словцо
и невесомая потеха
потрогать крыльями лицо.
Крррасота...
Он забыл о своей красоте. Это раньше, когда он жил один среди нас, людей, он всегда и любому был готов сообщить на ухо, будучи посаженным на плечо: «Петруша – птичка красивая, умная, Петруша хороший». Даже и без слушателей, обращаясь к зеркалу, он не уставал уверять в этом. Но когда появилась вторая клетка в доме, а в ней – Шуша, подаренный (очевидно, от нежелания держать волнистого попугайчика) младшей дочке ее сослуживицей, фокус общения Петруши переменился.
У него появился подопечный, которому надо было объяснять более важные вещи, чем сведения о красоте и уме. Шуша должен был усвоить, кто в доме хозяин, кто самый главный попугай, как себя следует вести у кормушки, в какую клетку и когда, в какой очередности, залезать. Конечно, сначала надо было попробовать зернышки в чужой клетке, а уж потом основательно подкрепиться в своей. И сообщалось это ему не на человеческом бедном языке, а всем жёлто-зелёным телом – от клюва до хвоста, всеми попугайскими голосами. Они даже защелкали, как соловьи! Глядя, как старший общается с младшим, мы открыли новый глагол: «петрушить». Типа «жучить»…
Только говорить с нами Петруша Шушу не научил. Может быть, поэтому, а может – по объективным данным, а скорее всего – по привязанности, но Петруша казался нам красивее Шуши. И синие пятнышки на бороде солиднее, и тёмно-синие глаза осмысленнее и ярче. Но не по этим признакам мы издали легко различали двух одинаковых по размерам и окраске попугаев. Со временем больное (артроз? подагра?) правое крыло Петруши изгибалось все сильнее, стало походить на старческий горб. Он уже и не летал, только ходил, неловко шлёпаясь из клетки на пол. А всё равно казался красивым, породистым, как разорившийся к старости аристократ.
Аристократических привычек Петруша не оставил. Хотя и меньше стал с нами разговаривать, всегда был готов высказаться с прямотой субъекта, знающего правду и себе цену. Моему племяннику, не обученному политесу и отказавшемуся покормить Петрушу изо рта, он сходу врезал: «Ты не думай, что ты здесь хозяин». Чувство собственного достоинства иногда делало его безрассудно бесстрашным. Пока я на кухне наливал в плошку молоко для забредшей в подъезд кошки, она за моей спиной прокралась в комнату. Я что-то почувствовал и рванул туда – она уже сбивала лапой Петрушу. Он ведь, простодыра, вылез на дверцу рассмотреть нового гостя, опоздай я на полминуты — гость его бы и сожрал. Шуша, между прочим, вдавился в это время в кормушку – он ищет у неё защиты при любой кажущейся опасности.
Не исключено, впрочем, что это только мне кажется, будто животные способны знать себе цену, понимать свою красоту. Легко, на цыпочках, бегущая собака, кошка, причудливо, но целенаправленно изгибающая позвоночник, пёстрая трясогузка, быстроклювый скворец – они же не собираются смотреть на себя вообще, тем более – чьими-то чужими глазами. Петруша же не понимал, что в зеркале – он сам, а не какая-то птица вызывающего поведения.
Но Набоков, пусть и откровенно субъективно хотя бы с точки зрения его любимой энтомологии, определил, для чего бабочке такие красивые разводы. Да, цветы, отдающие ей нектар или там пыльцу, не видят ее красоты, а искомой паре достаточно было бы нескольких скупых штрихов для отличия, глаза бабочки вообще не способны охватить весь прихотливый рисунок. Но бог создавал бабочку такой, чтобы любоваться…
Пусть и звучит слишком красиво, но как-то греет. Зато другое соображение мне представляется шире и глубже укоренённым, хоть и не таким радикальным. Я об индивидуальности животного. Да, они не смотрят на себя со стороны, возможно, лишены самоанализа, рефлексии, то есть того, что кажется самым важным для определения человека, они всё равно явно имеют личности. Наблюдения за Шушей и Петрушей последовательно подталкивали вернуться к старой мысли — о душах всего живого, пусть мысль эта и отдает язычеством, нимфами и прочими духами деревьев.
Да чего уж стесняться – именно непризнание души животного меня и смущает в монотеизме. Я же вижу ее, а иногда ощущаю бьющейся в руке. Правда, скорее всего, она живет в животном теле не постоянно прочно, как бы пульсируя, завися и от инстинктов и рефлексов, и от внешних условий, от общения. А вы на людей посмотрите! Что, не так же и у нас, по крайней мере – у очень многих?
Шуша повторял иногда за Петрушей слова, точнее – звуки человеческого языка. Прилетал вслед за ним ко мне, садился, попугайничая, мне на голову, на руку, подбирался к клавиатуре. А теперь шарахается от меня. И не поет. Потому что Петруша умер.
Его доконал смог, безвыходно упавший на Москву. Петруша выдержал два дня. Он и до смога, по страшной жаре, выпадал из клетки, барахтался, пытаясь встать на ноги, крылья уже и в этом отказывались помогать, как-то переворачивался и скользил по полу искать меня. Вскоре я научился слышать этот шлепок маленького тела и прибегал сам, брал его в ладони, он затихал. Он искал меня, но я не мог помочь, его жизнь уходила в мои ладони – и все равно его вконец растрёпанный комок был теплее моих рук.
О смерти человека я бы не смог написать так же откровенно, всё-таки у нас принята другая суверенность личности. А здесь, пользуясь тем, что звери не обучены чтению и письму, позволяю себе описывать угасание и беспомощность. Жизнь уродует свои создания, искажает замысел (если бог смотрит на своих однодневок). У бацилл и паразитов, жизни бессмысленной и явно бездушевной, свое право на экспансию, вот оно и приводят к нашим болезням. Но смог-то – он явно не от жизни, даже самой примитивной…
Ветеринар, к которому я носил Петрушу по поводу его болячек (а этот казак однажды спикировал на горячий утюг, чуть без ноги не остался) сказал с простотой коновала: «Волнистые живут двенадцать-четырнадцать лет. А вашему сколько?». Петруша прилетел к нам в окно четырнадцать лет назад, но он уже к этому времени умел говорить и рассказывал о себе разные истории. Значит, он прожил больше средне отпущенного.
Он бы и дальше скрипел, болел бы, горбился, терял память, но не собирался бы сдаваться – душевных сил явно было много. А тут жара два месяца – и удушливый липкий туман на ее пике. Такие катаклизмы в первую очередь убивают слабых, вон сколько больных стариков погибло в Москве в это лето. Простите, что я пишу не о них, а о Петруше. Но так легче, я уже объяснил, почему.
Когда утром я откинул покрывало и увидел Петрушу лежащим на дне клетки, он не выглядел сгорбленным. Смерть распрямила. Я понес его на улицу, закопал под деревом. Вернулся, нашёл перо, положил за стекло шкафа рядом с рабочим столом. А Люба сказала: «Ты видел, какой он снова стал красивый?»
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.