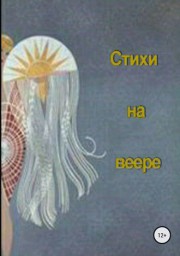Двойная жизнь Маши Кочетковой
***
Говорят, чем ближе старуха-смерть с косой, тем сильнее становится жажда жизни. Сейчас он понимал это как никогда — сейчас, когда смерть, одетая в форму советского НКВД, смотрела на него и его товарищей из дул пистолетов, готовая выпустить наружу своих свинцовых детишек — собирать кровавую жертву.
Вокруг простирался лес. Природа медленно пробуждалась от зимней спячки. Солнце ещё только набиралось сил, чтобы согреть землю.
Он смотрел на небо — бескрайнее, голубое, уже не спрашивая мысленно: за что? почему?, уже не взывал к Господу в отчаянной мольбе. Смирившись с тем, что его молодая жизнь оборвётся в этом лесу, на чужой земле, он просил Бога об одном — уберечь его родителей, жену, ребёнка, которого он так и не увидит, спасти его терзаемую войной родину.
— Прости мне, Боже, все грехи и прими мой дух, — прошептал он одними губами.
Раздались выстрелы. Последнее, что он почувствовал — резкая боль. Словно со стороны услышал собственный стон. И всё — темнота. Где-то вдалеке заиграли Моцарта…
***
Привычные напевы будильника медленно возвращали Машу к реальности. Жива? Да, вроде бы — и даже невредима. Лес и голубое небо растворялись с остатками сна, уступая место знакомой с детства комнате.
«Жесть! — подумала девушка. — Приснится же такое!».
Мало того, что во сне её расстреливали, что само по себе было жутко, так ещё вдобавок и она была не она, Маша Кочеткова, а какой-то военнопленный, офицер, к тому же не русский. И не немецкий — в своей молитве он говорил о Польше. И звали его не то Фрэнк, не то Франц… Поляк, значит? Мама родная!
Поляков Маша не любила. Особенно рыжих и усатых. Она не видела, как выглядел тот расстрелянный офицер, поскольку сама была в его теле, но что-то ей подсказывало, что он как раз из таких.
— Кошмарики на воздушном шарике! — произнесла девушка вслух.
Меньше надо шастать по литературным сайтам, цеплять там всяких гадюк и называть подругами! Но кто же мог подумать, что Нина Белова, с виду такая добрая и сострадательная, окажется…
На её страничку Маша зашла случайно около двух месяцев тому назад. Как преподаватель русского языка и литературы, она не могла не отметить красоты авторского слога, стройности композиции… Но больше всего Машу поразила глубина и трогательность её рассказов, прочувствованность сюжетов. Пальцы сами собой потянулись к клавиатуре, выводя восхищённые отзывы.
Нина ответила ей в тот же вечер. Начались долгие и интересные обсуждения её произведений, которые затем плавно перекочевали в личную почту. Вслед за этими пошли разговоры не только о литературе, но и о жизни, и с каждым письмом всё более откровенные.
Вскоре подругам виртуального пространства стало мало — захотелось реальных встреч. Благо, жили недалеко…
В субботу вздумали встретиться, пройтись по магазинам. У Маши как раз в бутике по соседству появилась новая коллекция. Нина с утра зашла, попили чаю, уже спустились во двор, как тут же им встретился Алексей из соседнего подъезда. После ритуального привет-привет-как дела, выяснилось, что Лёша через час уезжает в Грозный — послали в командировку как раз накануне дня рождения. Обидно, но что делать? Назвался правозащитником — полезай в пекло.
— Ой, а я тут тебе подарок приготовила! — всплеснула руками Маша. — Нин, подожди, я тут быстренько забегу.
Нина кивнула, Алексей тоже. Маша спешно зашла в подъезд, поднялась на свой этаж. Довольно быстро отыскав в комнате подарок — сборник воспоминаний про Илью Габая — девушка вернулась во двор.
Кто мог подумать, что сосед и подруга в её отсутствие заговорят о политике? Сама Маша не была равнодушна к этой теме. Более того, она всей душой разделяла убеждения либералов — не той демшизы, что в лихие девяностые довела страну до ручки, но умеренных социалистов, не ставящих Его Величество Рынок выше всего земного и небесного. Алексея она очень уважала — даже не за то, что он разделял её взгляды, а за ту смелость, с которой он боролся за права человека на Северном Кавказе. При встрече они частенько обсуждали политические новости.
А вот с Ниной разговоры о политике как-то не складывались. Подруга отнюдь не была нечувствительной к льющейся со всех телеэкранов ура-патриотической пропаганде. Её вера, что всякий демократ — агент Госдепа, страстно желающего развалить великую Россию, вогнать её обратно в девяностые, с каждым выпуском новостей обретала всё большую твёрдость. Всякие попытки объяснить Нине, что все эти речи про западную угрозу — не более чем тупое разводило от недобросовестных политиков, которым плевать на Россию с высокой колокольни, приводили чуть ли не к истерикам. Поэтому Маша старалась таких тем с ней избегать.
Кто первый заговорил о политике: Лёша или Нина? Теперь это не имело значения. Ещё на выходе из подъезда Маша услышала сотрясавшие двор истеричные крики:
— А вот не надо мне про Чечню, про мирных людей! Эти «мирные люди» моего мужа убили! Понимаешь, мразь либеральная? Мужа! Убили!
— Простите, Нина, я понимаю Вашу боль…
— Ни хрена вы не понимаете, кроме вашей либероидной лжи!
— Что тут происходит? — задала Маша вполне резонный вопрос.
— Это я виноват, — ответил Алексей. — Мне не стоило говорить с твоей подругой про Чечню. Неважно, права Вы или нет. Прошу прощения…
— Да засунь ты своё прощение знаешь куда!
— Нина…
— Что Нина? — подруга метнула в Машу ненавидящий взгляд. — Стаса этими вшивыми извинениями не вернёшь! Чтоб вас всех тут перестреляли!
Маша молча смотрела, как Нина стремительно удаляется прочь. С такой неприкрытой злобой она столкнулась, пожалуй, впервые за свои двадцать пять лет. Да ещё от кого? От подруги, которая, казалось, была сама доброта.
— Лёша, поздравляю тебя с днём рождения, — проговорила она, вручая книгу. — Здоровья тебе, удачи и всего самого наилучшего!
— Спасибо, Маша! Извини, что из-за меня…
— Не бери в голову! Если это настоящая подруга…
«Если бы это была настоящая подруга, — закончил вдруг пробудившийся разум, — то не пожелала бы мне смерти… В том числе и мне».
— В общем, Лёша, не принимай близко к сердцу. Нина остынет, успокоится, всё забудет.
Как легко, однако, прозвучали эти слова! Алексею проще — он-то, небось, наслушался подобных пожеланий от разных недобрых и неумных людей. Да и Маша бы не переживала, услышь она что-то подобное от какой-то незнакомой склочной бабы. Но как не принимать близко к сердцу, когда пожелание смерти звучит из уст подруги? Да ещё и незаслуженное. Впрочем, бывает ли дикая злоба справедливой?
Выходной был безнадёжно испорчен. По магазинам одной идти не хотелось. Пробовала заниматься домашними делами — всё валилось из рук. В книгах и фильмах, за которые девушка бралась, пытаясь отвлечься, всё напоминало о потерянной дружбе. Хотелось тупо выть волком. Даже любимое радио не спасло. Включила — а из динамиков зазвучало: «Душа болит, а сердце плачет». Ну прям-таки в тему!
Иногда Машу одолевало нестерпимое желание позвонить подруге, поговорить с ней по душам, попросить прощение… А за что? Когда Лёша говорил про Чечню, она даже рядом не стояла. Сам невольный обидчик извинился, но Нина его не простила. Нет, никаких звонков — Маша ни в чём не виновата, а значит, и каяться не будет.
Вечером следующего дня Нина позвонила сама. Увидев на определителе знакомые цифры, Маша обрадовалась: наверное, подруга остыла, решила помириться. Однако Нина, даже не поздоровавшись, заявила Маше, что после того, как её сторонники потоптались по светлой памяти Стаса, она более не желает с такой подругой общаться, что Маша причинила ей такую боль, что через кожу чувствуешь, и что, по-видимому, нельзя к «проклятым либерастам» относиться по-человечески, поскольку они не люди, а злобные монстры. Короче, не звони мне больше, не пиши и в гости не приходи — дверь не открою, трубку не возьму, а твой электронный адрес я уже внесла в чёрный список. Да, и на сайте забанила.
Может, не будь этой последней фразы, Маша ответила бы как-то по-другому, но решение Нины послать её даже не выслушав, разозлило, пожалуй, даже больше, чем необоснованные претензии.
— Можешь не беспокоиться! — ответила она резко. — Я и сама больше не хочу общаться с такой дурой! Ну тебя к чёрту!
И бросила трубку на рычаг.
Настроение было препаршивым, будто в вывернутую наизнанку душу смачно плюнули, а затем с наслаждением потоптались сапогами. Как доверять людям после такого?
На следующий день рабочие дела, общение со студентами, составление плана семинара несколько притупили неприятные ощущения. Вторник тоже выдался довольно-таки суетным — было не до мыслей о бывшей подруги. Вот мозг, видимо, и отыгрался ночью — такая фигня приснилась!
Пока Маша готовила себе завтрак, варила кофе, по радио звучала бодрая музыка: «Todo pasara, Maria! Todo pasara!».
Испанского девушка не знала, но судя по манере исполнения, ту Марию явно ожидало что-то хорошее.
***
— Михаил Ашотович, мне очень нужна Ваша помощь!
К счастью, на кафедре органической химии в это время не было никого — можно было спокойно поговорить с заведующим, профессором Атанесяном с глазу на глаз.
— Что случилось, Машенька? — отозвался пожилой мужчина с седой головой и умными, горящими жаждой познаний, глазами. — Я весь внимание.
— Дело в том, что меня уже второй раз убивают. И снова как будто бы не меня.
— Так-так, с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Подробности? Некоторые из них Маше запомнились. Убитого звали Франтишек Лозинский, и был он родом из Кракова. Девушка не ошиблась, когда думала, что он рыжий и с усами. Именно таким она в этот раз видела «своё» мёртвое тело как бы со стороны, среди груды прочих.
— Где именно их расстреливали, я так и не узнала, — закончила она свой рассказ. — Но помню, что была весна сорокового года, и до этого их держали в Козельском лагере. Для военнопленных.
— Скорей всего, в Катыни, — ответил профессор.
— Умоляю, Михаил Ашотович, помогите!
Маша недаром обратилась за помощью именно к нему. Весь институт знал, что профессор Атанесян, кроме своего предмета, также увлекался историей и для её изучения наряду с научными методами иногда баловался спиритизмом. Вызывая духов разных исторических личностей, он расспрашивал их о жизни в прошлые времена. Это, по словам профессора, помогало лучше понять и прочувствовать историю. А в этом никакие документы и справки не заменят живого общения. Пусть даже и с давно неживыми.
— Пожалуйста, позовите дух этого Лозинского, спросите, зачем он меня пугает!
— Неожиданная просьба! — Ашотович задумался. — Дело в том, что не все духи приходят. Я даже не знаю, существовал ли такой на самом деле. Но я попробую. Приходи вечером — посмотрим, что тут можно сделать.
***
Машу дважды уговаривать не пришлось — вечером после занятий она была уже как штык на кафедре.
— Ну что, Машенька, приступим, — деловито сказал Ашотович. — Только сначала я хотел бы, чтобы ты посмотрела. Я тут нашёл базы данных жертв Катыни. Есть там Франтишек Лозинский из Кракова, до войны был журналистом. Вот его фотография. Это он?
Девушка изумлённо таращилась на экран, где с чёрно-белого снимка на неё смотрел молодой человек лет примерно двадцати пяти в военной форме, в шестигранной шляпе с козырьком. Усы на фотографии были светло-серыми, но Маша не сомневалась, что на самом деле они рыжие.
— Слушайте, да точь-в-точь!
— Тогда — за дело. Садись за стол. Во время сеанса не вставай, блюдце двигай плавно и вообще старайся не делать резких движений, чтобы не спугнуть духа.
Маша послушно исполнила приказ. Ашотович тем временем разложил на столе небольшой круг, по периметру которого были нарисованы буквы русского алфавита. Внутри круга был прочерчен второй — диаметром поменьше, с цифрами от нуля до девяти. И наконец, самый маленький был почти у центра, и по обоим полюсам от него — «Да» и «Нет». По обеим сторонам круга профессор поставил четыре свечи, которые тут же зажёг. Затем вытащил из стола обыкновенное блюдце с приклеенной по радиусу стрелкой.
— Поднеси его к свечке и немного нагрей, — велел он Маше. — А я пока свет выключу. Главное, ничего не бойся. Я рядом.
Маша и не боялась. Одной было бы страшновато, но Атанесян опытный, знает, как с духами обращаться.
— Теперь поставь в центр круга, — сказал профессор, когда свет был выключен, а дверь кафедры заперта на ключ. — Дух Франтишека Лозинского, убитого в Катынском лесу, приди!.. Приподними блюдце… чуть-чуть… вот так. Опусти. Подтолкни… смелее…
Повинуясь пальцам девушки, блюдце плавно задвигалось по бумаге — словно лодка, плывущая по озёрной глади.
— Дух, ты здесь? — спросил профессор.
Блюдце поплыло, затем остановилось, указывая стрелкой на слово «Да».
— Пожалуйста, назовите себя.
«Я-л-о-з-и-н-с-к-и-й-ф-р-а-н-т-и-ш-е-к-и-з-к-р-а-к-о-в-а-о-ф-и-ц-е-р-в-о-й-с-к-а-п-о-л-ь-с-к-о-г-о», — заскользило блюдце. Маша едва успевала читать.
— Вы-то нам и нужны, пан Лозинский, — Ашотович удовлетворённо кивнул. — У этой барышни есть к Вам несколько вопросов. Вы будете говорить с ней сейчас?"
«Да».
— Говори, Маша.
— Пан Лозинский, — голос девушки чуть дрожал от волнения. Никогда прежде ей не приходилось говорить с польскими офицерами, да ещё и убитыми. — Я, конечно, сочувствую Вашей беде, понимаю, что это ужасно, но зачем… зачем Вы являетесь мне во сне? Что Вам от меня нужно?
«Т-ы-н-е-у-д-а-ч-н-о-в-ы-б-р-а-л-а-с-е-б-е-п-о-д-р-у-г-у-м-а-р-и-я».
— Ты неудачно выбрала себе подругу, Мария, — расшифровала девушка вслух.
«Да. У неё мощная энергия. Ты приняла её проклятие близко к сердцу и этим дала ему ход. К тому же, ты её оскорбила и посулила чёрта. Это усилило действие. Тебе придётся его искупить, чтобы не дать сбыться наяву».
— Замечательно! Опять я крайняя!
«Не сердись, Мария, но если оно сбудется, начнутся репрессии, как при Сталине. А не сбыться оно уже не может. Лучше тебе одной пострадать во сне, чем многие погибнут наяву».
— Ну а Вас почему это волнует? Вы же, извините, не русский.
«В России живёт моя внучка с мужем и детьми. Я не хочу, чтобы с ними что-то случилось. Тебе они тоже не чужие».
— Тётя Лина, что ли?
«Да».
С женой маминого троюродного брата дяди Коли, как, собственно, и с ним самим, Маша общалась очень мало. С близнецами Костей и Катей — тоже. Виной тому была скорее география — она в Москве, дядя с тётей в Екатеринбурге. Иногда звонили, поздравляли друг друга с днём рождения, в Новый год чокались по скайпу. Алина Яновна, которую в семье называли просто Линой, родом как раз из Польши. Её девичьей фамилии Маша до сих пор не знала. Слышала краем уха что-то про её деда, попавшего в плен к немцам в начале войны и расстрелянного. Думала, немцы же и расстреляли. А тут оказывается — наш НКВД. Да, если режим наподобие сталинского вернётся, тёте Лине придётся плохо. Она такая, что не станет молчать, когда видит явную несправедливость. А при тоталитарных режимах именно у молчунов и лизоблюдов больше всего шансов остаться в живых.
Но почему она, Маша? Не она же, в конце концов, обидела Нину.
«Алексею после Чечни и так много чего снится. К тому же, он не воспринял это проклятие как ты. Поэтому искупать тебе».
— И что я должна делать?
«Терпеть. Я буду сниться тебе по ночам с вторника на среду. Ты будешь мной, и тебя будут расстреливать. Через год это закончится».
— Целый год! — ужаснулась Маша. — Я этого не выдержу!
«Ты сможешь. Прости, Мария, жизнь внуков для меня дороже твоего спокойствия».
— Пора заканчивать, — заметил Ашотович. — Если долго говорить с мёртвыми, потеряешь много энергии. Попрощайся с духом и переверни блюдце.
— Прощайте, пан Лозинский! — произнесла Маша тоном полузадушенной мыши.
Хотя при таких угрозах уместнее было бы сказать: до свидания. Эх, жизнь-жестянка! Вот бы эту Нинку… Так, стоп — и так проклятий с лихвой хватает! Поэтому девушка не стала продолжать мысль — просто перевернула блюдце. Профессор задул свечи и включил электрический свет.
— Ну что, Машенька, как тебе общение с призраками?
— Если выражаться литературно, безумно хочется принять яд, повеситься, застрелиться или просто убиться об стенку.
***
Первые два месяца было особенно тяжело. Каждую среду, просыпаясь в холодном поту, Маша благодарила Бога за то, что не дал ей сегодня сойти с ума, и что теперь она, наконец, свободна от этого несносного поляка. До следующей среды. Потом кошмар повторялся по новой.
Маша никогда не придерживалась националистических взглядов, но сейчас она ловила себя на том, что ей легче было бы вынести свою собственную гибель, снись она себе русским (а ещё лучше — русской женщиной). Видеть же себя иностранцем, да ещё и офицером — это девушке казалось чем-то за гранью добра и зла. Не знамо почему становилось стыдно.
Впрочем, ничего постыдного и недостойного в биографии самого Лозинского она не находила. Видимо, желая как-то приободрить несчастную девушку, чтобы совсем уж не унывала, мучитель часто делился с ней воспоминаниями не только о своей смерти, но и о жизни. А жизнь у него была довольно-таки интересной. Да и сам Лозинский (хоть Маша его с трудом выносила, но не могла этого не признать) был личностью незаурядной. Прекрасно образованный, он свободно владел пятью иностранными языками: английским, немецким, французским, испанским и русским. Обожал путешествовать по разным странам, а потом, возбуждённый и раскрасневшийся, рассказывал друзьям о своих впечатлениях. Не менее охотно он делился этим с Машей. Сорбонна, где он учился в университете, Лондон, Париж, Барселона, Пореч, Венеция, Пула, Афины, Родос… Из всех этих городов Маша была только в Порече года три назад. Мост через Темзу, парк Гуэль, гондолы, собор и площадь Сан Марко, Акрополь, порт Мандраки — всё это девушка досель видела только на картинках. Теперь же глядела на эти достопримечательности глазами другого человека, жила его чувствами. Лишь какая-то малюсенькая крупица мозга помнила, что она всё же не Франтишек Лозинский, а Маша Кочеткова. Да и то как-то смутно, словно не веря, что эта Маша вообще существует.
Ещё он обожал книги. В его роскошном особняке была большая домашняя библиотека. Лозинский читал много и увлечённо, стремясь насытить свой пытливый ум. Дюма, Шекспир, Сервантес — Маша видела творения этих авторов только после того, как над ними тщательно поработал переводчик. Лозинский же с лёгкостью понимал их на языке оригинала.
Также Маше доводилось наблюдать эпизоды из его обычной жизни: учебные будни в Сорбонне, семейные праздники. Лицезрея Алисию, на которой Лозинский женился незадолго до начала войны (и даже успел узнать, что скоро станет отцом), Маша невольно отмечала, как тётя Лина похожа на свою бабушку.
Правда, такие моменты, когда истинное «Я» девушки становилось чётким, случались редко. Маша, пожалуй, могла бы пересчитать их по пальцам. Однажды, когда Лозинский стоял перед зеркалом, расчёсывая свои рыжие кудри, та часть разума, что осталась Машей, скривилась: «Сбрил бы, что ли, эти ужасные усы!.. Господи, ну что же это я? — одёрнула она себя в следующую минуту. — Уже прям как Нинка становлюсь!». Не виноват же человек, в конце концов, что ей не нравятся рыжие усатые. Что если ей самой, не дай Бог, придётся, спасая своих близких, также кому-то являться во сне, и что если этот кто-то терпеть не может шатенок? «Извините, пан Лозинский, я сказала глупость».
Впрочем, Лозинский её не слышал. Тогда он и подумать не мог, что какая-то Маша Кочеткова будет за ним наблюдать.
В другой раз частичка Маши пробудилась, когда Лозинский со своими университетскими товарищам отмечали окончание учебного года. В разговоре они коснулись преподавателя по английскому, который без конца ворчит.
— В его-то возрасте сам Бог велел! Когда мне будет семьдесят, я, наверное, тоже буду ворчливым стариком. «Ужасная пошла молодёжь! Вот в наше время...».
Представив себя таким, Лозинский рассмеялся. А смеялся он заразительно, от души. Маше вдруг с грустью подумалось, что этого никогда не будет. В двадцать шесть лет он будет лежать убитым в Катынском лесу, так и не увидев родного сына — Ян появится на свет уже после смерти отца. Вместо неприязни рождалось сочувствие. Но сам Лозинский, разумеется, об этом не знал — молодому человеку жизнь казалось такой длинной! Но даже если бы и знал, едва ли мог бы что-то изменить. Когда во время войны мобилизуют, согласия, как правило, не спрашивают. Когда берут в плен и расстреливают — тем более.
Ещё пару-тройку раз Машина половинка активизировалась во время путешествий, разок-другой — во время чтения очередной книги, а один раз — во время расстрела, которым неизменно заканчивались эти сны. Лозинский умирал, а девушка просыпалась, дрожа от ужаса.
Изредка ночной гость делился с ней журналистскими буднями, выбирая самые интересные события. Картины его пребывания в Козельском лагере Маша и вовсе видела только два раза. Даже тогда весёлость и жизнелюбие не покинули Лозинского. Он, как и многие, не ожидал, что их расстреляют — думал, отправят обратно в Польшу. Впрочем, лагерной жизнью он девушку не грузил — она заставала его то за чтением книг, то за разговорами с товарищами по несчастью, довольно-таки бодрыми для данного заведения. На Машиной памяти, лишь однажды Лозинский пал духом — когда его вместе с товарищами вели на расстрел. Отчаяние, внутренний протест, неверие, что собственная погибель так близко и, под конец, смирение с Божьей волей — всё это Маше приходилось чувствовать каждую ночь на среду.
Днём Лозинский её не беспокоил, но невольно Маша стала задумываться: а что если и за ней сейчас кто-то следит? Кто-то из далёкого будущего, который появится на свет уже когда её не будет. Что если кому-то слышная каждая её мысль, виден каждый шаг? И хотя Маша никогда не была особо скрытной, это её несколько пугало. Каково жить с ощущением, будто тебя снимают скрытой камерой? Остаётся, по-видимому, одно — сделать свою жизнь максимально интересной, чтобы было что рассказать и показать. И ещё — стараться не совершать неблаговидных поступков, которые захочется скрыть от людей. Конечно, на каждый чих не наздравствуешься — всегда найдутся желающие обругать, осудить. Главное — чтобы самой не было стыдно.
Днём девушка была сама собой, однако порой несказанно удивляла всех, кто с ней знакомы. Она могла, забывшись, сказать студентам, как звучит фраза из пьесы «Овечий источник», если её дословно перевести с испанского, или вспомнить отрывок из поэмы «Пан Тадеуш», которой она наяву не читала. Соседке, которая собиралась провести часть отпуска в Польше, стала советовать, что стоит посмотреть в первую очередь.
— Ты там была? — спросила та удивлённо.
— Нет, но у меня один знакомый живёт в Кракове. Вернее, дальний родственник. Он мне фотки показывал, — выкручивалась Маша, как могла. — Ну, и рассказал кое-что по скайпу.
Один раз жарко заспорила со своим коллегой — молодым преподавателем истории.
— Вот немцы расстреляли в Катыни польских военнопленных, а потом ещё на наших стали сваливать…
— Вообще-то это наши их расстреляли, — не удержалась Маша.
— Поменьше слушай всякую русофобскую пропаганду, — скривился тот.
— Да я сама видела, что это наше НКВД…
«Вот ляпнула!» — подумала девушка с опозданием.
— Поменьше бы смотрела этого Вайду! Ещё тот клеветник и мерзавец!
Маша попыталась было сказать, что знать не знает никакого Вайду, но тут, что называется, «Остапа понесло» — ругательства в адрес несчастного вскоре сменились рассуждениями о том, как ненавидели поляки русских с самого сотворения мира, и что за интервенцию в Смутное время и Лжедмитриев, даже если бы их двое больше пострелял наш дорогой товарищ Сталин — большого греха бы не было. Хорошо ещё, не пожелал, чтобы вместе с ними расстреляли саму Машу и её сторонников. Двух лет еженедельной «польской интервенции» ей не вынести!
Коллеги, которые слышали этот спор, конечно, удивились: Маша, которая никогда не интересовалась ни Катынью, ни поляками, вдруг начала что-то доказывать знатоку истории. Пришлось отбояриться тем, что на днях смотрела какой-то документальный фильм. Не говорить же, где и как она всё это видела — не поймут.
Что же получается, Маша вот так взяла и доверилась какому-то малознакомому (да ещё и несимпатичному) поляку? Отнюдь. После спиритического сеанса девушка первым делом связалась с дядей Колей. Поздоровавшись и поговорив немного о текущих делах, попросила позвать тётю Лину. Алина Яновна, которая в девичестве и впрямь оказалась Лозинской, очень удивилась: с чего вдруг троюродная племянница так подробно расспрашивает её про давно умершего деда. Как звали? Откуда был родом? Чем занимался? Сама тётя Лина своего дедушку не видела, но по рассказам бабушки (Алисией её звали) кое-что помнит. Да, и расстреляли его, кстати, в Катыни. До бабушки ещё дошло одно из его писем, что дедушка писал из Козельского лагеря для военнопленных. Очень аккуратно Маша пыталась выяснить у троюродной тёти, было ли, что её дед настороженно относился к русским, как-то их недолюбливал.
— Недолюбливал? Господь с тобой! Наоборот, к русским он относился с симпатией. По крайней мере, так рассказывала бабушка. А месть… Нет, он вообще был человек не мстительный.
В правдивости её слов Маши вскоре самой довелось убедиться. Читая мысли пана Лозинского, она не обнаруживала никаких злых чувств к своим соотечественникам. По крайней мере, к простым людям. Даже когда его расстреливали, с его губ не слетело ни одного проклятия… Нет, такой бы не стал мучить кого-то просто из русофобии. Да и нелогично было бы выбрать для этой цели именно Машу. Тогда уж скорее стал бы сниться какому-нибудь «пламенному патриоту», типа той же Беловой.
Странно, но всё больше девушка ловила себя на то, что не только притерпелась к Лозинскому, но даже стала испытывать к нему симпатию. Ещё в первые месяцы его странных визитов она купила самоучитель польского языка. Не для того, чтобы понимать, о чём говорят в её снах — для того, которым она себя ощущала, этот язык был родным. Но хоть сколько-нибудь зная этот язык наяву, проще было терпеть эти перевоплощения. Также Маша стала время от времени готовить себе блюда из польской кухни и слушать польские песни. Это несколько сглаживало стресс от резкой смены культур.
Этот субботний день апреля ничем не отличался от остальных. С утра прошлась по магазинам — купила продуктов. Возвращаясь, встретила во дворе Алексея. Поболтали немного о политике. В частности, о вчерашнем нападении в Ингушетии на правозащитников из офиса «Комитета против пыток». К счастью, обошлось без человеческих жертв. Больше всех пострадал водитель автобуса, чьего железного коня нападавшие сожгли дотла…
«Может, не зря я всё это терплю? — думала Маша, шагая дворами с пакетом только что купленных со скидкой сапог. — Может, если бы проклятие сбылось наяву, этих людей бы в живых не было?.. Или у меня уже просто стокгольмский синдром?».
Размышляя, она едва не наткнулась на группу туристов. Две парочки, рассматривая карту, о чём-то спорили, переговариваясь по-польски. Когда же она с ними поравнялась, один мужчина обратился к ней на английском языке:
— Простите, Вы не подскажете, как пройти в Третьяковскую галерею?
Маша стала объяснять им, наблюдая, как на лицах туристов проявляется всё больше удивления.
— Спасибо! Вы так хорошо говорите по-польски!
— Жизнь заставила, — ответила Маша.
Когда поляки ушли, радость от комплимента сменилась некоторой обидой. Вот она тут одна за всех мучается, а Нинка посылает проклятия, притом не тем, кто отправили Стаса на эту подлую ненужную войну, а тем, кто называют эту войну таковой — и ей ничего, живёт себе припеваючи. Впрочем, припеваючи ли? Лозинский бы, например, ни за что не поверил, что с такой злобой в сердце можно быть счастливым. Для него жизнь была слишком интересной, чтобы тратить её на бессмысленную ненависть.
— Чурки — они и есть чурки! — вдруг услышала она знакомый голос.
Нинка? Точно! Она! Эх, легка на помине. Стоя напротив пожилой женщины, Белова что-то горячо доказывала ей. В стороне, немного поодаль от спорщиц, играли мальчишки. Среди них — семилетний Серёжа.
— Они тут понаехали, ведут себя чёрт-те как! — всё больше распалялась Нина. — А я должна относиться к ним как к равным? Они тут грабят, убивают, насилуют русских девушек — а мы должны терпеть? Я русская, православная…
«Да уж, православнее некуда!» — подумала Маша.
Тем временем мяч, брошенный одним из мальчиков, полетел на дорогу. Серёжа и один из его товарищей выбежали на проезжую часть. Тот другой мальчишка оказался проворнее — добежал первым, схватил мяч… Серёжа повернул голову в его сторону, не замечая, как прямо на него несётся автобус…
Ноги девушки сообразили скорее, чем голова. Маша не успела понять, как оказалась на проезжей части, как толкнула Серёжу вперёд, как ударом корпуса её сшибло с ног прямо на асфальт. Помнила только круглые глаза мальчика, его испуганный голос: «Тётя Маша?», отчаянный крик Нины: «Серёжа! Серёженька!».
«Лучше б за ребёнком следила, а не „патриотические“ истерики устраивала!» — подумала Маша.
Обругать дурёху уже не было сил. «Todo pasara, Maria! Toso pasara!», — было последним, что она услышала из окна проезжающей машины, прежде чем сознание её покинуло.
***
«Да, Мария, попала ты! Прежде бы испугалась, растерялась, не знала бы, что делать, а тут не раздумывая побежала. Видать, привычка просыпаться после расстрела притупила чувство опасности».
Хорошо ещё, автобус успел сбросить скорость, а то бы плохо пришлось. Конечно, сотрясение мозга и перелом двух рёбер — тоже не есть хорошо, но всё-таки…
Именно такими были первые мысли девушки, когда, очнувшись в институте Склифосовского, она узнала от врача, что ещё легко отделалась. С ней в палате лежали ещё три соседки. Лиля и её мать Ольга Владимировна сломали одна ногу, другая руку, когда при пожаре выпрыгнули из окна собственной квартиры.
— Это Нинка, зараза, накаркала! — сетовала Ольга Владимировна. — Вот квартира и загорелась. Хорошо, выпрыгнуть успели, и этаж второй.
Из-за чего у них возник скандал с дачной соседкой, которая пожелала им сгореть, женщина не уточняла и фамилии не назвала. Поэтому Маша не могла бы с уверенностью сказать, прокляла ли их одна и та же Нина или разные. Однако дача Ольги Владимировны находилась во Фрязево. В том же городе, где дача Беловой.
Наталия Сергеевна попала в Склиф безо всякого проклятия — вышла во время рабочего перерыва покурить и, поскользнувшись, упала с крыльца. Да так неудачно, что сломала ногу и ударилась головой о ступеньку. С ней Маша общалась охотнее, чем с парочкой погорелиц. Да тем обычно было не до неё — мать и дочь часто были заняты тем, что переругивались между собой. Причём инициатором всегда была именно Лиля. Стоило Ольге Владимировне сказать дочери безобидную фразу типа: оденься, холодно; или: не читай, свет плохой, — та живо начинала огрызаться. Попытки матери усовестить её: мол, что подумают люди, — не имели успеха, Лиля кричала, что ей плевать. А когда мать сказала: подумай обо мне, — устроила такую истерику, что медсестре пришлось колоть ей успокоительное.
«Что за невоспитанная девчонка! — думала Маша. — Может, ей, конечно, после пожара крышу сносит. Но меня тоже чуть не убило. А по средам так вообще расстреливают. Но я же не истерю».
Девушка вдруг поймала себя на мысли, что думает о Лозинском в первом лице. Ну всё, здравствуй раздвоение личности! Хоть на учёт в психдиспансер становись!
Совсем в иной тональности разговаривала Наталия Сергеевна со своим сыном, правда, только по телефону. У Никиты была командировка в Уренгое, притом очень важная, и приехать досрочно не было возможным. «Не волнуйся, Никитушка, всё нормально… Да нет, почти не больно… И кормят нормально… Всё хорошо, сынуля». Лиля, слыша эти разговоры, начинала почему-то волком глядеть на мать.
На пятый день нахождения в больнице Маша с самого утра казалось: что-то не то. Нет, по сравнению с тем, что дома, конечно, всё было не таким. Но сегодня её не покидало ощущение чего-то неправильного, необычного. Что именно, девушка никак не могла понять. То, что Нина ни разу не только не зашла, но даже не позвонила, даже не поинтересовалась, как чувствует себя та, которая пострадала, спасая её ребёнка — это, безусловно, не по-людски. Однако, положа руку на сердце Маша не могла сказать, что была бы безумно рада визиту бывшей подруги. А Лиля с матерью (если, конечно, она и есть их соседка по даче) обрадовались бы и того меньше. Пусть лучше и вовсе не приходит, нежели самым неблагодарным образом обрушит кучу новых упрёков, завершив это дело пожеланием всего «доброго».
Лиля очередной раз устроила матери некрасивую сцену — на пустом месте, как обычно.
«Достали! — подумала Маша с досадой. — Выйти, что ли в коридор, пока они тут выясняют отношения».
Поднявшись с койки, девушка направилась к двери. С другой стороны тут же постучали. Маша отошла чуть назад, чтобы входящий случайно не стукнул её по лбу.
— Здравствуйте! — поприветствовал больных молодой человек с копной рыжих волос.
Девушка не успела ничего ответить. Земля стремительно уплыла из-под ног. Руки парня устремились навстречу её падающему телу…
Когда девушка открыла глаза, то обнаружила себя на койке. В палате было непривычно тихо.
— Что это было? — спросила Маша.
— У Вас закружилась голова, — ответил рыжеволосый парень. — Доктор сказал: при сотрясениях это бывает. Как Вы сейчас?
— Вроде бы нормально.
Парень, на руки которого её угораздило упасть, был вовсе не похож на ожившего поляка из снов. Цвет волос, пожалуй, было единственным, что напоминало о Лозинском. Но у этого пышная шевелюра так не завивалась. Отчего же его визит привёл Машу в такое волнение? Нервы, не иначе.
Никита пришёл к матери, что называется, с корабля на бал — а вернее, с поезда в больницу. Только успел забежать домой оставить вещи.
— Тебе сегодня на работу не надо? — спрашивала сына Наталия Сергеевна.
— Нет, среду мне оплатят как командировку…
Машу вдруг словно током ударило: вот что не так! Сегодня среда, а Лозинский так и не явился ей во сне. Сегодня ночью её не расстреливали.
«Должно быть, он меня просто пожалел, — подумала девушка. — Решил, что мучить несчастную стукнутую головой, да ещё и с переломами — это уж слишком».
Конечно, Маша понимала, что никуда она не денется — придётся это терпеть ещё четыре месяца. Но хотя бы в Склифе отдохнёт от этих сновидений.
Долго говорил Никита с матерью. Глядя на него, Маша невольно ловила себя на мысли, что парень довольно-таки симпатичный. А ведь раньше она едва ли подумала бы так про рыжего. Наверное, правы психологи, которые рекомендуют представить себя на месте тех, к кому испытываешь страх или антипатию. Что-то в этом определённо есть.
Ещё одним сходством Никиты с паном Лозинским была очаровательная улыбка, которой он одарил на прощание всех присутствующих, пожелав им скорейшего выздоровления.
После его ухода Маша ещё долго не рисковала встать с постели, опасаясь, как бы снова не закружилась голова. Да и надобности особой не было. Лиля остаток дня вела себя тихо — не только не кричала, но и почти не разговаривала.
Проснувшись ночью, Маша услышала в коридоре чей-то плач. Встав с койки, она тихонько подошла к двери и выглянула из палаты. На подоконнике, закрыв лицо руками, сидела Лиля. Маша робко приблизилась к ней:
— Лиля, ты чего?
— Устала я! — всхлипывала девушка. — Нет больше сил это терпеть! Я её любила всей душой, а она…
Конечно, из речей соседки Маша не поняла ровным счётом ничего. Что терпеть? И кто она? Нетрадиционная любовь?..
— Пятнадцать лет я боялась за её жизнь, — продолжала Лиля. — Боялась, что мама умрёт, и я останусь одна, никому не нужная. Пятнадцать лет я старалась быть хорошей дочерью, лишь бы мама жила. Да только что бы я ни делала, ей всё было мало, всё равно я была плохой! И я боялась. Она специально меня пугала, чтобы я слушалась! Ей казалось, что я её не люблю, а я любила! Любила! А теперь придушить готова!
Маша оторопело слушала, не зная, что сказать. Её саму никогда родные не пугали так жестоко. Самым страшным кошмаром её детства было: не придёт Дед Мороз и не принесёт подарка. По крайней мере, Маше после таких угроз вредничать не хотелось.
— Думаю, ты и сейчас её любишь, — сказал Маша первое, что пришло в голову. — И она тебя любит.
— Она меня предала, растоптала доверие.
— Понимаю. Меня вот тоже предали. Подруга взяла и прокляла. Теперь меня каждую среду убивают. Во сне.
— Офигеть! А из-за чего прокляла?
— За недостаток патриотизма, можно сказать.
Машины слова, казалось, нисколько не удивили собеседницу.
— Типа: не смей быть здоровой, когда мы тут шизеем от страха перед Западом?
— Примерно так. Рада, что ты тоже не поддаёшься на эти громкие лозунги.
— По телику нас пугают, чтоб были покорными, — проговорила Лиля со злой усмешкой. — А мне этих пятнадцати лет вот так хватило!
С этими словами она провела ногтем по горлу и скривилась, показывая, насколько ей это осточертело.
— Значит, не зря страдала, — попыталась утешить девушку Маша. — Нервы попортили, зато думать научили. Притом головой, а не чем попало.
— Захочешь жить — и думать научишься!
— Кочеткова, Андреева, а что это у вас за посиделки? — раздался ворчливый голос дежурной медсестры. — Ну-ка живо спать!
— Пошли, — Маша увлекла собеседницу в палату, пока та не успела что-то возразить.
Лиля затихла почти сразу, как только голова коснулась подушки. К Маше сон долго не шёл. Её голова была занята мыслями.
«Вот видишь, Мария, а ты думала, что тебе так плохо!»
В сравнении с Лилиными, собственные заморочки не казались такими уж страшными.
«Мы с Лозинским боимся пятнадцать минут и за себя — да и то лишь по средам. И страх у нас получается один на двоих. А каково пятнадцать лет бояться за близкого человека — каждый час, каждую минуту? Да ещё и в детском возрасте. Мы-то люди взрослые. И я хоть знаю, за что страдаю. А Лиля… От такого запросто снесёт крышу! Нет, Мария, тебе определённо не хуже всех!».
Упс! А ведь Лозинский, уже будучи военнопленным, тоже говорил себе и своим товарищам: мол, нам ещё не так плохо, бывает и хуже!
«Ладно, Франтишек Адамович, пусть лучше пострадаем мы, чем наши близкие», — подумала девушка, прежде чем погрузиться в сон.
***
В больнице Маша провела ещё два дня, прежде чем её выписали. Сказать, что она скучала, пожалуй, было бы неправильно. Частенько её навещали родные, друзья, коллеги по работе. Когда никого из посетителей не было, разговаривала с соседками. Лиля, стоит заметить, после ночной беседы вела себя гораздо спокойнее. Правда, с родной матерью была не слишком словоохотливой. Словно боялась, что всё сказанное может быть использовано против неё. Ольга Владимировна, напротив, болтала, как сорока, радуясь, что, наконец, свободна от истерик дочери. Слушая её речи, Маша всё больше убеждалась, что эта дама использует голову с одной целью — укладывать свои шикарные волосы в красивые причёски. А пошевелить мозгами лишний раз ей просто лень (если тут вообще есть чем шевелить). Не то что умная и эрудированная Наталия Сергеевна.
Никита, навещавший мать каждый день, был ей настолько под стать, что Маша стала всерьёз опасаться впасть в другую крайность: связывать рыжину волос с высоким интеллектом.
Нина так и не сочла бывшую подругу достойной своего визита. Ну да Бог ей судья! А может, случай с Серёжей был неким знаком, предостережением? По крайней мере, Маше хотелось надеяться, что пережитый ужас оттого, что она так легко могла потерять самого дорогого человека, заставит ей стать хоть чуточку добрее. По-настоящему, а не напоказ.
Однако не удостаивал её своим посещением и Лозинский. В первую среду после выписки Маша была уверена, что он даёт ей немного времени прийти в себя. Но когда прошла ещё неделя, и в среду опять не пришлось быть никем, кроме крепко спящей себя, девушка начала заметно волноваться:
«Ну чего же Вы, Адамович, не приходите меня мучить? Проклятие-то никуда не делось!».
Больше всего она опасалась, что перенесённая травма головы лишила её способности видеть сны, нарушив тем самым хрупкую связь с дальним родственником. А значит, в лучшем случае, эти «картинки» придётся смотреть кому-то другому. Тому же Алексею, например. А в худшем… Что может быть в худшем, Маше и думать не хотелось.
— Пожалуйста, Михаил Ашотович, можете ещё раз позвать духа Франтишека Лозинского?
— Что, понравилось общаться с потусторонним миром? — удивился профессор.
— Не совсем. Просто после сотрясения мозга он перестал мне сниться.
— Соскучилась?
— Да нет, просто не понимаю…
— Ладно, ладно, приходи вечером на кафедру. Сами и выясните отношения.
***
Второй раз Маше не приходилось объяснять, что делать. Села за стол, зажгла свечи, взяла в руки блюдце. Ашотовичу оставалось только выключить свет и позвать духа. Правда, поначалу Маша сомневалась: придёт ли Лозинский? Ведь если травма головы была серьёзная…
— Ты должна хорошо пожелать, чтобы он пришёл, — строго сказал Ашотович. — А не сомневаться. Если, конечно, хочешь с ним поговорить.
Да, она действительно хотела. Давайте же, Франтишек Адамович, приходите! Наконец, блюдце слабо задвигалось.
Как и в прошлый раз, профессор попросил духа назвать себя. Убедившись, что пришёл именно тот, кого звали, спросил, будет ли он говорить с той, по просьбе которой его, собственно, и побеспокоили.
— Добрый день! — поприветствовала его Маша по-польски, как только прочитала ответ. — Что случилось? Почему я больше не вижу «картинок»? Я же должна смотреть их ещё четыре месяца.
«А чего я, собственно, по-польски? — подумала девушка в следующий момент. — Франтишек Адамович хорошо знает русский».
К тому же, сам алфавит в круге состоял целиком из кириллицы, а это значит, что ни на каком другом языке поговорить и не получится. Что ж, тем лучше! Такие серьёзные вещи лучше обсуждать на своём родном.
«Добрый день, Мария! Картинок больше не будет. Ты спасла ребёнка Нины. Она его очень любит. Её любовь погасила проклятие».
— Неужели она мне всё-таки благодарна? — удивилась Маша.
А ведь по ней и не скажешь.
«Дело не в благодарности. Она сильно испугалась за ребёнка. И была счастлива, что он жив-здоров. А ты причастна».
— Что-то вроде энергетического обмена? — уточнила Маша, всё ещё не веря своему счастью.
«Да».
Вот так, оказывается, всё просто. Сейчас она попрощается, перевернёт блюдце — и всё. Прощайте, пытки по средам! Прощай, двойная жизнь! Теперь она будет Машей Кочетковой и только ею!
Но как — так просто взять и сказать: прощайте, Франтишек Адамович? Это казалось Маше слишком уж… Некрасивым, неприличным, банальным? Нет, даже не так. Нелепым, что ли? Да, пожалуй, нелепым. Ведь они больше не увидятся до тех пор, пока не придёт Машин черёд расстаться с земной жизнью. Но что в таких случаях говорить, девушка не знала. А пауз в разговорах между родственниками, пусть и дальними, она жутко не любила.
Блюдце тем временем само задвигалось. Лозинский хочет ей что-то сказать?
«Прости, что заставлял тебя умирать. Я не мог поступить по-другому».
— Да я на Вас не в обиде. Простите и Вы — за подружку.
«Я не сержусь. Желаю тебе побольше хороших, настоящих друзей».
— Спасибо!
«Вижу, ты хорошо выучила польский. Рад твоим успехам».
Вот, пожалуй, и всё. Пора прощаться. Или…
— Франтишек Адамович, а что означает: «Todo pasara, Maria!"?
«Всё пройдёт, Мария!».
***
Весна в этом году выдалась противоречивой. Минусовая температура как-то резко перешла к отметке выше десяти. В городском парке плескались в растаявшей воде разноцветные селезни, били друг друга крылами, добиваясь внимания своих рябых подруг.
Молодая женщина с тёмными волосами бросала им хлебные крошки. Нечаянно выронив булку, она присела, чтобы поднять её с земли (нагнуться ей мешал стягивающий рёбра корсет) и снова принялась отщипывать маленькие кусочки. Утки суетливо поглощали обед, который, видимо, пришёлся им по вкусу.
Весна обещала не менее тёплое лето. Мысли о предстоящем отпуске приходили в голову сами собой.
«Возьму, наверное, в июле, — думала Маша. — Махну на недельку в Краков, в Варшаву… Хотя я там вроде как и была, но интересно же посмотреть, как там всё изменилось. Всё-таки столько лет прошло… Целых восемьдесят!».
Бросив в пруд последний кусочек, девушка развернулась и пошла прочь. По парковой дорожке мимо неё простучала костылями…
— Нинка!? Кто тебя так?
Действительно, выглядела Белова, мягко говоря, неважно. Через чёрные колготки на правой ноге просвечивалась толстая повязка гипса. Из-под широкополой шляпы на лбу и затылке выглядывали полоски бинта. Под левым глазом сиял внушительный «фонарь».
— Шпана, хулиганьё! — процедила болезная сквозь зубы. — Напали в подземке. Мало того, что сумку спёрли, так ещё чуть не угробили! Чёрт бы их подрал, уродов!
На сей раз возразить ей или осудить у Маши язык не повернулся. Оно и понятно: трудно испытывать тёплые чувства к тем, кто тебя избил и ограбил.
— А что полиция?
— Что-что! А ничего! Сказали: раз не убили, значит, всё хорошо.
— Железная логика!
И ведь по факту не поспоришь. Кто скажет, что остаться в живых — это плохо?
— Вот ты мне нажелала всякого, — продолжала тем временем бывшая подруга. — Теперь довольна? Злой ты человек, Машка! Бог тебя за это накажет!
— Я тебе, Нинка, ничего не желала, — ответила Маша как можно спокойнее. — А тебя, видимо, уже наказал. Меньше бы желала зла другим. Тогда бы оно к тебе не возвращалось… Ладно, я пойду, а то надоела мне уже эта Катынь.
— Какая Катынь? — от удивления Нина упустила из виду всё, что было сказано до этого.
— Обыкновенная, смоленская. Кстати, спасибо, благодаря тебе хоть польский выучила! Да и кое-что про родственников узнала. Ладно, счастливо! Поправляйся!
И ушла, оставив бывшую подругу в полном недоумении.
«Да, тем более язык знаю, особых проблем с пониманием не будет, — мысли Маши снова вернулись к предстоящему отпуску. — Поеду, наверное, дикарём — возьму билеты, гостиницу забронирую. Так, наверное, будет дешевле, чем если по путёвке. Заблудиться — не заблужусь… Хотя там уже могли так отстроить, что сразу и не узнаешь...».
— Маша! — голос, который её окликнул, показался девушке знакомым.
— Никита, привет! — изумилась девушка, обернувшись. — Не ожидала Вас здесь увидеть.
— Я тоже. Иду и вдруг вижу: Маша, не Маша? Как у Вас дела?
— Да нормально. Рёбра скоро заживут. И голова уже почти совсем не кружится. А как мама?
Наталию Сергеевну выписали на два дня позже.
— Более-менее. На костылях ходит. Скучает, правда, дома — говорит: когда же уже на работу? Там всё-таки с людьми общается.
— Понимаю. Привет ей от меня.
— Спасибо! Обязательно передам. Кстати, Вы сейчас домой?
— Ну да.
— Разрешите Вас проводить?
Маша внимательно посмотрела на Никиту. Его лицо озарилось улыбкой, такой обаятельной, что девушке даже в голову не пришло сказать: нет. Не страшно, что рыжий. Был бы человек хороший!
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.