Теща
Изабелле Семеновне Г.
«Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха
– ко греху послужили ему эти жертвенники.»
(Ос. 8:11)
Часть восьмая
16
Происшедшее я не пожелал бы пережить врагу.
Хотя нет, я подумал штампованно, на самом деле все не так.
Во-первых, врагу бы я пожелал и это и гораздо большее. Ведь нет ничего более приятного, нежели наблюдать душевные конвульсии человека, который вызывает отвращение.
А во-вторых, врагов у меня нет.
Кто-то может не поверить, но это именно так.
Я человек спокойный и уравновешенный, мне неизвестна ненависть, я никогда не испытывал вспышек неукротимой ярости. Тот случай, когда я намеревался убить интерна, остался единственным серьезным, причем не реализовавшимся.
Я не допускал в свою дельта-окрестность людей, которые могли стать моими врагами. Сначала уклонялся от общения с такими, после определенного момента стал их просто перешагивать. Это удавалось легко.
Ведь профессиональную жизнь я вел в двух параллельных плоскостях.
В университете у меня не могло быть врагов вообще, поскольку там я совместительствовал и не составлял никому конкуренции. И на математическом факультете и на физическом, где я тоже читал лекции, и на других, невольно попадающих в круг моего общения, у меня имелись только нейтральные доброжелатели.
В Академии наук все обстояло иначе.
Кое-какие приятели у меня имелись в ОФМ, пока я сам был никому не мешающим младшим научным сотрудником: сама аббревиатура «мнс» расшифровывалась как «мало нужный». Но эти люди, составлявшие мое дружественное окружения, работали в других секторах или вовсе были физиками.
Потом все стало изменяться естественным образом: ОФМ разделился на институты математики и физики, имевшиеся приятели рассосались. Я пошел вверх и остался один: в своем секторе не только ни с кем не дружил, но там меня даже называли на «вы» и по имени-отчеству.
Во всем Институте математики у меня остался лишь один относительно близкий человек – ученый секретарь Шайгарданов. Закирьян старше несколькими годами, но смотрит на меня снизу вверх и это полностью обусловлено. Он пожизненный ученый секретарь, был им в ОФМ еще до моего прихода на работу в сектор к Ильинскому, автоматически перешел тем же самым в Институт математики. Коллеги дали Шайгарданову прозвище «неторопливый», кандидатскую он защитил во времена, когда я заканчивал докторскую, и это его предел. Причем не потому, что Закиру не хватает способностей – просто он не желает напрягаться.
Должность ученого секретаря на самом деле является синекурой, она заключается в тщательном перекладывании бумажек и координации действий кого-то другого. Шайгарданов в самом деле нетороплив, он прекрасно жил в своем уютном кабинете с видом на реку Белую около мечети, теперь живет в столь же уютном с видом на сквер Маяковского – не спеша пьет кофе, сидит за солидным столом, читает новости в Интернете. Он держится за место и я его прекрасно понимаю: не имев амбиций, я бы и сам мечтал о таком.
Но претендентов на ученое секретарство хватало, а Закирьян Давлетгареевич с самого начала разглядел во мне будущего начальника, поэтому держался за меня как за гарантию своего неограниченного благополучия. И я его прекрасно понимал. Я бы сам держался за кого-нибудь, но не имел в своем кругу никого, кто оказался бы выше меня.
Кроме Шайгарданова в Институте математики у меня не было приятелей, но и врагов тоже не было.
Старый сморчок Ильинский ушел в прошлое: смещенный с должности завсектором, он почти сразу женился на своей мясистой аспирантке и уехал в Новосибирск. С директором института Налимовым мы находились в состоянии холодной симпатии, больше никого для сравнения с собой я тут не имел.
Впрочем, о друзьях и врагах вспомнилось как-то спонтанно, это никак не связано с воспоминаниями о лете девяносто шестого года.
Само это лето шло обычным образом.
Я уже почти год работал завсектором, предвкушал очередной отпуск, который мы запланировали заранее. Нэлька тоже готовилась, принимала больных разумно, чтобы к моменту выхода не иметь у себя послеоперационных.
«Апостолы», которым на двоих было 28 лет, по-прежнему жили у моих родителей, сейчас отдыхали – я отправил их в подростково-молодежный оздоровительный лагерь от Академии наук. Об этом лагере я предварительно навел справки через безотказного Закирьяна и знал, что там не может быть «воспитательниц» пошиба Костиной пионервожатой.
В конце весны я купил себе свой первый синий 123-й «Мерседес», он сразу позволил устоявшейся жизни катиться по еще более ровным рельсам.
С женой мы жили в полном сексуально-бытовом согласии.
С теще встречались изредка – примерно раз в месяц ездили в Сипайлово, накануне созвонившись.
По большому счету, мне эта связь была уже не нужна. Ирина Сергеевна помогла мне перевалить точку перегиба, дальше я двигался с прежней энергией. Но я еще в прошлом году понял, что нужен ей так же, как она была нужна мне школьнику и студенту, сейчас я пытался отплатить ей тем же добром.
Угрызений совести перед Нэлькой за то, что я изменяю ей с ее матерью, я не испытывал. Ведь она, как я понимал, не изменила своих привычек, только больше не выходила за рамки приличий и мы делали вид, что ничего лишнего не происходит.
Так было удобно для нас обоих, так жилось спокойно, и Нэлька оставалась по-прежнему желанной. И так могло продолжаться до сих пор.
И продолжалось бы, если не обрушилось в одночасье.
То утро вторника – именно вторника, я помню это точно – не выпадало из общего разряда.
Нэлька встала в полседьмого, беззвучно выскользнула из спальни, пошла умываться, укладывать волосы, готовить завтрак для нас обоих. Я проснулся часов в семь: при свете лета я тоже не спал по утрам – и лежал в постели, ожидая, когда она заглянет сюда и сообщить, что еда почти готова и мне тоже пора вставить, мыться и бриться. После завтрака нам предстояло вместе спуститься во двор к моему «123-му». Я должен был Нэльку в диспансер, потом ехать на работу сам, так уже успело сложиться. Жену ждала оперативка, я мог приехать в свой сектор хоть к обеду, а лекции в университете уже закончились.
Когда между семью и половиной восьмого где-то застучали, я не отреагировал — подумал, что гремят во дворе, а звук донесся из кухни, залетел в распахнутое окно вместе с криками утренних ласточек.
Но стук повторился, он раздавался из передней, кто-то ломился к нам в дверь.
Выбравшись из постели, я надел халат и пошел посмотреть, в чем дело. Нэлька выглянула в коридор — из кухни весело скворчала глазунья, аппетитно пахло сыром.
— Кого там черти принесли, — сказал я.
Гостей я любил только званых; нежданных с проблемами не терпел — тем более не выносил, когда меня тревожат с утра, да еще по-деревенски дербанят в дверь при исправно работающем польском звонке.
— Чтоб им всем…
Жена скрылась, с ненужными визитерами всегда разбирался я.
Причем делал это очень жестко, никогда не терпев вторжения в свою хаусдорфову жизнь.
Как только появилась техника, я поставил в квартире видеодомофон, дверь вообще перестал открывать – просто по громкой связи посылаю далеко и толкователей Евангелий, и среднеазиатских побирушек с кривоногими детьми, и агитаторов нового времени с приглашениями на выборы, и соседей по подъезду, которые мне несимпатичны – а не симпатичен мне вообще никто.
Правда, сейчас я подумал, что, возможно, своей машиной загородил кому-то выезд, и сразу ругаться не стал.
— Откройте, полиция! – раздалось с той стороны.
Хотя ошибаюсь: в тот год слуги порядка именовались по-старому и открыть требовала милиция.
Я не испугался, но радости не почувствовал.
Мое поколение воспитывалось на всяческих «Петровках, 38» и «Огарева, 6» — дешевых киноподелках, полных пафосной лжи, не имеющих ничего общего с реальным положением дел.
Читая произведения писателей из цивилизованных стран – например, Сименона, которого я иногда почитываю, хотя его Мегрэ плебей мне чужд – мы долго не понимали отношения людей к полиции. Нам было неясно, почему любой нормальный гражданин ненавидит полицейских, если при виде советского милиционера все должны кричать «ура».
Я всегда был законопослушен, дел с «органами» не имел, однако любви к ним тоже не испытывал.
И особенно не испытываю сейчас.
Ведь я всю жизнь плачу налоги и содержу людей в сером, не имея от них никакой пользы. И когда я получаю из рук в руки за очередную диссертацию, то всегда испытываю моральное удовлетворение от того, что оплата моего труда не вложит ни рубля в премию, которую получит какой-нибудь полицейский полковник за раскрытие преступлений, им не раскрытых.
Того утра мне хватило для понимания, что опричники всегда приходят с рассветом и всегда не звонят, а стучат, чтобы еще до появления на пороге выбить людей из колеи.
— Гражданка Соколова Найля Павловна… — без выражения произнес незваный гость с черной папкой, когда я отпер дверь.
— Нэлли Павловна, — поправил я, передернувшись от «гражданки» применительно к своей жене. – Нэл-ли.
Само обращение являлось стандартным. В Англии или Швеции, где до сих пор сидели на тронах короли, простые люди были подданными, в других странах являлись гражданами.
Но в устах лейтенанта, перепоясанного портупеей и обутого в берцы, оно отдавало Дзержинским, Ежовым, Берией, Щелоковым и прочей человеческой мразью, именовавшейся «ВЧК-НКВД-МВД-КГБ».
— Гражданка Соколова Нэлли Павловна здесь проживает?
— Проживает, — я, кажется, по-лакейски улыбнулся.
Даже в тапочках я был выше незваного гостя, но почувствовал себя ничтожно маленьким.
Меня на секунду пробило нехорошее предчувствие.
Хотя жена моя была безгрешна перед законом.
И вряд ли милиция явилась к матери из-за напрокудивших сыновей. Петька с Пашкой никогда не прокудили; сейчас и вовсе находились далеко, мы бы узнали все гораздо позже.
— Я ее муж, — добавил я уже без улыбки.
— Гражданка Соколова нужна лично. Она дома?
Милиционер без приглашения перешагнул порог, очутился в квартире.
От него очень нехорошо пахло властью.
— Она дома, — нелюбезно ответил я. – По какому вы вопросу?
-…Леша, кто там пришел?
Из кухни вышла Нэлька.
В халате с пионами и тапочках на босу ногу – с помпонами, как любила с детства — она выглядела по-домашнему, ее не могла спрашивать никакая милиция.
— Гражданка Соколова? Нелля Павловна? – визитер обернулся к ней. – Это вы?
— Да, я. А что?
Жена понимала не больше моего.
— Вам придется проехать с нами.
— Куда? Зачем? Для чего?
Она еще не испугалась, пугаться начал я.
— Все узнаете на месте.
— А далеко надо ехать?
— В отдел.
— Надолго?
— Как получится.
В кино подобные сцены казались патетическими.
В жизни все выглядело очень обыденно и зловеще.
— Но у меня… — Нэлька повела плечами под блестящим шелком. – У меня через сорок минут оперативка. Потом обход, назначения, потом операции. Три подряд, пациентов уже готовят. Я заведующая хирургическим отделением, и…
— Знаем, знаем, все, чем вы заведуете, — перебил милиционер.
Нэлька побледнела.
— Собирайтесь и проедемте с нами.
— У меня больные, — голос жены дрожал. – Онкологические. Они ждут меня.
— У вас есть заместитель?
— Нет. По штату не полагается. Я одна.
— Но кто-то должен быть на тот случай, если с вами что-то случится?
— Есть… — Нэлька взглянула на меня, словно я мог чем-то помочь. – Доктор Деревянкина. Она решает проблемы, когда меня нет.
— Она на месте?
— Должна быть. Она живет близко и на отделение приходит раньше всех.
Разговор напоминал перебрасывание простыми вопросами, но нравился мне все меньше.
— Имя-отчество?
— Нэлли Павловна.
— Не ваше, Деревянкиной.
— Люция Ивановна… А что?
— Сейчас берете телефон, набираете номер и говорите: «Люция Ивановна, у меня сегодня неожиданные проблемы с детьми…»
— У меня их двое, — вставила Нэлька.
— Знаем, знаем и как зовут ваших сыновей. Слушайте, не перебивайте. «Люция Ивановна, у меня сегодня неожиданные проблемы с детьми, меня не будет на работе, решите все вопросы вместо меня.» Говорите и вешаете трубку. Ни слова больше, вам ясно?
Лейтенант не угрожал, но слова про «ни слова больше» повисли угрозой.
Сейчас я знаю, что главным оружием сволоты, приятельствующей с настоящими преступниками и «прессующей» простых граждан, служит иллюзия всезнания, которого на самом деле нет.
Но в то тягостное утро я от том не думал.
У Нэльки тряслись губы, я ничего не понимал.
Милиционер стоял серой глыбой в углу – мешал существовать, как несуществующая пушка у Булгакова в «Белой гвардии».
Сняв со стены телефон, жена натыкала номер, дождалась ответа, произнесла требуемую фразу – после слове «меня» милиционер отобрал у нее трубку, дал отбой, потом отпустил клавишу и дождался гудка.
— Одевайтесь, — сказал он, равнодушно посмотрев на ложку для обувания с собачьей головой. – И поехали.
— Я могу поехать вместе с вами? – спросил я. – Нэлли Павловна моя жена и я хочу быть рядом с ней.
— Не можете, — безразлично ответил он и снова взглянул на Нэльку. – Паспорт не забудьте.
Меня заволакивал серьезный страх.
Все происходящее было таким обыденным, что казалось, будто нас зацепило какое-то медленно вращающееся колесо, сейчас не спеша затягивает внутрь какой-то бездушной машины — и, отпустив жену с серым лейтенантом, я не увижу ее уже никогда.
— Позавтракать хотя бы можно?
Нэлька зябко запахнула халат на груди.
— Нет. Потом позавтракаете.
Лейтенант сел на пуфик, держа в одной руке папку с вынутым белым листком, в другой – гудящий телефон.
— И не вздумайте кому-то звонить из комнаты. Мы все слышим.
Нэлька скользнула в спальню.
Я последовал за ней, ощутил удар тяжелым взглядом в спину, но не оглянулся.
Это была моя жена и я имел право хотя бы здесь быть рядом с ней.
Закрыв за собой дверь, я спросил шепотом:
— Нэля, что случилось?
— Не знаю, Леша, — точно так же ответила она.
Больше мы не обменялись ни словом.
В собственном доме мы боялись разговаривать.
В этот момент я понял, до какой степени ненавижу «родную» страну, которой правит то Сталин, то Андропов, то еще какая-нибудь сволочь со щитами и мечами на петлицах. Зная языки, я бы уехал отсюда навсегда.
Спустя шесть лет, в 2002 году, я стоял на набережной Невы в городе, который венценосный сифилитик построил, замостив болото костями подданных и на двести лет сделал столицей Российской империи. Я смотрел на символ этого города – собор имени наших с Нэлькой сыновей, и понимал, что это не крепость, а тюрьма.
Как тюрьмой и для тела и для души всегда была вся Россия – как осталась ею до сих пор.
Мы оделись быстро.
Нэлька вышла из квартиры, за ней проследовал серый милиционер.
Я дождался, пока прогремит и уедет лифт, потом пошел их догонять.
Бриться времени не было, да и мое лицо вряд ли кого-то волновало.
Когда я выскочил из подъезда, по двору медленно ехал, ища место для разворота, то ли «ГАЗ», то ли «УАЗ» с глухим железным кузовом. Он был старого образца, ядовито-желтый и с синей полосой, но его хотелось назвать черным вороном.
Я прошел в своему «Мерседесу», отпер дверцу, вдохнул привычный карбюраторный дух старого салона.
Даже милицейский генерал не мог запретить мне ехать к себе на работу, хотя мерзкий чекист в берцах наверняка знал, где находится Институт математики.
Летнее утро было жарким и мне повезло: жутко нервничая, я все-таки не залил свечи, иначе их пришлось бы выворачивать и менять на сухие, это заняло бы время и обессмыслило погоню. Но мне удалось взять себя в руки, не подгазовывать слишком сильно — двигатель завелся почти легко, я даже вышел из машины, сделал вид, будто его прогреваю.
«Ворон» развернулся на дальнем конце у помойки, потом неторопливо протарахтел мимо, увозя мою жену.
Я нырнул за руль и поехал следом.
Задняя половина «ГАЗа» не имела окон, синих «Мерседесов» с кузовом W123 в городе было штук десять, вряд ли представители власти испугались бы или стали меня отсекать. Я боялся лишь одного: что отстану от них в городском потоке, ведь там за рулем сидел сержант, не знающий иной работы, а я лишь весной получил права. Тем более, на желтой крыше серел рупор сирены, синел колпак мигалки, и если бы ее включили, то мои шансы уходили в ноль.
Но водитель ничего не включил, он никуда не торопился, не занимал левый ряд, не рвался вперед, не спешил на светофорах.
Эти люди не имели ничего против моей жены, они просто выполняли работу за зарплату – не отлынивая, но и не надрываясь. Точно так же работали полицаи в черных пиджаках с голубыми обшлагами, которые расстреливали евреев на краю рва не из злости, а по службе.
Фургон ехал так медленно, что даже я мог бы его обогнать и встретить в конечной точке.
Но точки назначения я не знал: мы миновали квартал, где находился райотдел, и проследовали дальше.
Мне удалось держать дистанцию, не впуская никого между собой и «УАЗом», я видел его задний мост сквозь хромированную эмблему на моем капоте – круг и три радиуса через два «пи» на три.
Автомобилисты именовали ее «прицелом», она и напоминала прицел.
Выше покачивалась задняя стенка с узким зарешеченным окном. Нэльку я не видел, но знал, что сидит там, и мое сердце сжималось от тоски.
Потом я догадался, что мою жену везут в УВД области. Я понятия не имел, за что ее забрали, но сразу сообразил, что по пустякам в такое место не возят.
Управление находилось на углу улиц Ленина и Коммунистической, бывшей Сталина. Изначально — вероятно с Бериевских времен — оно занимало одно мрачное, приземистое здание.
Сейчас преступность не сократилась, но цитадель тьмы расползлась на весь квартал.
УВД заняло соседнее здание междугородной телефонной станции, стоящий на углу лекторий общества «Знание» — напротив которого мы с Костей общались в последний раз на скамейке ленинского сквера – и еще одно сопредельное по Коммунистической, там до революции был лучший в городе публичный дом.
В 1996 году имелся только один новый корпус — присоединенный переходом, сияющий и оттого еще более зловещий, он выходил на улицу Ленина.
В этом квартале был запрет не только на стоянку, но даже на остановку. Там всегда стоял инспектор ГАИ – впрочем, в те времена служба уже именовалась ГИБДД, водители расшифровывали аббревиатуру как «Гони, ишак, бабки и дуй дальше».
Видя, что желтый «воронок» заморгал правым поворотником около жилого дома, стоящего впритирку к стеклобетонному ящику УВД, я прижался к поребрику, затормозил, выключил зажигание и тут же включил аварийную сигнализацию – обладателю полосатого жезла я мог сказать, что старая машина глохнет где хочет, не глядя на знаки с синим крестом.
«УАЗ» остановился, лейтенант выпрыгнул справа, откуда-то появился второй милиционер, отпер снаружи заднюю дверь.
Нэлька появилась в черном проеме, сощурилась от солнца, неловко спустилась на асфальт, пошатнулась на высоком каблуке, успела схватиться за какую-то скобу, не упала.
Никто не подал ей руки, оба мужчины стояли и смотрели на нее, как на холерную бациллу.
Я понял, что, имей оружие, сейчас бы убил обоих милиционеров, посмевших так относиться к моей жене.
И не только их – уничтожил бы все УВД области, куда ее привезли неизвестно зачем.
Нэлька ни в чем не была виновата. Не могла быть, я это знал.
Да если бы и была – это не имело значения.
Я убил бы всех, кто посмел ее тронуть.
В тот день ко мне пришла великая истина, которая приходит далеко не к каждому умному человеку.
Нас воспитывали на химерических извращениях, воспевали всяких артиллеристов, посылавших своего сына на смерть вперед чужих. Нам вбивали в головы, что только так должен поступать человек.
Но на самом деле не может считаться человеком тот, кто не поступится чьими угодно интересами ради блага своих близких.
Все внешнее: знакомые, соседи, сослуживцы, народ, государство, «родина», березки на опушках и пни на могилах отцов – есть шелуха. В душе человека могут жить лишь его близкие, которых не заменит человечество в целом.
Моя жена стоит на вершине моих жизненных приоритетов, я и сейчас готов уничтожить весь мир ради одного волоска, не упавшего с Нэлькиной головы.
Но понял я это тяжким июльским утром, когда сидел в своем душном автомобиле, слушал щелканье «аварийки» и через треснутое лобовое стекло видел, как мою жену ведут на обманчиво пологое крыльцо.
17
В УВД области Нэльку держали почти пять часов.
Я до последнего момента надеялся, что ее забрали по ошибке, стоял в неположенном месте и ждал, что вот-вот зеркальная дверь распахнется, она выйдет, я быстро подъеду, заберу и увезу ее отсюда.
Что мы невесело посмеемся над безупречной работой российской милиции и я повезу ее в диспансер — мыться и переодеваться на операцию, которую не успела начать весьма средненькая хирургиня Люция Деревянкина, которую по телефону, согласно врачебной традиции, Нэлька называла по отчеству.
Во всем отделении действительно серьезным хирургом, кроме моей жены, был лишь Рауф Хазиахметов, но у него всегда стояли свои операции во второй операционной.
Утренний кошмар не мог продолжаться слишком долго. Он должен был рассеяться. Ведь ничего такого не имело права происходить с моей женой, с нами, с нашей семьей.
Дверь в самом деле распахнулась почти сразу – из нее вышел лейтенант в портупее, запрыгнул в кабину, желтый воронок моргнул левым и отъехал. Я понял, что эти люди просто доставили Нэльку сюда, а теперь поехали дальше — забирать кого-то следующего по списку.
Вломившись к нам, лейтенант блефовал: о нас он ничего не знал, ни во что не вникал, даже редкое имя моей жены перепутал, прочитал как распространенное в здешних местах татарское. Он был безразличным исполнителем — ему дали бумажку и он выполнил задание.
Холодная машина провернулась на пол-оборота, крайнее колесико затащило Нэльку вглубь, теперь ее подцепило следующее и потащило дальше.
Стоять и ждать тут не имело смысла.
Ближайшее место разрешенной стоянки находилось чуть выше по Коммунистической — за углом направо.
Проехать мне пришлось далеко; «Мерседес» я сумел приткнуть лишь там, где к бывшему публичному дому примыкал бывший Ленинский райком ВЛКСМ.
Именно там за год до начала начал с Ириной Сергеевной меня приняли в комсомол – поставили «плюс», спросив лишь год его образования. Это я помнил: числом «19» начинался век, к нему следовало приписать то же и отнять единицу. Других требовали перечислить ордена комсомола, им было труднее. Но все равно принимали всех; Дербак носился по коридорам с комсомольским значком, а у Белопухова на черном костюме сверкал даже какой-то особо изящный.
Парковка – не параллельно и не перпендикулярно поребрику, а наискось, между бортами соседних машин и носом между лип на краю тротуара — заняла достаточно времени. Встав аккуратно, заглушив двигатель и поставив коробку на скорость: о ручном тормозе на убитых иномарках никто не вспоминал — я подумал, что Нэльку могли уже отпустить.
Приоткрыв дверцу и боком выскользнув в щель, я поспешил к УВД.
Но, выбежав из-за угла, на улице Ленина я Нэльки не увидел.
Она, конечно, могла давно выйти, решить, что я уехал в институт и добираться в онкологию сама.
Но я сразу отмел ту мысль: зловещее здание милиции не располагало к надежде на саморазрешение проблем.
Ожидание прибавило мне злой решимости – я поднялся на крыльцо и вошел внутрь.
За входным тамбуром открывалось узкое пространство, вытянувшееся вдоль стеклянного фасада. В этом тоскливом аквариуме безмолвно переминались тусклые люди, над ними возвышались какие-то рожи в погонах.
Впрочем, то еще были лица. Рожи я увидел спустя десять лет в участке, куда меня вызвали для корректировки показаний о соседях-наркоманах. Милиционеры были просто уродами, нынешние полицейские – это наделенные властью уголовники.
Около турникета в прозрачной будке сидел сержант – такой же собранный и такое же равнодушный, как лейтенант, забравший Нэльку.
Я сказал, что у меня без объяснений арестовали жену и я хочу выяснить, в чем дело и где она сейчас.
Сержант достаточно вежливо ответил, что если привели сюда, то не арестовали, а доставили для дачи показаний, арестованных провозят на территорию, но куда и зачем ее доставили, он сказать не может.
На мой вопрос, кто может, дежурный сказал, что есть висит список телефонов, по которым существует внешняя связь с отделами, но он находится не здесь, а в справочном бюро; здесь ждут сотрудников, которые спускаются из своих кабинетов по договоренности. А договориться можно тоже из справочного бюро, если вопрос допускает.
Механизм провернулся еще на оборот, Нэльку затянуло еще глубже, утащило еще дальше от меня.
Справочное бюро находилось в мрачной подворотне, дверь туда открывалась в стене под переходом из нового здание в старое.
Там было чисто, но железные ворота, куда тихо въехал фургон – тоже с зарешеченными окнами, только большой и серый – наводили на совсем нехорошие мысли.
В крошечной каморке без окон имелась амбразура с надписью «БЮРО ПРОПУСКОВ» на противоположной стене висели три нечистых телефонных аппарата.
Над ними белел большой лист со списком телефонов — комбинаций из четырех цифр с дефисом между парами. Какие-то мужчины и женщины, стертые до неразличимости черт, толпились по кругу: куда-то звонили, отходили в сторону, потом звонили опять и снова отходили — и это еще больше напоминало кошмарный сон, куда я — доктор наук, профессор и академический завсектором — попал по нелепой случайности.
Здесь невыносимо пахло тоской и тюрьмой, я сразу понял, что дозвониться никуда нельзя — да я и не знал, куда именно мне нужно звонить.
Единственный раз в жизни я нашел себя в такой растерянности, что не знал, что делать, пришел в отчаяние и руки мои опустились.
Я вышел из справочной и снова поднялся к сержанту, поскольку опять подумал, что жену все-таки могли уже выпустить.
Тот был не злодеем, а всего лишь дежурным исполнителем, по описанию сразу вспомнил Нэльку и сказал, что не может ничем помочь, не зная, куда ее провели, но назад она еще не возвращалась.
Поблагодарив его, я вышел на волю.
Разгорался день.
Из подворотни дома, соседнего со зданием УВД, несло мочой: во дворе находился единственный в городе общественный туалет, оставшийся бесплатным – жуткое строение, где не хватало лишь Дербака с разрисованным членом. Туда забегали по нужде любого рода случайные прохожие, приходили и специально из соседних кварталов. От туалета разило на полквартала, наверняка его богатая вонь достигала и милицейских кабинетов.
Я отошел, встал около проезда под переход. На меня покосился милиционер, который прохаживался с видом ответственного за впуск и выпуск фургонов с арестованными.
В хорошем костюме, белой рубашке и при галстуке, но с небритой физиономией, я наверняка казался подозрительным.
Но страж ворот ко мне не подошел; видимо, все-таки на бандита я еще не тянул.
Быстро становилось жарко.
В пиджаке мне сделалось некомфортно, но идти за угол к машине, чтобы оставить его там, я опасался, боясь пропустить Нэльку, и терпел.
Противоположная сторона улицы Ленина таяла в тени. На углу с бывшей Сталина возвышался главпочтамт – жуткая в гробовой помпезности постройка тридцатых годов — рядом с ним стояло длинное, ощерившееся окнами-бойницами здание АТС «22-24».
Над первым этажом там выступал балкон во всю длину фасада, под ним образовалось нечто вроде итальянской уличной галереи. Слепые окна были украшены работами местного фотографа – большими, цветными и очень яркими.
Я видел памятник «Без пяти семь», двойной автомобильный мост –куда менее выразительный, чем на картине у Бурзянцева – панорамы улиц города, единственного на тот момент проспекта, носящего имя Октября, дымные силуэты нефтехимзаводов, какие-то народные гуляния с флажками, не имеющие ко мне отношения.
Я стоял, физически ощущая спиной злобную громаду УВД, где сейчас немытые типы с серыми погонами допрашивали мою безвинную жену, смотрел через улицу на беззаботный вернисаж, и чувствовал, как во мне закипает холодная белая ненависть.
Причем вполне конкретная.
Я стоял и думал, что окажись тут сейчас фотограф, нащелкавший виды и хепенинги, которые пестрели в прохладной галерее – я взял бы его за шиворот, затащил туда и разбил его головой первую витрину. Потом вторую, третью, четвертую – пока не изничтожил бы все без остатка, но все равно не достиг нужной степени удовлетворения.
Этот фотожурналист не сделал мне ничего плохого – но и моя жена не сделала ничего противозаконного, и мне было все равно, на ком выместить злобу, от которой у меня уже плыло в глазах.
Время шло, в какой-то момент я сообразил, что меня нет в Институте и никто не знает, почему. Стоило позвонить в приемную директора и сообщить Тутые Гиниятовне, что меня сегодня не будет долго, возможно – не будет вообще. Наболтать что угодно, хоть придумать пожар в доме: причина не имела значения, завсекторами пользовались всеми благами свободы, информация требовалась лишь на тот случай, если меня станет искать кто-то по важному делу со стороны.
Можно было позвонить и Закиру Шайгарданову – ему вообще сказать все как есть, он отличался понятливой немногословностью.
Но эта сторона улицы была чистой, как совесть советского милиционера, телефонные будки – целых двенадцать штук – стояли на противоположной, у пристроя между почтамтом и АТС. Я подумал, что если пойду туда, то Нэльку увижу и перебегу обратно, но выйти из застенков и не увидеть в тот же миг родное лицо станет для нее продолжением шока.
И звонить я не пошел — решил, что Институт математики сегодня проживет без меня.
Время остановилось, я пропускал его через себя, не ощущая минут и часов.
Между лопаток у меня тек нехороший пот, мне было жарко и некомфортно от своей небритости, от того, что утром не успел принять душ. К тому же я не успел выпить кофе, не говоря о том, чтобы съесть бутерброд с сыром, у меня сосало под ложечкой и резало в желудке от нервного голода. И хотелось в туалет, но и туда я боялся отлучаться с поста.
Я стоял и стоял, как мальчишка-часовой из рассказа Пантелеева – только если того томила химера пионерской «чести», то я ждал свою единственную на свете жену.
Через час или два напряженного до звона в ушах ожидания я понял, что ненавижу весь белый свет.
В раннем детстве я имел в характере некоторую дозу воинственности.
Древние римляне, которые ставили у ложа роженицы воина с сапожной щеткой на шлеме, чтобы мальчик по появлении из материнской утробы первым делом коснулся меча, были в определенной степени правы. Человек – кровожадный хищник, любой мужчина должен уметь убивать себе подобных, это закон природы.
Так и я, еще не слишком уверенно читая, просматривал в дедовой БСЭ статьи с рисунками самолетов, танков, пистолетов и всего прочего, связанного с оружием как таковым. Правда, подростком я прозрел и фильмов про войну, которыми были заполнены все советские экраны, не любил, о том уже говорил.
Сейчас я военных не считаю за людей – вижу в них вредных дармоедов, которые в мирное время только маршируют на деньги налогоплательщиков да спят с чужими женами, а в военное гонят умирать подневольных солдат и зарабатывают себе звезды на погоны и побрякушки на грудь.
Любая война вредна, она приносит пользу лишь политикам и генералам. Но любой народ – это стадо баранов, которое по первому призыву идет с песнями проливать чужую кровь вместо того, чтобы перебить собственных политиков и собственных генералов.
Но это вспомнилось сейчас чисто философически, в тот день я думал о другом.
Презирая военных как таковых, я все-таки имею офицерское звание и умею обращаться с оружием, поскольку в университете проходил военные сборы.
Наши лагеря под Тоцком находились в расположении настоящей войсковой части, параллельно с нашими учениями там шла обычная «срочная» служба. Однажды на полигоне, где студентам выдавали по десять патронов для АКМ, я видел, как солдаты стреляют из гранатомета.
И сейчас мне захотелось иметь и автомат и гранатомет.
С оружием в руках я бы разнес сначала портал, потом вахту с вежливым сержантом, потом забросал гранатами прочих. Перебил бы всех, расстрелял очередями каждого, кто попадется на пути, нашел кабинет, где допрашивают Нэльку, освободил ее, потом мы бы сели в мой старый «Мерседес», поднялись бы над кварталом и сбросили фугасную бомбу, превратили УВД области в осколок Луны.
Меня не волновал тот факт, что, возможно, эти милиционеры иногда расправлялись с настоящими преступниками.
Они обидели мою жену – и за это я бы стер их с лица Земли.
Но оружия не было – и я просто ждал, как ящерица – существо, умеющее ждать лучше всех прочих.
Когда Нэлька наконец появилась на крыльце, я метнулся к ней, протянул руки, обнял и прижал к себе.
От жены пахло дешевым табачным перегаром и чем-то еще, неведомым, но ассоциирующимся с мраком власти, не имеющей границ в кабинетах со столами, имеющими инвентарные номера НКВД.
— Ты где была? – спросил я, увлекая жену подальше отсюда. – Где тебя держали столько времени?
— В УБНОНе, — отсутствующим голосом ответила Нэлька.
Она все еще была там; мои объятия не вырвали ее из смрада.
— Что такое убнон?
В угрожающих аббревиатурах я не разбирался, моя жизнь шла даже не в параллельной, а в скрещивающейся плоскости со всем этим.
— Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Жена ответила безжизненно, на автомате.
— А что, бывает законный? – глупо вырвалось у меня.
— Бывает. У нас в онкологии.
Нэлька отвечала, как кукла.
Я вспомнил, что она не раз говорила мне о сильнодействующих средствах, которые выписывают по особым рецептам, назначают безнадежным больным для облегчения от боли, но до сих пор с понятием наркотика это не сопоставлял.
Сейчас относительно наркотиков у меня сложилось собственное мнение, не менее радикальное, чем по другим вопросам.
Я не раз читал, что некоторые авторитетные люди предлагают снять запрет на наркотики, разрешить их так же, как и алкоголь, карать лишь за последствия употребления. Мнение мотивируется тем, что это лишит наркоторговлю сверхприбылей, рождающихся из-за запрещенности товара, и постепенно сведет все на нет, поскольку торговать героином станет не выгодней, чем детской присыпкой.
С этим мнением я согласен.
А если благодаря разрешению наркотиков перемрет половина человечества, то это пойдет на благо оставшимся: я не устаю повторять, что Земля перенаселена.
К тому же, возможно, перемрет лишь четверть: если наркотики перестанут приносить черную прибыль, на не станут «подсаживать» молодежь в школе.
Но, ясное дело, меня никто не станет слушать.
И будут разрастаться бубонные УБНОНы, меняя названия.
В том, что от таких организаций вреда больше вреда, чем толка, я тоже не сомневаюсь.
С незапамятных времен в нашем городе процветают так называемые «цыганские дворы», снабжающие наркотой в любых объемах не только столицу, но и область. Об этом знают все, однако туда никогда не сунется ни один полицейский. Но ни один не пропустит школьника с пакетиком анаши, будет вымогать из родителей деньги за невозбуждение дела.
И в любом управлении с удовольствием снимут три шкуры с людей, которые вынуждены оперировать наркотиками по производственной необходимости.
— Что они с тобой сделали? – спросил я, когда мы с Нэлькой завернули за угол, миновали лекторий «Знания» и шли мимо публичного дома.
— Ничего. Опрашивали двое попеременно, время от времени заходил третий и задавал свои вопросы.
Я отпер «Мерседес», распахнул обе дверцы, чтобы проветрить салон.
Машина была старой, внутри пахло всем, чем можно, в жаркий день я задыхался за рулем.
— Мне надо позвонить на отделение, — сказала Нэлька, открыв свою сумочку и снова защелкнув.
— Успеешь, — сказал я. – Скажи мне, что им было от тебя надо?
— Я ни в чем не виновата.
— Я знаю. Не сомневаюсь. Что они хотели у тебя узнать? К чему стали цепляться? У вас что, из отделения наркотики пошли налево, и виновной считают тебя как заведующую?
Спросив последнее, я понял, что догадался о причине ситуации.
— Сядем в машину, — предложила жена. – Тут на улице как-то…
— Сядем, — согласился я и подал ей руку.
Ее пальцы дрожали.
События выбили из колеи не только меня.
Забравшись в салон, Нэлька закрыла дверцу и опустила кнопку блокировки. Она явно пыталась укрыться от всех.
Я посмотрел на потолок, хотел открыть люк, чтобы жар уходил через крышу, но не стал делать этого.
— Ты же знаешь, как я отношусь к своим больным.
Жена наконец заговорила. Кажется, люди в форме ее не сломали до конца.
— Знаю, — ответил я.
— До какой степени мне жалко этих несчастных, которым я не могу ничем помочь. Ничем не могу, ничем, понимаешь?
— Я тебя понимаю, Нэля. И я знаю, что ты в самом деле не можешь ничем помочь.
— Я умею очень много, но ничего не могу. Абсолютно ничего, потому что в нашей стране медицины нет. Нет, понимаешь?
— Понимаю.
— А онкология – это вообще одно название, у нас нет диагностики, нет методики, нет препаратов, нет ничего. Мое отделение – это же тихий ужас.
Нэлька помолчала.
— Лекарства выделяются по списку, но ты бы видел этот список! Такими лечил еще Вересаев, если не Пирогов! Современные препараты я знаю, у меня в кабинете стоит целый шкаф «Видалей» и лежит тонна лифлетов, я могу выписать все что угодно, но больной вынужден искать их сам и сам покупать. И даже не только препараты. После мастэктомии я назначаю экзопротез – потому что иначе перекашивается позвоночник, и, кроме того, женщине лучше умереть, чем жить с одной грудью так, что все об этом знают. Но в салоне у жены Рауфа по карману одной из десяти, российские очень плохие. Но и это не все, после удаления молочной железы нарушается лимфоток, рука отекает толще ноги, нужен компрессионный рукав, «Сигварис» еще дороже, а отечественный рукав – это все равно что натянуть капроновый чулок.
Не говоря ни слова, я молча кивнул. Я понял, что жену прорвало, ей хочется выговориться и облегчить душу хотя бы перед мной.
— Я уж не говорю об оперативном лечении, о том, что на западе считается на уровне утки – например, степлеры или стерильное белье! Да какое там белье! у нас нет больничной одежды – в Америке в стационаре всем выдают одинаковые рубашки, одноразовые, но крепкие, а тут каждый ходит в своей рвани, точно их подобрали на вокзале и привезли как арестованных.
— Это я помню, — вставил я. – Вроде бы ко всему привык, но когда прихожу к тебе в отделение, всякий раз берет оторопь. Не конец двадцатого века, а махновцы только что ушли, оставили награбленное.
— Да и одежда не самое главное. У нас этажом ниже, на гинекологии, на пятьдесят женщин один общий туалет с тремя кабинками без замков, а подмываются они там из ковшика у раковины.
Я вздохнул. Все это было мне известно.
— И неужели кто-то может подумать, что я лишу этих несчастных наркотиков перед смертью?!
— Не может, — сказал я.
— Я давала клятву Гиппократа, я никогда не стану наживаться на раковых больных. Никогда, ты это понимаешь?
Нэлька взглянула на меня.
В голубых глазах ее стояли слезы.
— Я это понимаю, — стиснув зубы, я взял ее руку. — И я это знаю. Потому что знаю, что ты – человек.
— Да. Я человек.
— Так что хотели скоты, которые увезли тебя, как преступницу?
— Объяснять долго, Леша. И, наверно, не нужно, это не так важно. Если коротко, у них там какая-то оперативная слежка за диспансером, ищут каналы утечки больничной наркотики. И одна медсестра с моего отделения…
Нэлька опять замолчала, я ждал.
-…В общем, не хочу все это тебе рассказывать, неприятно. Но в общих словах, был там один инцидент, мне показалось, что наркотика пошла налево, но я не стала давать хода. Нина Михайловна меня попросила все замять.
— Кто такая Нина Михайловна?
— Старшая медсестра. Годится мне в матери, работала на отделении, еще когда я туда пришла интерном. Эта девчонка какая-то ее свойственница, деревенская, из большой семьи. У нее были какие-то проблемы с братом или сватом, и еще что-то такое. В общем, просила пожалеть, ну я и пожалела, посмотрела сквозь пальцы.
— Нэля, — я вздохнул. – Люди сами по себе в основной массе скоты. Деревенские – это скоты экспоненциального порядка.
— Я это уже поняла, — она кивнула. – Хотя раньше думала иначе.
— Юрка – исключение, подтверждающее правило. Сам он свою деревню вспоминает с проклятиями. Кажется, с аспирантских времен туда ни разу не ездил. Свои корни, как сейчас любят говорить, выдернул и выбросил на помойку, теперь стал более городским, чем мы с тобой. Он, кстати, мне первый и открыл глаза на реальность…
Нэлька быстро выглянула в окно и отвернулась.
По улице Коммунистической мимо бывшего райкома комсомола в сторону публичного дома прошли два милиционера. Они разговаривали о чем-то, на нас даже не смотрели.
Но я понял, что моя жена вздрагивает от одного вида людей в форме.
-…Все эти пейзане и русые головки детворы – еще одна химерическая ложь. На самом деле многодетная срань способна идти только по чужим головам…
Я говорил с использованием Идрисовского лексикона, но иной сейчас не годился.
-…Когда они приезжают в город, то хотят сей же час иметь все, что полжизни строил для тебя Павел Петрович. Дворняги пытаются прыгнуть с грядки во дворец любыми средствами. Не учась, не работая, не стараясь что-то сделать– просто урвать себе кусок побольше. Не как Юрка, который изо всех сил выбивался в люди, защищал диссертации, получал квартиру от университета – а сразу все и немедленно. Любой ценой, хоть украсть у твоих больных наркотики и пустить их на сторону.
— Да, Леша. Твой Юра прав.
— Эту девку поймали, насколько я понял?
— Да, ее где-то прихватили, еще кого-то с других отделений, как я поняла, у одного и того же скупщика. Она сказала, что делала все с моего позволения, сослалась на Нину Михайловну.
— А не пойти ли твоей Нине Михайловне в жёпу? – сказал я. – Незаменимых людей нет. Но ты начальница и лучше, если применишь этот принцип сама прежде, чем его применят к тебе.
Нэлька молчала, только кусала губы.
— Приди завтра на работу и уволь ее к чертовой матери. И ее и ее родственницу и всех вообще. Думаю, Васильев тебя поддержит.
Александр Сергеевич Васильев, бывший хирург-гинеколог, был начмедом онкодиспансера, то есть заместителем главного врача по лечебной работе, и все кадровые вопросы решались с его ведома.
Я его немного знал и не сомневался, что он мыслит здраво.
— Выгони под зад пинками и набери новых, чтобы они сразу зависели только от тебя.
Жена отстраненно кивнула.
— Гром еще не грянул, только прозвенел первый звонок, а второго не будет. Можно навести порядок, чтобы больше ничего такого не повторилось.
Нэлька не ответила.
— Ведь эти уроды от тебя отстали?
— Дали подписать бумагу, что я никуда не уеду из города, отпустили и сказали, что могут вызвать в любой день.
Если уже было страшно, то я понял, что то лишь казалось.
По-настоящему страшно мне стало сейчас.
Все, что было до этого момента, являлось домыслами, рожденными внешней формой явления.
Теперь домыслы подкрепились.
Подписка о невыезде означала еще один поворот машины, движение следующего колеса.
Мою жену подвинули еще ближе к железным воротам, через которые въезжают глухие серые фургоны.
— Едем, — сказал я.
— Куда? – безучастно спросила Нэлька.
— Еще не знаю. Решим по дороге. Главное, отсюда и поскорее.
— Леша, — проговорила она.
И замолчала, потому что детские слезы хлынули ручьями по ее собранному лицу и не дали говорить.
У меня сжалось сердце.
Моя жена – сильная, целеустремленная, несокрушимая женщина вдруг превратилась в ту девчонку, которую я увидел около школы с портфелем, который порвал ей дегенерат Белопухов.
Я понял, что ей опять нужна моя рука.
— Я тебя люблю, — ответил я. – Нэля, я люблю тебя больше жизни.
Нэлька не ответила – она возилась с ремнем безопасности, у нее дрожали руки и блестящий язычок никак не мог попасть в щель замка.
Я склонился в проход, пристегнул ее, погладил по голове.
— Мы уроем всех. Закопаем в землю и зальем цементом их поганые могилы, а сами останемся живыми.
Жена слабо кивнула; она, кажется, верила мне – и я верил себе.
Но у мена самого у меня дрожали и руки и ноги, при горячем пуске я сумел залить свечи.
Правда, всего одну – двигатель «затроил», но кое-как тянул.
Я ощущал отчаяние, с моей женой пытались сделать что-то нехорошее, ее обвиняли в том, в чем она не была виновата. Говоря языком, который в те времена уже стал известен, Нэльку подставили.
В такой ситуации я не бывал никогда, даже не предполагал, что могу оказаться. Я попытался представить, как бы поступил на моем месте кто-то другой.
Идрисов как объект для сравнения отпадал.
Юрка был замечательным другом на все времена, умнейшим человеком, талантливым математиком – но к женщинам он относился как к сосудам для слива семенной жидкости. С своими двумя женами он расстался скандально, но без эмоций относительно их самих и вряд ли стал бы убиваться из-за проблем. Он никогда не испытывал страстей и тем был в тысячу раз счастливей меня.
Мой отец вряд ли мог оказаться в таком положении.
Хотя должность матери их предполагала.
Уже в молодости я понял, что быть главным бухгалтером – значит заниматься финансовыми махинациями по указанию владельца фирмы. Разумные люди соглашались на такую собачью работу не ради престижа, а за бонусы от начальства, ради блага которого они обманывали закон. А умные главные бухгалтеры еще и махинировали в свою пользу.
То есть нормальный главбух всегда тихо ворует, иначе незачем иметь такую должность.
Конечно, в советские времена все обстояло иначе. Главным вором был сам Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель президиума Верховного совета СССР, который имел собственную флотилию на Волге, воровал у народа черную икру. Военные заводы – подобные тому, на котором возглавляла бухгалтерию моя мать – тоже были ворами, они растрачивали народное благосостояние на танки, самолеты и системы наведения ракет, нужные только генералам и политикам, то есть отъявленным негодяям.
Тем не менее, даже в СССР любой главбух умел ущемить права рядовых сотрудников, не начислить что-то в срок, сэкономить фонд зарплаты и за это выписать себе премию.
Но моя мать была праведной, как мокрица, для нее махинации исключалось.
Однако даже если бы мать подставил кто-то из предприимчивых подчиненных, то отец – такая же говорящая инфузория – вряд ли сделал бы что-либо более серьезное, чем горестный вздох и взмах рук.
Свою суть мой отец проявил в другом.
Уйдя от родителей, я вычеркнул их из жизни, потому что они до смерти надоели мне за первые двадцать лет, их делами не интересовался и не знал их проблем. Но отец всю жизнь провел рядом с матерью и спал с ней на одном диване – и тем не менее не заметил, что у жены ураганно развивается рак груди. Если бы не Нэлька – чужой по сути человек – то мать умерла бы в муках у него под боком, а он продолжал спать на своей половинке сном безгрешного праведника.
Мой отец был столь никчемен, что еще при жизни я перестал считать себя его сыном.
По-сыновнему я относился к тестю.
Случись что-то с Ириной Сергеевной, Павел Петрович, конечно, поступил бы иначе.
Он развил бы бурную деятельность – купил бы это УВД области на корню, от главного генерала, до привратника, нажимающего кнопку в мрачной подворотне.
Я не сомневался, что тесть расправился бы с милицейской сволочью и ради дочери, но к нему обращаться не хотел. По крайней мере, пока. Я считал, что свою жену должен защитить сам.
Но как это сделать, я еще не знал.
Синий «Мерседес» — без гранатомета, хоть и с прицелом на капоте — отвалил от поребрика и пополз вверх по Коммунистической.
Я знал, что свеча прочистится и заработает, машина помчится стрелой, как только я решу, куда ехать.
18
С околозаконными системами я дел не имел, но Идрисов, который дважды разводился по суду, утверждал, что все судьи – сволочи, а адвокаты негодяи.
Второй процесс – развод с тихой Валентиной — прошел гладко, но после Фаварии Юрка вспоминал немца Нейфельда и говорил, что тот неправ: пулеметов нужно два, из одного расстрелять судей, а из второго – адвокатов.
О судьях я старался не думать, но квалифицированный юрист нам был остро необходим.
Ситуация относилась к разряду, который принято называть критическим.
Нэльке грозило страшное. Из уважаемого члена общества, талантливого хирурга, ежедневно продлевающего жизнь безнадежно больным женщинам она могла одномоментно упасть до какого-нибудь поликлинического онколога или, в худшем случае, даже школьного врача. А в самом худшем лишиться даже врачебного диплома. Помимо потери статуса, это означало потерю любимой работы.
Требовались решительные меры.
Идрисова гордился морем знакомых любого профиля, но при всем многообразии достоинств мой друг обладал одним недостатком: он был болтлив.
Естественно, Юрка не трепал языком налево-направо, как бабка у подъезда, но раззадорившись в хорошей компании, мог ради красного словца ввернуть что-нибудь, предназначавшееся не для всех ушей.
Слово «наркотики» попахивало статьей и тюрьмой, при любом раскладе я опасался произносить его лишний раз в связи со своей женой, поэтому к Идрисову решил пока не обращаться.
На самом деле у меня самого имелись знакомые на юридическом факультете, правда – не очень близкие, но неблизость в данном случае шла на руку.
Среди них был доцент Александр Шмелёв, с которым даже Идрисов, советовался по поводу необоснованных притязаний Фаварии.
Подумав о Шмелёве, я ощутил прилив уверенности в себе.
Я поднялся по Коммунистической на несколько кварталов и свернул влево на улицу писателя Аксакова, упиравшуюся в главный корпус университета.
Ввергнув в пропасть с утра, после обеда жизнь решила открыть полосу удач.
Шмелёв оказался на месте, проводил у кого-то семинарское занятие по уголовному праву. Я постучался, заглянул, вызвал его в коридор, кратко изложил суть вопроса и попросил проконсультировать насчет того, чем все может кончиться и что надо делать, чтобы кончилось с минимальными потерями.
Саша сказал, что вопрос серьезен и попросил подождать конца пары, после которой он освободится и мы сможем поговорить.
Я спустился к главному выходу и сел в «Мерседес», где ждала серая от событий Нэлька.
Чрез полчаса юрист сбежал по ступеням и сразу согласился проехать к нам домой и поговорить не через спинки кресел, а за столом.
Притормозив на Революционной перед «Тахиром и Зухрой», я выпустил жену, которая сказала, что ей надо смыть с себя это утро и наконец позвонить в отделение, а мы со Шмелевым проехали в гастроном.
Там мы взяли литр «Кремлевской» с перцем и большой брусок европейской говядины.
Мы оба решили, что вести серьезный разговор с водкой будет легче, чем без водки, и не ошиблись.
Разговаривали, неторопливо выпивая, мы часа два; Шмелёв один раз звонил жене, сообщал, что задерживается у товарища по работе.
Он сильно просветлил нам головы, дал верный взгляд на российскую судебно-правовую систему, прямую наследницу советской, где не существовало презумпции невиновности. То есть не человека должны были обвинять, а он – доказывать свою невиновность. Последнее в традициях неправового государства, которым шестая часть земной суши гордилась несколько веков, являлось делом бесполезным.
Когда Нэлька изложила вкратце историю с наркотиками, а я подтвердил, что она не может быть виновной в махинациях, доцент усмехнулся и сказал, что в данном конкретном случае виновность-невиновность не играет никакой роли.
Управление по борьбе с наркотиками имеет план по раскрытию преступлений, а искать потерю удобнее на свету. Ее там нет, но это никого не волнует, поскольку нужен результат, полученный любыми способами.
Шмелёв сказал, что сегодня Нэльку увезли из дома для первичного опроса к оперативникам. Что теперь ей начнут звонить то на работу, то домой, вызывать в УВД, а если не ходить, то вызовут повесткой, потом опять приедут и заберут, и это будет еще хуже. Что от оперативников ее передадут дознавателю, там все повторится еще раз, только при разговоре будет лишь один человек. Потом могут передать следователю, который станет допрашивать по третьему заходу, по итогам или закроет дело или передаст в суд, где — по оценкам самого Шмелёва — они вряд ли смогут набрать чего-то даже для условного срока. Но до суда дело доводить нельзя, поскольку это может поставить крест на медицинской карьере, все надо остановить на стадии дознания.
Доцент спросил Нэльку, призналась ли она хоть в чем-нибудь – она ответила что нет, не призналась, хотя ее уговаривали оба опрашивавших и третий, заходивший и выходивший.
Он похвалил и сказал, что все сделано правильно.
Что сегодня было только начало. Что Нэльку будут то запугивать, то ободрять, угрожать, ссылаться на показания людей, которых не опрашивали, прокручивать записи каких-то разговоров, показывать фрагменты документов и, как лейтмотив, периодически предлагать явку с повинной — то есть сознаться в том, что она не совершала.
Шмелёв не уставал подчеркивать, что милиции нужна не истина, а результат, и поэтому Нэлька должна идти в «глухой отказ» — держаться твердо, не признавать ничего, отрицать даже то, в чем сама сомневается.
Также юрист сказал, что «менты» сволочи и методы у них сволочные.
Что их излюбленный прием – взять объяснение или записать показания, потом вызвать дня через три и сказать, что начальство не приняло бумагу, составленную не по форме, и попросить изложить все еще раз, а потом подловить на нестыковках. Поэтому следует хорошо вспомнить, что уже сказано сегодня, чтобы потом не сбиваться, не вдаваться в подробности, а излагать короче и короче.
Саша озвучил горькую истину о том, что наказаний без вины не бывает.
Это означало, что если к Нэльке привязались убноновцы – значит, она где-то поступила неосторожно, позволила недобросовестным подчиненным сделать нехорошие дела за ее спиной, а потом ею прикрыться. И сказал, что в будущем саму возможность такого стоит исключить.
Он много раз повторил, что милиционеры суть наши враги, что безотносительно непричастности к незаконному обороту наркотиков мы находимся по разные стороны баррикады, ибо их цель – поставить галочку в плане, а Нэлькина – выйти чистой и невредимой.
Моя жена – женщина справедливая – заговорила об ответственности перед коллегами, об уважаемой старшей медсестре, о чувстве собственного достоинства, которое нам вселяли «Военными тайнами».
Выслушав тираду, юрист Шмелёв поморщился, выпил водки и выразил все, что думает по этому поводу.
Он сказал, что помимо пионерской чепухи, которую нам вливали в головы до тридцати лет, есть еще аспект целесообразности. Выгораживать кого-то имеет смысл только после ограбления банка, если подельников еще не взяли и есть гарантия, что после отсидки удастся забрать свою долю.
Но там, где речь идет не о материальной выгоде, а потере и карьеры и честного имени, тактика может быть лишь одна: топить всех, чтобы выплыть самой.
Юрист также добавил, что Нэльке надо делать вид, что про «всех и других» она вообще не понимает, поскольку даже при воровстве газет из почтового ящика один человек – это один, а два – уже группа и к ней применяется другая статья, более серьезная.
Насчет старшей медсестры Шмелёв сказал, что при таком прекраснодушии Нэлька вылетит с работы с нехорошей записью, а на ее место придет другая заведующая, которой Нина Михайловна будет годиться уже в бабушки.
И уже в передней, обуваясь перед выходом, Саша еще раз напомнил, что российская правоохранительная система ищет не виновного, а того, на кого можно повесить вину — и это совершенно разные вещи.
Беседа оказалась полезной – вероятно, она нас и спасла.
Нэльку вызывали в УВД три недели– нерегулярно, в разные дни и в разное время.
Чтобы это не сказалось на работе, она отменила свои плановые операции – то есть передала своих пациентов белокурой Деревянкиной, бородатому Хазиахметову, другим хирургам. Я понимал, что в нервном напряжении, в непрерывном ожидании вызова на опрос или дознание она просто не могла взять в руки ланцет.
С учетом того, что Нэлька оперировала лучше, чем все остальные вместе взятые, вред, нанесенный УБНОНовскими молодчиками, превышал пользу от того, что они кого-то прижали к ногтю.
Я сам эти три недели не работал. Пользуясь служебным положением, ездил за женой, когда ее вытаскивали звонком из онкодиспансера, отвозил к УВД, ждал ее около публичного дома и с каждым разом наливался все более тяжелой злобой по отношению ко всему человечеству, которому она служила, а оно пыталось ее опустить.
Меня не волновало то, что в УБНОНе одновременно велись десятки оперативных разработок и Нэльку просто затащило в круг. Эти люди нанесли моральный ущерб моей семье и не заслуживали ничего, кроме ненависти.
Моя жена похудела, осунулась, вокруг ее глаз появились черные круги. Она стала плохо спать, ночами плакала от страха, прижимаясь к моему плечу – я боялся не меньше ее, но не подавал вида.
Мы каждый вечер выпивали с ней вдвоем по бутылке водки, которая позволяла отключиться хоть ненадолго. Любые другие люди на нашем месте необратимо бы спились за это время, но общая сила наших характеров позволила пережить все и вернуться в обратное состояние.
Но именно тем летом Нэлька закурила.
Вооруженная указаниями Шмелёва, жена держалась, как Салават Юлаев на допросе. То есть делала вид, что не понимает смысла заданных вопросов.
Нэльку, конечно, спасло то, что, оглушенная внезапностью, в самый первый день она наговорила массу сумбурной ерунды, где было не к чему прицепиться всерьез. Дальше она выстроила схему и четко ее придерживалась.
К моей жене милиция применила все описанные Шмелёвым методы психологического давления и даже кое-что похуже: например, ее часами заставляли сидеть в темном коридоре УВД рядом с какими-то грязными ублюдками, которые ждали своей очереди с конвоем и в наручниках. Нэльку выворачивали наизнанку, но дочь строителя Павла Петровича, владельца полудюжины квартир, имела в себе стальной стержень, который позволил ей противостоять.
Нэлька не призналась ни в чем, от всего открестилась.
Медсестра, которая пустила наркотик налево, тихо уволилась, кажется, даже не попала под статью. Условно осудили другую – более взрослую, с отделения «голова-шея», наказали кого-то еще.
Старшая сестра маммологии осталась за полями протоколов, она вообще оказалась не при чем.
Выйдя с постановлением дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием злого умысла – сумев избежать даже стандартного для таких ситуаций выговора «за халатность» по службе, поскольку ни одной ненужно подписанной бумаги не нашлось – Нэлька вернулась к работе.
В первый вечер свободы от всего мы с женой напились без оглядки и очень серьезно поговорили обо всем, что пытались замалчивать, не желая травмировать друг друга переживаниями.
Мы оба пришли к выводу, что проехали по мосту, который мог рухнуть в любой момент. То, что он не рухнул, оказалось чудом – в следующий раз мы могли упасть в пропасть.
Чтобы дорога опять не свернула к этому мосту, Нэльке впредь стоило быть трижды осторожной.
Но одна осторожность тоже не спасала.
Жена согласилась со мной, что люди в основной массе – скоты.
Последнее в полной мере относилось к подчиненным, которые могли опять подставить ее и оговорить.
Нэлька поняла, что как заведующая отделением она должна проявлять жесткость, жесткость и еще раз – жесткость.
Она пошла к начмеду Васильеву и поговорила с ним при плотно закрытых дверях.
Этот ушлый, давно не оперирующий хирург сейчас – словно медицинский вариант Закирьяна Шайгарданова – ничего не делал, только подписывал малозначительные бумаги. Васильев поимел от жизни все: вплоть до биллиардного стола канадского производства на чердаке бревенчатой дачи – а сейчас ожидал получить еще больше. В третьей четверти девяностых годов у нас стали появляться представители зарубежных фармацевтических компаний, объектом их внимания стали медицинские чиновники среднего звена, от которых зависели назначения и продажи препаратов. К первым годам двадцать первого века Васильев объездил два десятка стран за счет этих фирм.
Сама Нэлька сейчас является представителем одного из производителей онкологических препаратов, достаточно эффективного, хоть и дорогого.
В тот момент блага работы с представителями лишь начали обозначаться, но хитрый начмед видел перспективы и не хотел рисковать синекурой из-за недобросовестных подчиненных.
Дело о незаконном появлении законных наркотиков он сумел пропустить мимо своей персоны.
Васильев был порядочным человеком и знал, что в наши время все врачи ходят под Дамокловым мечом: именно он замял вопрос с выговором о Нэлькиной халатности, который встал с подачи УБНОНа.
Жена рассказала Васильеву все, что с ней произошло, они обсудили текущее положение и возможные опасности в будущем, решили принять радикальные меры.
Причем, видя конечную цель, она ничего не скрывала, не делала вид, что ничего особенного не произошло.
Все отделение знало, что заведующую «трясут» в управлении по борьбе с наркотиками, хотя почти никто не признавался в знании: до исхода дел от Нэльки отворачивали глаза, порой разговаривали как с приговоренной.
Получив на руки постановление об отказе, она не стала этого скрывать. Созвав общее собрание коллектива, жена по всеуслышание объявила, что обходилась с подчиненными излишне человечно, и это позволило обращаться с нею как с предметом оговора. И сказала, что дальше подобного не потерпит, начнет чистку рядов.
Кажется, кто-то пошел к Васильеву жаловаться на необоснованную «крутизну» заведующей, но он пресек все на корню, понимая необходимость жестких мер.
В короткий срок Нэлька сменила всех медсестер, уволив их по разным причинам. Потом уволила и старшую сестру Нину Михайловну, на ее место приняла свою ровесницу из городской больницы №18 – порядочную башкирку, которой там не светило повышение в должности. Заменила даже санитарку – сестру-хозяйку, в чьем ведении были лишь простыни и кровавые матрасы.
Обновив младший медперсонал, Нэлька взялась за хирургов: меньше, чем за год выжала со своего отделения всех женщин, начиная с Деревянкиной, которая спала и видела себя на месте заведующей. Из прежних врачей у нее остался только бородатый Рауф. Его я уважал, как-то раз мы с ним даже выпили на пару в ординаторской, когда я приехал к Нэльке без машины.
Новых подчиненных Нэлька с первого дня скрутила в бараний рог; в отделении никто не смел пикнуть без ее разрешения.
Попытка подвести по уголовную статью за преступление, ею не совершенное, ожесточило мою жену. Точнее, привело к прозрению относительно человеческих качеств, о которых Пушкин писал своему младшему брату. Как руководитель Нэлька осталась справедливой, никого не ущемляла, не унижала, не зажимала – но при малейшей попытке неповиновения без предупреждения косила головы.
Вероятно, это было единственным методом работы с людьми.
Потом – видимо, с подачи начмеда – такие же «дезинфекции» прошли на других отделениях, онкодиспансер превентивно очистился от скверны.
В последнее время Васильев собирается на пенсию. Нэльке несколько раз предлагали занять его место, он сам выдвинул такое условие. Она не отказывается, но говорит, что будет оперировать пока может, административная работа ее подождет.
Спустя год или даже два, когда все улеглось и успокоилось, Нэлька призналась, что летом 1996-го года пережила клиническую смерть, после которой уже не могла вернуться к жизни в прежнем качестве.
Я давно пришел к выводу, что правоохранительная система представляет собой абсолютное зло.
Во времена ОФМ, когда я бегал младшим научным сотрудником, еще не утвержденный в кандидатской степени Высшей аттестационной комиссией, мне приходилось участвовать в работе ДНД.
Эта «народная дружина» именовалась добровольной, на самом деле туда ходили где под угрозой остаться без премии, где за отгулы. Мне доводилось на пару с участковым проверять поднадзорных, освободившихся из мест лишения свободы. Я до сих пор помню «особо опасного рецидивиста» — то есть имевшего две и более «ходки» на зону — сорока с чем-то летнего карманника, который впервые в жизни получил советский паспорт, поскольку в первый раз сел малолетним, с тех пор не успевал оформить документы между отсидками. Этот был самодостаточным и счастливым, тюрьма для него служила родным домом. Участковый с лицом, которое Пушкин назвал бы «афедроном», здоровался с ним за руку, величал по имени-отчеству и не ошибался.
Милиционеры и преступники всегда были близнецами-братьями, только сидели по разные стороны стола.
А вот для законопослушных граждан любой контакт с людьми в погонах несет только стресс.
Нэльку нехорошая история необратимо ожесточила. Она, конечно, никогда не отличалась прекраснодушием, но злой не была. Жесткой ее сделали убноновцы.
Я понимал свою жену. Мне хватило двух минут в вестибюле и одной – в справочном бюро. А она провела в смрадном здании УВД области многие часы, сложившие не одни сутки. Я подозреваю, что, щадя меня, Нэлька рассказывала не все о том, как на нее давили, пытаясь сломать на «явку с повинной» без вины. Но известного мне хватило бы на то, чтобы возненавидеть весь мир и выливать ненависть на ближних.
То лето пролетело черной тучей, которая ушла за горизонт и скрылась, чтобы больше никогда не появляться.
Но в самый тяжелый день, стоя около здания УВД области и не зная еще ничего, я понял, что нет такого преступления против общества, на которое я бы не пошел ради блага своих близких.
И даже не ради блага – а ради того, чтобы их бытие не омрачалось малым облачком.
Я бы не стал защищать их своей грудью – просто взял бы и уничтожил весь остальной мир.
Близкими – которых я видел в своей хаусдорфовой окрестности – являлись Нэлька и Ирина Сергеевна.
Петька с Пашкой и Оксаной тоже входили в круг.
Входил туда и Павел Петрович.
И, конечно, Юрий Шаукатович Идрисов, он с ранней молодости был моей частью.
О своих родителях я бы даже не подумал, я от них отстранился – вернее, близкими их никогда не считал.
Преступлений совершать мне еще не довелось.
Но в своей деятельности я всегда руководствовался личной пользой, которая определяла благо моей семьи.
Ведь даже в эпохальный 1995-й год я действовал именно так.
Старый болван Ильинский мог еще пару лет просидеть в своем кабинете заведующего сектором стохастического моделирования. Он находился в гидростатическом равновесии между былой научной славой, все еще толкающей вверх, и бременем вненаучных ненужностей, опускающим вниз, колебался вверх и вниз, но не тонул и не всплывал.
Получив и обналичив свой грант, я мог надавить на директора Налимова через руководство УНЦ и выбить себе должность главного научного сотрудника, какую имели только членкоры РАН, не занимающие административных должностей. У меня имелись и силы и регалии и результат, я стал бы «гэ-нэ-эсом», оставаясь рядовым работником, имел бы почти все блага, разве что сидел бы в одном кабинете с кем-то еще.
Но я не хотел быть хоть трижды «главным», имея над собой начальника, я должен был подняться вверх.
И поднялся и проделал то, что показывал овеянный табачным дымом Михаил Аронович на уроке физики.
Опыт заключался в том, чтобы уравновесить тело в толще жидкости, налитой в открытый сосуд, а потом закрыть его непроницаемой мембраной и надавить сверху. Ничего не менялось, но повысившееся давление воздуха заставляло гидростат тонуть.
У себя на работе я проделал именно это.
Поднялся наверх, закрыл, надавил – Ильинский тихо пошел ко дну, на его месте оказался я.
И это кажется мне единственным приемлемым стилем жизни.
В этом веке каждый должен быть за себя и не ждать, пока мембрану надавит кто-то другой.
Повторю еще раз, что это я понял это до того, как мою жену пытались посадить на скамью подсудимых. После тех событий я стал еще жестче.
По крайней мере, сейчас я строю такие планы, о которых раньше бы и не думал.
***************************************************
ВЫ ПРОЧИТАЛИ БЕСПЛАТНЫЙ ФРАГМЕНТ КНИГИ
***************************************************
Потрясающий неприкрытой искренностью рассказ о чувственном взрослении мальчика, родившегося в СССР. Судьба человека, пронесшего сквозь годы привязанность к своей первой женщине, не раз поддерживавшей его на опасных поворотах. На протяжении тридцати пяти лет мы видим эволюцию его жизни, вместе переживаем и вместе радуемся. История героя нетипична, но реальна, персонажи являются отражением советского времени в личностях, не желающих мириться с повседневностью.
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОТКРОВЕННОЙ ЭРОТИКИ.
Прочли стихотворение или рассказ???
Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите значок "Одноклассников" ниже!


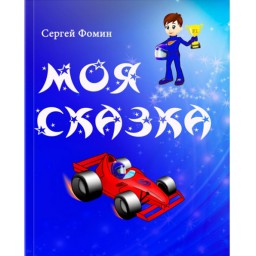

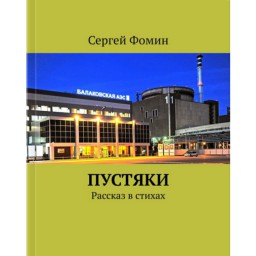
Позволю высказать несколько мыслей по поводу прочитанного текста. (да простят меня профессионалы за мою любительскую рецензию).
Хочу сразу отметить высокий профессионализм автора, владеющего словом и стилем. Данное произведение обладает необходимым свойством талантливой литературы- «цеплять» читателя, т.е. с первой страницы привносится интрига. И здесь, как говорится, опыта уважаемому Виктору Улину не занимать. Глобальный и вдумчивый труд, размещенный на 812 страницах.
Текст написан (если так можно выразиться) плотным стилем изложения. И в данном романе нет места не только для читательской фантазии, но читатель и слова своего вставить не сможет. Данный вариант литературы напомнил мне своим растолкованием классический роман Л.Н. Толстого «Война и мир.», но манера написания, естественно, иная.
Главный герой типичный представитель российской интеллигенции с негативным отношением к российской действительности, а к власти и её представителям- в особенности. Так же, как и интеллигенты прошлого, пребывает в умозрительных иллюзиях кропоткинского типа. Но осознание своего бессилия приводит, в целом доброго эмэнэса, по старой же, доброй русской традиции, к не брезгливому участию в общем бардаке. Но, как человек с интеллектом выше среднего, он подводит под это теоретическое обоснование. И вот, в модель четко выверенной и математически рассчитанной хаусдофовости вторгаются случайные факторы, что приводит героя в вспышке неразумной агрессии- в том числе немотивированной по отношению к непричастным людям.
Не понравились в отрывке два момента:
1. Исторический опыт России (да и других стран) не был усвоен главным персонажем или он просто не хочет знать, что ликвидация своих политиков и генералов приводит к негативным последствиям. Это проходила РИ в 1917 году и привело это к Гражданской войне с неблагоприятными событиями для всего населения в целом, а интеллигенция познала все «прелести» террора. А так же государство теряет наиболее развитые в экономическом отношении территории. На мой взгляд своих генералов надо кормить так, чтобы они были толстыми и ленивыми, в полунаркозном состоянии. Но в час «Х» смогли...)
2. Успокоенное отношение героя к наркотикам. Чем-то напомнило анекдот:
Встречаются двое. Первый:
-Ну что, покурим.
-Я не курю.
-Тогда выпьем?
-И не пью.
-Могу предложить «герыч» или «колёса».
-Да ты чего! Я йогой занимаюсь.
-А, понятно,- у тебя своей дури в голове хватает.
Автор, вероятно, не знает, что наркотики помимо приятных моментов у употребляющих приводят к значительному деструктивному явлению- физической зависимости. Это подобно рабству, а я с обществом рабов не хотел бы сталкиваться ни в каком варианте по объективном причинам. Теоретические основы наркообществу заложил такой философ, как Маркузе. Хорошо воспроизвел фильм- антиутопия «Эквилибриум.» Это может понравится только диктаторской власти в условиях тоталитаризма.
На страницах так же прослеживаются два социальных оксюморона:
1. Невидящий тоталитаризм часто является поклонником диктатуры.
2.Под маской пламенного борца за права людей часто скрывается человеконенавистник.
Понравилось:
1. Не учитывая пикантные моменты, книга заставляет задуматься.
2. Есть некоторое созвучие с моими собственными мыслями:
Потоки дум моих частенько
Кружат, как вьюга на снегу:
Люблю я Родину и деньги,
Страну ж за деньги не могу!
С уважением к автору и пожеланием ему творческих успехов в освоении новых, неизведанных горизонтов.
Все так и есть. Герой не любит людей вне епсилон-окрестности, в которую входят его жена, дети и еще несколько человек.
Герою, мягко говоря, все равно, что было в 17 году и каковы генералы и пр. Он аполитичен и асоциален, как математик он может работать при любом режиме.
О чем он говорил выше — хоть Пол Поту бы решал задачи по экономической статистике, хоть Мао Цзе дуну. И был бы жив. Потому что черни. готовой надеть сапоги и идти воевать, полно в любой стране, а умные люди везде наперечет.
Комплексник Бибербах имел чин в СС, но все равно остался в истории математики.
Ниже он говорит, что аполитичен до такой степени. что не знает, кто сейчас президент РФ, Я на самом деле в иные времена этого не знал, сейчас и знать не желаю.
И одно уточнение, тут этого не видно.
Герой на мнс. Он ведущий научный сотрудник, завсектором стохастического моделирования Института математики, по совместительству профессор кафедры матмоделирования университета, глава научной школы, лауреат многих грантов от муниципалитета (что говорит, что его работы по статмоделям нужны обществу)
Его жена — заведующая маммологическим отделением областного онкодиспансера, вся еещ жизнь — непрекращающаяся помощь людям с минимальной отдачей.
Они оба — и — элита, на которой (на них, а не на менеджерах Макдональдса, не на адвокатах или парикмахерах) держится общество.
Имеют право на хаусдорфовость в стране победившего быдла.
По поводу наркотиков.
(Выше тоже есть рассуждения героя).
И мое мнение.
Да пусть хоть 3/4 человечества перемрет за полгода — будет только лучше.
Земля перенаселена, рост популяции продолжается (хотя Даррелл сетовал по этому поводу еще в 70е годы): старым дуракам искусственно продлевается жизнь, нежизнеспособных младенцев из трупов оживляют в ОПН.
Чем меньше останется на Земле людей, тем лучше для оставшихся.
И не все станут наркоманами.
Я знаю, что такой наркотики.
Даже не героин — простая внутримышечная инъекция норфина делает мир таким, каким я хочу его видеть.
(Подумал о женщине — около меня появилась женщина, брюнетка; подумал, что брюнеток не люблю — она мгновенно превратилась в блондинку с длинными холодными белыми волосами...)
За это можно все отдать.
Но я наркоманом не стал, деньги спускал на автомобили.
Так что все не так страшно.
Если вымрут ментальные отбросы общества — это пойдет только в плюс.
Но про Пол Пота вы зря сказали- этот вас бы точно живьём закопал. (говорят, что не любил грамотных аж до колик и эти самые колики лечил низведением причины).
Извините за невежливость- издержки рабоче- крестьянского воспитания.
Поздравляю Вас с завершением столь содержательного труда.
Ещё раз- удачи.
Я и сам не всегда вовремя поздравляю друзей.
Голова идет кругом…