Упражнения в прекрасном: творческий марафон. Неделя 1
Здравствуйте, уважаемые участники творческого марафона!
Мы начинаем увлекательное путешествие в мир нашего воображения и творческих способностей с истоков – воспоминаний о нашей семье и детстве. Темой первой недели марафона (13.04 – 19.04) будут образы из раннего детства или «переходные объекты».
Переходные объекты (также трансфертные объекты) – это предметы из раннего детства, которые создают у ребенка ощущение психологического комфорта и защищенности. Это может быть плюшевый мишка, которого малыш берет с собой спать, расставаясь перед сном с матерью. Или мягкое одеяло, которым он укрывается. Или та игрушка, которая остается с ребенком на долгие годы и используется как талисман, в сложных и(ли) стрессовых ситуациях. Или та кукла, которую ребенок наделяет собственным именем и считает своим «двойником»… То есть это все те предметы, которые помогают маленьким детям познавать мир и постепенно отдаляться от матери. Те, кого маленький человек наделяет воображаемой жизнью и особым характером.

Сам этот термин – переходный объект – был в 50-е годы XX века предложен британским педиатром и детским психоаналитиком Дональдом Винникоттом. Он считал взаимоотношения ребёнка с любимой игрушкой, а позже – взрослого человека с комфортными, приятными вещами (например, удобной домашней одеждой), частью общего процесса перехода от мира человеческой психики – к реальному миру. С точки зрения исследователя, переходной объект находится на границе между этими мирами и облегчает переход человека к действительности:
«Переходные объекты и переходные явления относятся к области иллюзии, которая стоит у истоков опыта. (...) Эта промежуточная область опыта, которая является относительно независимой от внутренней или внешней реальности, составляет основную часть опыта младенца и сохраняется в течение всей жизни индивида как сильное переживание, связанное с искусством, религией, миром фантазий и творческой научной деятельностью. По этой причине можно говорить о позитивном значении иллюзии...».
[Д.В. Винникотт Младенец. Переходные объекты и переходные явления // Psychoanalysis (Психоанализ): psychoanalysis.pro/229/vinnikott-perehodnyie-obektyi].
Георгий Костин «Переход через улицу из этого мира в тот мир»

Помимо собственно переходных объектов, мы можем говорить и о так называемых переходных явлениях, к которым относятся воспоминания о пережитых нами чувствах. Например, это запах бабушкиных пирожков, который вызывает ассоциацию с теплом и уютом родительского дома, или же приглушенный звук радио, который затем всегда ассоциируется у человека с его отцом, или звуки рояля, ассоциирующиеся с матерью. Здесь можно привести в пример замечательное эссе М. Цветаевой «Мать и музыка» [Электронный ресурс: https://librebook.me/mat_i_muzyka/vol1/1].
Также стоит вспомнить и о ранних стихах поэтессы, в которых она обращается к предметам детства и через них – к любимым родителям:
«Холодно! Кукла без глаз
Мрачно нахмурила брови:
Куколке солнышка жаль!
В зале — дрожащие звуки…
Это тихонько рояль
Тронули мамины руки»
(М. Цветаева «Пробужденье»)
Или:
«Глупую куклу со стула
Я подняла и одела.
Куклу я на пол швырнула:
В маму играть — надоело!
Не поднимаясь со стула
Долго я в книгу глядела.
Книгу я на пол швырнула:
В папу играть — надоело!»
(М. Цветаева «Скучные игры»)

Вызов в памяти предметов и явлений из раннего детства открывает взрослому человеку возможность заново пережить ощущения и события того периода времени, а также по-новому их осмыслить, что важно для более глубокого осознания нашего внутреннего «я». Воспоминания о предметах из детства, наделенных большой эмоциональной силой, могут являться источником творческого вдохновения в настоящем времени.
«Большинство людей, добившихся высоких достижений, тесно связаны со своим “внутренним детством”, и многие из них хранят реальные переходные предметы (...), как средство мгновенного вызова воспоминаний, придающих силу и азарт» – утверждает психоаналитик Мэрили Зденек, в своем «Учебнике по творческому мышлению».
«Воспоминания вызывают ностальгию по прошлому, какое бы оно ни было. Прошлое переплетается с настоящим, и это вызывает много различных мыслей. (...) Благодаря этому рождаются идеи, которые потом могут лечь в основу сюжета будущего произведения» – вторит ей известный американский писатель Рэй Брэдбери, прославившийся своими антиутопиями «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», а также автобиографической повестью, своеобразной одой детству «Вино из одуванчиков».
Р. Брэдбери советует начать путь к воспоминаниям с поиска ассоциаций и с дополнительных вопросов самому себе: «Кстати говоря, “Вино из одуванчиков” я начал именно с поисков ассоциаций. Я начал думать, с чем у меня ассоциируются одуванчики. Я стал думать о том, какие они на вкус, на ощупь. (… ). Как только у вас возникают такие оформившиеся ассоциации, вы должны как бы оглянуться на них и сделать какую-то пометку. А после этого ваши ассоциации начинают работать сами, безо всяких усилий с вашей стороны. Вы вспоминаете о том, как ваш отец делал вино. Вы вспоминаете, как собирали виноград. В вашей памяти всплывают отчетливые образы того, как все собирают виноград: вы, ваш брат, ваши друзья».
Георгий Костин «Осенний блюз»

Если для Брэдбери ключевыми образами стали летние цветы и виноград, то для Германа Гессе в рассказе «Душа ребенка» роль сюжетного «крючка» сыграли винные ягоды, когда-то хранившиеся в кабинете его отца и неодолимо манившие его к себе. В рассказе Гессе вспоминает о самом себе в возрасте 11 лет, о своих чувствах и вкусах того времени. Вспоминает детально, подробно, нисколько не идеализируя детскую жизнь, а показывая ее особенности и внутренние, подчас не видимые взрослым, сложности.
В этом рассказе продемонстрировано, что у ребенка еще не до конца сформирована сила воли и самоконтроль, в то время как его родители уже пытаются полностью контролировать все его действия и требуют подчас невозможного, что приводит ребенка к страху перед родителями и даже непрощенным обидам:
«Наверно, впервые за свою детскую жизнь я почувствовал, я почти отчетливо осознал, как ужасно могут не понимать, мучить, терзать друг друга два родных, полных взаимной доброжелательности человека (...). Как это так получалось? (...) Вечером этого печального воскресенья, перед самым сном, отцу удалось завести со мной еще короткий разговор, который нас помирил. Я лег в постель с уверенностью, что он меня целиком и полностью простил – полнее, чем я его».
В душе каждого из нас живет ребенок. Но у некоторых он «дремлет», находясь под гнетом строгого взрослого. Давайте попробуем разбудить в себе эту хрупкую, но такую одаренную личность!
Любое воспоминание – не только положительно, но и негативно окрашенное – может служить обогащающим творческим опытом. Так, как это произошло в упомянутом рассказе Г. Гессе. Тем не менее, будьте осторожны с травмирующими воспоминаниями, и, если это психологически тяжело для вас, то не уходите слишком далеко по тропе детских обид и конфликтов!
Спасибо за внимание. Я желаю вам удачной практики!
Георгий Костин «Портреты масок-2»

Задания первой недели марафона:
1. Помните ли вы какой-нибудь реальный предмет из вашего детства, который имел для вас особое значение? Подумайте о нем, попробуйте, по совету Р. Брэдбери, вызвать в памяти цепочку ассоциаций и воссоздать в памяти эпизоды, связанные с этим предметом! Возвращайтесь к воспоминанию неоднократно в течение недели, каждый раз пробуя вспоминать чуть больше, чем в предыдущий.
2. Попытайтесь вспомнить и записать максимальное количество предметов из раннего детства. Возможно, часть из них вы храните до сих пор. Если да, то почему? Чем они вам дороги? Быть может, они не просто являются частью вашей личной истории, но и лучшей памятью об уже ушедших людях?
3. Напишите «этюд» – небольшую зарисовку в прозе или в поэзии, посвященную какому-то одному предмету, вспомнившемуся вам из детства.
В литературе этюд – это самостоятельное произведение небольшого размера, в котором писатель старается максимально правдиво передать свои эмоции, ощущения и впечатления от какого-либо предмета или события. Для написания этюда подбираются наиболее точные слова и выражения, чтобы читатель смог представить и прочувствовать увиденное автором.
Пример моего тематического этюда вы можете посмотреть по ссылке: http://pisateli-za-dobro.com/posts/132-illyuzii-vosprijatija.html.
Спасибо, что прочли! Если у Вас остались вопросы по изложенному материалу, то задавайте их в комментариях к статье. И не забудьте дать себе письменное обещание выполнить задания этой недели! :)
Напоминаю вам о формате текстов и о сроках их подачи:
Дедлайн по текстам первой недели: 18 апреля, 23.30 по Москве!
Максимальный объем для прозаических текстов – до 1.500 знаков (без пробелов), для стихотворений – 24 строки. Если Ваше произведение не вписывается в указанный формат, Вы можете в комментариях дать ссылку на Ваш блог, а здесь разместить наиболее яркий отрывок указанного объема. Спасибо вам за внимание и уважение к чужому времени!
Подробную информацию о марафоне можно посмотреть на странице «Упражнения в прекрасном: марафон по развитию творческих способностей. Приветствие»: http://pisateli-za-dobro.com/articles/881-uprazhnenija-v-prekrasnom-tvorcheskii-marafon-privetstvie.html.
Визуальное оформление марафона представлено фото https://www.pinterest.es/, фото «Краски детства»: https://foto2020.ru/, а также работами члена литературного клуба «Писатели за добро», фотохудожника, члена СФР, Георгия Костина: http://www.photounion.ru/Show_User.php?unum=229
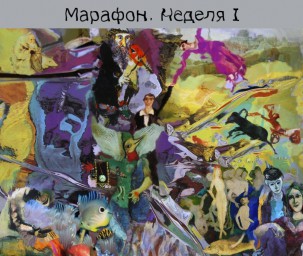
Бумажное волшебство
Об этом думать, раньше, он не смел,
Да и сейчас не верит, может сниться,
Что он взлетел и с ветром полетел,
Хоть на веревке все же будто птица.
И он летел все выше, все смелей,
Потоки ветра к небу поднимали,
И не боясь застрять среди ветвей,
Стремился он в заоблачные дали.
А стая птиц, приняв за своего,
Ему кричала весело:«Ты с нами?»
И он, забыв тогда про все,
В ответ кричал:«Конечно, птицы, с вами.»
Бумажный змей, забыв про поводок,
Летел как птица с ними в одной стае,
А мальчик, выпустив из рук клубок,
Махал им в след, таким же стать мечтая.
Мишка
Ну здравствуй дом, прошла почти что вечность
Полвека не был здесь, меня прости.
А пахнет так же как и прежде печкой
И в ней пылают жаром пироги.
Бабуля чаем с медом угощает,
Парное к крынке чудо молоко,
А на кроватке мишка отдыхает
И ждет конечно сладких пирогов.
Мой лучший друг, мой ватный мишка,
Меня всегда любил ты понимал,
Когда все спали еле слышно
На ушко ему тайны раскравал.
Так быстро, птицей, время пролетело
И бабушка давно уже не ждет,
А на кроватке, сердце леденеет.
Мишутка улыбается, зовет.
Мне года 1,5-2…
Отчетливо помню, как меня, всю укутанную, везут на санках в ясли, видимо, отец…
Мне года 3…
Мы с мамой у отца в Северодвинске, он был в командировке… Помню его сильные руки, подкидывающие меня высоко к потолку, его, улыбающегося мне…
Игрушки… Наверное, они и были, но я их не помню, мне нравилось другое…
А дальше… В основном, была одна. Мама всегда на работе, отца уже не было с нами, старший брат то в школе, то у бабушки, то на улице…
Мне 5 лет…
Маме дали трехкомнатную квартиру в новом доме. После нашей малюсенькой комнатки, где мы ютились вчетвером, это были хоромы!
Новая радиола, новые пластинки…
Самая любимая--маленькая, ярко-синяя, гнущаяся, фирмы «Мелодия». Три песни, которые исполнял итальянский мальчик Робентино Лоретти, я не забуду никогда!
«Попугай», «Ямайка», «Санта Лючия»… Я каждый
день помогала ему их петь. Странно то, что знала все слова, я пела на итальянском… Сейчас, когда под настроение включаю эти песни, помню лишь отдельные слова…
Эта пластинка была дороже мне любой игрушки, к которым я относилась, к слову, совершенно равнодушно.
Я хранила и берегла эту пластинку, как зеницу ока, несколько лет… Исчезла она странным образом при переезде к отчиму. Думаю, её просто выбросили за ненадобностью, не спросив меня…
И ещё одна страсть была у меня в детстве-книги.
Для того возраста, 5-7лет, их у меня было довольно много. Просила читать всех: маму, если у неё было немного времени, бабушку, тётю. Больше всех доставалось брату. Наверное, устав от моих просьб, он каким-то образом научил меня азам чтения, чтобы потом с чувством выполненного долга нестись на улицу по первому же свисту друзей… Любила и знала наизусть много произведений. Это и сказки, и детские стихи А. Барто, К. Чуковского, С. Михалкова,
позже В. Драгунского…
Нравилось представлять себя действующим персонажем. Хотелось лечить больных зверей в Африке вместе с Айболитом, добравшись туда, преодолевая все трудности пути… Или переживать за Фёдору, от которой сбежала посуда, или быть Мухой — Цокотухой, дрожащий от страха при виде Паука…
И сейчас с огромным удовольствием в лицах всё это читаю своим внучатам…
А пластинки «Мелодии» и в моем детстве еще были! ))) Особенно запомнились песни в исполнении Н. Румянцевой, А. Миронова, «Голубой щенок»!..
Первые два задания Вы уже отчасти выполнили! Но не спешите: если удастся еще что-то вспомнить в течение недели, то добавляйте свои воспоминания в нашу беседу! И постепенно переходите к итоговому заданию (3). Напомню — оно состоит в том, чтобы выбрать какой-то один предмет из вашего детства, как ключевой образ для рассказа (или стиха). То есть по итогу это должен быть эпизод (сюжет), связанный с каким-то важным предметом из детства. Пожалуй, в Вашем случае это могла бы быть пластинка… или книга?.. Удачи Вам!
Теперь, когда слушаю эти три песни, заказанные через Интернет, эта пластиночка перед глазами… Жаааалко!
Спасибо, Елена, за тёплые слова.
если б не войны калечащий сердце осколок.
Помню её истыканную подушечку для иголок
и вышитый ею, беременной мною, портрет.
На портрете (так виделось маме, израненной фронтом) – девчонка,
вырисованная клеточками трофейного немецкого полотна.
Вьются до плеч волосы густые цвета льна,
над голубыми озёрами – брови ниточкой тонкой.
Как виделось мамочке, так и случилось: в положенный срок
весть разнеслась над сопками Забайкалья –
из потаённых мечтаний о дитятке, из Зазеркалья
ребёнок из вышивки пухлый сосал кулачок.
Этот портрет потом висел на стене в детской комнате,
девочкою из сна росла королева капризная.
Руки мамы иголками исколоты – была признана
модисткою первою в городе, да вы помните…
Потом переезд из дома частного, от сада украинского –
в дом, как улей, где в каждой ячейке свои портреты.
Девочку с вышивки всё теряли в квартире этой,
всё-то она уезжала куда-то дорогой неблизкою.
Сегодня бы маме моей исполнилось сто лет –
у мамочки голубоглазой испорчены руки иголками.
В сердце живёт и играет оттенками детскими тонкими
вышитый мамой когда-то немецкий трофейный портрет.
Невозможно сдержать слёзы. И сразу — снежный ком своих воспоминаний…
Пока мы их помним, они живы. А портрет — просто чудо!
Удивительные истории слагает жизнь. Наверное, так люди и приходят к нашему занятию.))
Спасибо большое, Елена, очень интересно!
У меня вопрос — куда помещать окончательный этюд, когда напишется?
Что-то не поняла…
Спасибо за участие!
К наступлению Нового года в нашей семье готовились заранее. Обновляли ёлочные игрушки. Большинство игрушек были рукотворными – их с любовью вырезали, клеили, присыпали слюдой мама и папа. Таких игрушек сейчас нет, новомодные даже отдалённо их не напоминают. Не зря коллекционеры охотятся за старыми ёлочными игрушками. Увы, игрушки – память детства – не сохранились, потому что были бессовестно кем-то украдены из сарая, куда большая коробка с с ними была вынесена на время ремонта. Втайне от меня и брата готовились новогодние сюрпризы, которые всегда имели своё значение – цветные карандаши, краски, книжечки- раскраски, книжечки детских стихов, сказок, устанавливалась и украшалась ёлка… Мама из ярких тканей шила мешочки для подарков. Потом наполняла их конфетами, печеньем, орехами и прятала под ёлку под белое полотно, имитирующее сугроб. Потому что часто в гости приходили друзья родителей с детьми. Устраивались конкурсы, и подарки под ёлкой были наградой. Взрослые тоже не были обделены вниманием. Бабушка вязала для подарков варежки, носки, а мама обвязывала крючком салфетки для кухни, носовые платки и вышивала на углах платков инициалы тех, кому они дарились… Вышивала разноцветными шёлковыми нитками. Помнится, я любила играть яркими блестящими клубочками.Уже будучи школьницей узнала, что в магазине покупались белые шёлковые нитки — видимо мулине тогда не было — и красились анилиновыми красками. Как давно это было…
Шуршит бумага…
Падают обрезки…
В ходу фольга рот-фронтовских конфет…
Творили вдохновенно, буйно, дерзко!
Теперь не испытать такого. Нет.
Цепей бумажных, разноцветных — метры,
фигурки узнаваемых зверей…
Такое милое из детства ретро,
что пряталось за таинством дверей.
Украшен зал,
и ёлка — посредине,
Снегурка, Дед Мороз,
и праздник ждёт.
И по паркету,
будто бы по льдине,
шагаешь в восхищении вперёд.
В ветвях пушистых
рук своих творенье
глазами ищешь.
Чувство торжества
не отпускает.
Сладкие мгновенья
вдруг ощущаешь пылом естества…
Теперь всё по-другому,
всё иначе.
Игрушек выбор сказочно большой.
Но для меня
всегда так много значат
руками сотворённые, с душой.
«Теперь всё по-другому,
всё иначе.
Игрушек выбор сказочно большой.
Но для меня
всегда так много значат
руками сотворённые, с душой».
И для меня это тоже так!.. Спасибо.
Папа привёз его мне в деревню, где я с младенчества проводила летние месяцы с мамой и бабушкой, в доме, принадлежавшем ещё моему прадеду, священнику сельской церкви. Куплен тазик был наверняка или в «Детском мире», или в только что открывшемся немецком магазине «Лейпциг». Позже у меня появятся немецкие куклы ростом с ребёнка, умеющие ходить и говорить, — они и сейчас восседают на шкафу в родительской квартире. Тазик же давным-давно проржавел, прохудился и канул в лету. Но именно он первым приходит на ум, когда я вспоминаю своё детство – счастливое, беззаботное, полное звуков, запахов и красок, которые и сейчас со мной.
Дом стоял на берегу маленькой речушки Комарихи, похожей, скорее, на ручей, впадавший в полноводную ещё Воршу. Таскать воду из Комарихи детям не запрещали, а вот к Ворше, которая была метрах в трёхстах от дома, через дорогу, ходить можно было только с кем-то из взрослых. Например, когда мама полоскала белье с широких деревянных мостков и доверяла мне побултыхать в воде свои платочки и трусишки. Над водой со стрёкотом носились бесстрашные голубые стрекозы, по речной глади бегали огромные водомерки, в мыльных брызгах играла радуга…
Теперь же я брала на речку свой необыкновенный таз и могла стирать в нём, сколько заблагорассудится. Можно было купать кукол, мыть игрушечную посуду, запускать кораблики из щепок, в общем, играть целый день и в любую погоду.
Напротив дома, на берегу Ворши, стояла банька – настоящая русская баня, с дровяной печкой в помывочной, с огромным котлом, в который воду надо было натаскать с реки вёдрами. По периметру – деревянные полки’, потемневшие от воды и пара, а вокруг – разнокалиберные тазы, вёдра, ковши, веники, всё, что нужно для мытья. Теперь здесь появлялся и мой заморский гость – красивый эмалированный тазик.
Баню топили раз в неделю, по пятницам. Затапливали печь после полуденной дойки, чтобы она как следует прогрелась, и начинали таскать воду. Наполняли котёл и стоявшую в углу большую деревянную бочку. Часам к пяти всё было готово. Первыми шли старшие члены семьи – бабушки, пока пар был не такой влажный и тяжелый. Потом – мамы с детьми. Нам позволялось немного поиграть, сидя в тазах с мыльной водой. Замыкали круг те, кто весь день работал – мои тётя и дядя, жившие в деревне постоянно. Они любили «поддать парку» и похлестать друг друга вениками – так отдыхали от трудовой недели…
Переодевались все в предбаннике – тесной комнатушке с маленьким оконцем, выходившим на берег Ворши. Мама долго расчёсывала мне косы, просушивая полотенцем, — ни о каких фенах тогда и знать не знали. И обязательно повязывала на влажные волосы чистый платок, пахнувший мылом и свежестью, перед тем, как выпустить на улицу. Прижав к груди тазик с игрушками, я выбегала на порог бани и замирала, глубоко дыша…
Даже жарким летом по вечерам от реки поднимался туман, который, смешиваясь с печным дымком, создавал неповторимый запах – влаги, разнотравья, чего-то неуловимого, запах моего детства. Всматривалась сквозь туман – там, над рекой, на косогоре, среди деревьев, блестел купол храма, где служил мой прадед. А от дома меня уже окликала бабушка – поспел самовар, из печи вынуты чугунки с запеченной картошкой или кашей (ничего вкуснее потом в жизни не ела, даже в «мишленовских» ресторанах), и я, подхватив свой тазик, бежала к ней по росистой траве…
До сих пор, полвека спустя, я иногда на прогулках улавливаю этот запах – и замираю. И такое ощущение счастья накатывает, что в горле застревает ком. «Погоди, — останавливаю я мужа, — Снегирёвом запахло». На несколько минут, проведённых в тишине наедине с этим запахом детства, я вновь становлюсь беззаботной девчонкой, запускающей кораблики в ярком эмалированном тазике…
Прошу у Вас в качестве моральной компенсации за мое потерянное время и нервные клетки, которые не восстанавливаются, прислать мне томик Вашей поэзии! С каким-нибудь хорошим жизненным напутствием. Как Вам такая идея?
P.S. Заранее Вам говорю, при свидетелях, что по моему адресу проживает еще много людей, кроме меня. Среди них старики и дети. Это на тот случай, если Вы опять за «вуду-магию» возьметесь и таки решите в своих будущих творениях затопить мою квартиру!..
Я каждое утро просыпалась от стука швейной машинки, а тебя будил трамвай и эти банки…
В моём ближайшем окружении тоже была такая женщина, и она тоже сломала жизнь трём своим сыновьям и сеяла только зло.
Прекрасно, что ты нашёл себя в творчестве, и теперь понятны твои предпочтения в выборе тем.
Я читала «Незабудки». Там ты какой-то другой. Стиль изложения совсем не твой.
Про трупы ничего не знаю, с детства боюсь всего этого…
www.youtube.com/watch?v=ReKi6pCkaGY: для смеха:)
Благодарю, что откликнулись, Виктор.
Думал ли тазик, что будет так воспет!)))
И «думал ли тазик?..» Да, Маргарита, едва ли он рассчитывал на посмертную славу!..
И знаете, что еще приятно. И даже как-то неожиданно. Я часто бываю в семье и в коллективах «за старшую». Преподавание и редакторские подработки опять же накладывают свой отпечаток. Да и вообще как-то так получается по жизни. Не знаю, почему. А вот на этом сайте я себя ощущаю по-настоящему молодой! Прямо на редкость. И есть у кого поучиться! И многое еще впереди!.. Это и впрямь меня радует. Так что за Вашу ремарку про возраст отдельное спасибо!
Я ещё не приступила, а уже…
Спасибо Вам.
pisateli-za-dobro.com/babushke5dbf3d3d241e8.html
Бабушке
В детство оконце открою:
Белой черемухи цвет
Вижу и плачу- не скрою
Счастье струится в ответ.
В маленькой комнате солнце:
Бабушки милой глаза,
Чашки фарфоровой донце,
Вазы хрустальной слеза.
Витиеватый рисунок
Темного шкафа в углу,
И абажур желто-лунный
Чудится, как наяву.
Бабушки теплые руки,
Кружева белый узор…
Тонкости швейной науки
Я познаю до сих пор.
Память находит сквозь годы
Тихой мечты уголок,
Где по законам природы
Нежность прошла свой урок.
Жили мы в доме на окраине, за окном простиралось бескрайнее пшеничное поле, покрытое васильковым одеялом. И это был — целый мир со своими тайнами, опасностями и радостями. Я могла часами бывать наедине с деревьями и травами, цветами и небом.
ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ
Оказаться в урочище. Допьяна
Ароматом цветов полевых надышаться,
Насмотреться на небо бездонное,
Уловить первозданное детское счастье…
Там, где божья коровка-проказница
Попадает все время за ворот рубашки,
Друг за другом стрекозы гоняются,
И поют, соловьем заливаются пташки.
Там, где мелкие розовым *часики*
Все цветут на зеленом. Картины нет краше…
И бабуля моя *знатным классиком*
Мне поведает сказки о былях вчерашних.
Помню ясли – да, да, да!–
В первые мои года:
Мне годочка два тогда
Было, вроде –
А, быть может, полтора –
Вижу это, как вчера,
Хоть и помнить – не пора
По природе.
Вот стоим мы дружно в ряд,
Голопузиков отряд–
Няньки что-то говорят,
Улыбаясь–
Вот расселись по горшкам
(Их навалом было там)
По естественным делам,
Не стесняясь.
Папа первым привезёт
И последним заберёт,
А сынок порой ревёт,
Ожидая.
Папа к сроку не успел,
И у мамы много дел,
Да и всё-таки ревел
Не всегда я.
© Сергей Фомин
Семикаракорск
14 апреля 2020 г.
И Вы, как мне кажется, совсем не изменились с тех давних времен!
Так что: вперёд в детство.
Победил лень и закончил публикацию повести в стихах «Быль начала 90-х» на Ридеро только что. Теперь будем подождать модерации.
Благодаря твоей статье и урокам детей по инстаграму и фотошопу это оказалось вполне по силам, хотя вчера к вечеру хотелось всё бросить к чёртовой матери.
Благодарю!
Готовилась к конкурсу чтецов. Взяла стихотворение «Варварство» Мусы Джалиля
Произведение тяжёлое. Я настолько явственно видела сцену расстрела женщин с детьми, что начинала рыдать, дойдя до этого эпизода:
— Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.—
И он закрыл глаза. И заалела кровь…
Все две недели до конкурса одно и то же…
Уж настрою себя, учитель успокаивает, вроде соберусь… Нет. Только дохожу до этого места — плач… Хотели дать другое произведение-ни в какую не соглашалась, тогда сказали, что читать моё любимое стихотворение будет другой. И это стало для меня, как ушат холодной воды.
Я заняла 1-ое место, подарок — сборник стихов о войне, в котором есть и это стихотворение, стоит в моем книжном шкафу на самом видном почётном месте…
Что вызвало сразу несколько нескромных вопросов…
Я уже знаю, что вы любвеобильный товарищ, вы как-то сами об этом мне сказали… Вопрос… Все ваши женщины были под номерами, чтобы не ошибиться? В чем?
И… как прошло и чем закончилось ваше выступление у любви под номером 3? Боюсь, что долго буду искать и найду ли вообще, поскольку с техникой до сих пор на Вы. Простите меня и можете не отвечать, если считаете, что мои вопросы бестактны…
Жизнь она такая…
И смех и грех…
Спасибо вам за всё. Общаться с вам очень легко и интересно, а для меня — поучительно. Вы даёте много ценных советов, учите серьёзно относиться к своим литературным опытам. Отдельное спасибо за честность и прямоту.!
Воспоминания из детства. (Пензенская обл. С/х «Владимирский»)
Речка в низине, за садом,
Тихо сидят рыбаки.
Папа рыбачит, мы рядом,
Мама нам сварит ухи.
Бабушка в серенькой шали,
Нам принесла молока.
Сильно по ней мы скучали.
Выпьем кувшинчик до дна.
Дедушки нет, и не будет,
Несколько лет, как ушёл…
Нас ведь ни кто не осудит,
В детстве нам всем хорошо!
К вечеру топится банька,
Веником будут хлыстать,
Друг мой доверчивый, Санька,
Снова зовёт погулять.
Мама, уже не пускает,
«-Завтра пойдёте шалить!
Нынче закат догорает,
Нужно грибов засолить!»
Утром толпою на речку,
Днём заберёмся в шалаш.
Вечером теплится свечка,
Дом освещается наш.
Лето, безумное лето!
Счастлива наша семья!
Детство в памяти где-то,
Домик уютный, скамья…
15.04.2020г ©М.Буранова ст.Рождественская, Ставропольский край.
pisateli-za-dobro.com/zabor.html
Я помню было мне почти три года,
В деревне у бабули мы гостили,
Была чудесная и ясная погода,
И облака, как караван, по небу плыли.
Бежали с братом босиком по речке,
Мамуля нас обедать зазывала,
А бабушка тем временем из печки
Горячие буханки хлеба доставала.
Хрустящий, ароматный, тёплый хлеб,
И в чугунках похлёбка, щи и каша.
Грибы солёные, принёс их дядя Глеб,
Вот собралась обедать семья наша.
Я помню тонкий скрип от половицы,
В углу сундук, в нём бабушкины тайны,
В ведре железном, родниковая водица,
Я разлила на пол её случайно…
Брат с коромыслом снова за водою,
Как не смотри, а он мой старший брат,
Я маме говорю: „ — Палы шама памою,
Ведь Валька мой шафсем не виноват!”
Я помню баню, из брёвнышек сосновых,
А из трубы клубами дым валИт,
Хлыст веников, мне кажется дубовых,
„Всё вылечат!” — так Мама говорит.
Тогда впервые в бане обварилась,
Зачем полезла в тазик с кипятком?
„О Господи!” — бабушка взмолилась,
Лечили вроде мёдом с молоком.
Я помню стройную берёзовую рощу,
Дубраву и сосновый необъятный бор,
Как Папа обнимал родную тёщу
И ремонтировал скосившийся забор.
Прабабушку, вязавшую носочки,
Соседского дурного петуха,
Малюсеньких цыплят, а рядом квОчки.
Я помню всё! Ну что таить греха…
Это было мною написано прошлым летом. Есть публикация на моей странице.
«Как Папа обнимал родную тёщу
И ремонтировал скосившийся забор».
Прощание
За горизонт уходят люди, лица… за линию судьбы…
И забывают в мире воплотиться все «если», «бы».
А мы идем дорогой жизни дальше – зима, весна…
Как будто ищем ключ. Но вместо двери – одна стена.
За эту стену смерти и забвенья все канут вмиг:
Мгновение последнее иссякнет. Затмится лик.
И образ – мысли, человека, вещи – сотрется в прах,
Покажется, вся жизнь продлилась меньше, чем крыльев взмах.
Мы все – столетьем раньше ли, позднее – как сор уйдем,
И станем колесом перерожденья, и чьим-то сном…
И только память близких отразит нас, и охранит,
И наша речь – чужими голосами – вновь зазвучит.
Сильнее связаны мы все друг с другом, чем можно б сметь
Подумать, помечтать, помыслить иль захотеть…
В чужой крови твои когда-то чувства еще бурлят,
И в чьем-то сердце будет вечным гостем любимый взгляд…
(август 2018)
И станем колесом перерожденья, и чьим-то сном…
И только память близких отразит нас, и охранит,
И наша речь – чужими голосами – вновь зазвучит.» —
Не любила у печки сидеть
И украдкой из дома сбегала
На стихию весны поглядеть.
У оврага вода разливалась,
Клокотала, мне кровь бередя,
И потоком большим устремлялась
По порогам, кустам до пруда.
Я корабликов — щепок подброшу –
Поплывут в неизвестность они…
Много в прошлом моментов хороших,
Что блаженству и счастью сродни.
Воспоминания о Чите, любимой плюшевой собаке, приносили смешанные чувства: любовь, привязанность, боль и обиду. А началась история дружбы маленькой девочки и Читы так…
Сколько лет на тот момент мне было, я уже и не скажу точно, скорее всего три-четыре года. Мы были в гостях у родственников. Тётя Маня, чтобы меня занять, дала какие-то игрушки. Я все пересмотрела и взяла в руки старую плюшевую собаку рыжего цвета с серым (когда-то белым) треугольником на лбу и таким же животиком. Лапы были, можно сказать, бесформенными: овальные подушечки, пришитые по бокам и внизу, кусочек плюша сзади – хвост, чёрные пластмассовые глазки и нос, а уши… О это были уши спаниеля (но тогда в породах собак я не разбиралась)! Большие висячие уши! Этими ушками можно было закрыть глаза игрушке, свернуть трубочками и сделать из собаки зайца, а если подвернуть – это уже медведь. Такая себе собака-трансформер.
– Тётя Маня, как зовут собачку? – спросила я.
– Эту? Это… Это Чита, – назвала кличку, которая, скорее всего, пришла ей на ум.
– Но Чита – это же обезьяна.
– А она и так уже почти обезьяна! – засмеялась тётя Маня. – Старая и страшная.
– Она не страшная. Она красивая.
Больше меня забавлять не пришлось. Обо мне забыли, и я забыла обо всех, так как моё внимание было приковано только к плюшевой собачке.
Когда нужно было прощаться с хозяевами, я долго выцеловывала Читу. Тётя Маня засмеялась и сказала:
– Да забирай её себе.
– Спасибо! – и я радостно прижала игрушку.
– Мама, но это же моя собака, – обижено сказал сын тёти Мани, а мой двоюродный брат, на то время уже подросток.
– Ванька, как тебе не стыдно? – удивлённо сказала тётя Маня. – Ты уже парубок! Зачем тебе игрушки?
Мой отец тут же хотел забрать у меня плюшевую собаку, аргументируя, что у нас дома их и так полно, но я подняла такой крик со слезами, что меня с Читой оставили в покое, и родители пообещали в следующий раз привезти игрушку и вернуть Ване.
Я умоляюще смотрела на тётю и брата, чтобы этого следующего раза не случилось.
– Да не надо её привозить! – замахала руками тётя Маня, а Ваня вышел из комнаты, чтобы скрыть слёзы.
Хотя тогда я была совсем маленькой, но до сих пор помню взгляд и глаза брата, полные слёз, обиды и бессилия: ведь стыд, что он взрослый, не дал ему тогда отстоять любимую игрушку.
Читу так и не вернули Ване. Я с ней просто не расставалась. Она сидела со мной за столом, в песочнице и ходила в магазин и в гости. Родителям, видно, было неловко пере знакомыми, что у дочери такая «зачуханная» любимая игрушка. Они покупали зайцев, мишек, собачек… Те получали свои клички, но так и оставались просто игрушками. Читу время от времени зашивали и стирали. Она немного светлела, но так и оставалось той же старой, но любимой Читой.
Для неё я варила невидимые каши и кормила из ложечки, завязывала на уши банты, одевала свои платья. И, конечно же, ложилась с ней спать. Раньше я не могла уснуть без любимой синей маленькой подушки в розах, которую мама сама вышила крестиком. Теперь же на этой подушке обязательно должна была спать и Чита.
Однажды я проснулась и не обняла свою плюшевую собаку. Её просто не было.
– Где моя Чита? – со слезами прибежала к родителям.
– Не знаю, – ответила мама, – куда ты её дела.
Я вернулась и перерыла всю постель, заглянула под кровать, но игрушки нигде не было. Теперь каждое утро начиналось с поисков Читы, но вечером я опять ложилась спать одна. Никакая из новых игрушек не занимала место на синей подушке.
Прошёл где-то месяц, но поиски не прекращались. Отец уже не выдержал и обратился к матери:
– Может, ты уже скажешь ей, что не стоит искать Читу…
– Где она? – я почуяла что-то неладное.
Мама замялась, но так и не ответила.
– Твоя Чита сгорела в печке, – сказал отец и вышел из комнаты, так как мой неожиданный крик и слёзы уже было не остановить.
Я долго «не дружила» с родителями, которые решили избавиться от игрушки, от которой они чувствовали неловкость перед другими взрослыми. Меня ещё не один год не покидали чувства боли и обиды, наверное, такие же, как и моего брата Ванечки.
Игрушки, переходящие из поколения в поколение — это здорово! Желаю вашей лошадке «дожить и пережить» счастливое детство ваших будущих внуков! :)
Еще подумала, что эти четверо — «любовь, привязанность, боль и обида» — часто и у взрослых людей идут «в комплекте». Что, в общем, печально. Созависимые отношения…
В общем, Ваш рассказ заставил поразмышлять! А это самое главное. Благодарю!
Трогать пластинки нам запрещалось, но наша квартира была как будто специально создана для того, чтобы однажды я представила себя артисткой и нарушила этот запрет. Огромный проём между большой комнатой и спальней страшно раздражал маму. Наконец она решила эту проблему, закрыв шторами из плюша, красивого бордового цвета. Шнур от утюга, были в то время такие утюги со съёмными шнурами, на время отсутствия родителей становился микрофоном. Дом у нас был большой, коммунальный, — целых 11 квартир. Не тратя времени даром, я созывала своих подружек, и мы давали встряску этим стенам. Объявляли друг друга не иначе как «народная артистка СССР». Конец нашим концертам положил папа, который появился в самый неподходящий момент. С тех пор мама так и называла меня: артистка погорелого театра.
К тумбочке я больше не подходила, но, видимо, богу было угодно, чтобы наши благородные порывы получили развитие. Времена были добрые: нашлись на нашей улице две подружки, которым пришло на ум занять детвору на время летних каникул. Обе учились в музыкальной школе. Двор у одной из них был огромный и нужной конфигурации. Там и проходили наши репетиции. Мы сами рисовали афиши, расклеивали по всему городу и в назначенный день собирали стулья по всей улице, покрывала для кулис и показывали всё, чему научились. Людей приходило много, стульев всегда не хватало, расходились наши гости счастливыми, а на следующий год приводили новых гостей, умножая число наших почитателей…
Дело, начатое этими прекрасными девочками, продолжил Дом пионеров. И уже тогда, как лучший отряд по месту жительства нас наградили грамотой и путёвкой в туристический лагерь, в Оршу, на одного из нас. Мы даже не стали выбирать, — сразу начали плакать. Потом меня озарило пойти в райком партии. Взрослые нас высмеяли, но я, как самая старшая среди всех, уже перешла в шестой класс, не стала их слушать. Чумазые, в стоптанной обуви, с ободранными коленками – мы так и отправились в большой дом на площади, на который указывал рукой сам Ленин. Подвигом для меня был каждый ответ у доски, каждый выход на сцену, но несправедливость и их слёзы сотворили чудо. Нужно было видеть лица людей, у которых я спрашивала дорогу, особенно секретарши 1-го секретаря. Но сам он оказался на высоте: выслушал и спросил, сколько нам надо путёвок… и распорядился выдать, сколько мы попросили.
Добавлю ещё, чтоб было понятно: Новый год в провинции не имел запаха мандаринов, а путёвка в лагерь – была нереальной роскошью.
А тумбочка так и осталась в той квартире, вместе с пластинками. Мама отказалась её забрать, когда переезжала в новую, которую мы с мужем для неё купили. Я так себя ругаю за то, что не настояла тогда…
Большой, железный, красный, с «шофёром» в кабине… единственная игрушка малыша в детстве.
Медвежонок был (скорее, для мамы, символом и талисманом),… Позже — всяческого вида самопальные «кораблики»,
потом — игрушечные пистолеты, селитра, карбид, взрывпакеты и поджиги, затем, вдруг (спасибо этому «вдруг»), —
телескопы и бинокли…
Читать я начал до школы — у нас была библиотека; в детском садике и пионерлагере был мало,
в карты не играл, не курил, вино попробовал в 16 лет, с девочкой впервые…
ну, это уже не по теме.
Спасибо тебе за подробный и душевный рассказ.
Я внизу добавил свой.
Будь здорова.
Я уже прочитала твой рассказ, оставила комментарий. А эти дополнения, думаю, очень важны, чтобы понять, как маленький человек вырастает в ЛИЧНОСТЬ.
Жизнь подкорректировала этот недостаток, но и сейчас иногда бунтарь просыпается.)
А про «Выступает народная артистка СССР!» мне сразу пришла в голову ассоциация с воспоминаниями Лидии Вележевой. У нее тоже было непростое и не совсем домашнее, но очень радостное при этом детство, о чем она часто в интервью рассказывает… ))). Не знаю, как Вам эта артистка, но мне она в роли Настасьи Филипповны в «Идиоте» запомнилась.
Детство у меня действительно было трудное, начиная с роли няньки, которая началась в бессознательном возрасте и закрепилась за мной на всю жизнь. Родители наши были трудоголиками, особенно папа, очень одарёнными людьми и очень несчастными. По тексту моего рассказа есть наводка: музыка звучала редко. Он ни разу, сколько их было, не пришёл на наши концерты и каждый год получал благодарности за наше воспитание…
Если вы про большую открытость людей говорите, то тут — сегодня все по-другому. Недавно смотрели фотографии времен маминого детства. Там вся семья в сборе: и из России, и с Украины, и из Белоруссии съезжались гости на семейные посиделки. А сейчас в одном городе живем, а редко видимся…
«Он ни разу, сколько их было, не пришёл на наши концерты и каждый год получал благодарности за наше воспитание». Это действительно читается между строк. Как и то, что родители были не самыми счастливыми людьми. Сочувствую и им, и Вам по этому поводу…
Что до волонтерства — здесь мне ближе позиция Чулпан Хаматовой, более зрелая, чем у Вас. Она в одном из своих интервью сказала, мол, да, конечно, в идеале нужно, чтобы государство помогало детдомам, сиротам, болеющим, старикам и т.п. Но! Неужели мы, как взрослые люди, будем сидеть сложа руки, и ждать, пока кто-то что-то сделает за нас? Почему бы не начать вместо этого что-то делать самим?
И речь в моем сообщении шла не о призывах, (которые действительно часто бывают и навязчивы, и неуместны), а о том, что у многих людей, в том числе молодых, желание помогать идет от души. И это прекрасно. Мой папа, пенсионер, постарше Вас годами, как раз сейчас оформляет пропуск, чтобы доехать в Склиф — сдать кровь. Он почетный донор. Казалось бы, ну зачем? В нынешней обстановке лучше бы поберечь себя. Да и за всю жизнь многим уже успел помочь! Но… это как осознание смысла жизни. Оно или есть, или нет.
Что касается поляков, они тоже разные, уверяю тебя, — нет идеальных наций, как нет идеальных людей. И я ещё раз убедилась в том, что все пути ведут в детство. Там причины всех наших бед и всех наших радостей. И прав был один мой однокурсник, который говорил, что обязал бы людей сдавать экзамен по педагогике и психологии на право иметь детей.
Не знала прежде я полутонов.
Всегда стремилась быть лишь чемпионом,
Запретов не боялась и оков.
Природа для меня – моя стихия.
Мне нравилось по лугу погулять:
Кузнечики там прыгали лихие,
Цветы среди травы, как благодать.
Полыни летом помню запах горький,
По осени лесов грибных кураж,
На саночках зимой катанье с горки,
Весной – ребячьих игр ажиотаж.
По-русски говорить я не умела –
В начальной школе трудно было мне.
Меня считали скромненькой, несмелой,
Но нрав сидел во мне крутой вполне.
И в средних классах я – глава отряда,
Отличница, тимуровец, артист,
Спортсменка, комсомолка – всё, что надо,
Спляшу, спою на сцене я на бис.
Уехали потом, в семидесятых,
Мы город новый строить и КамАЗ…
Я в памяти храню ту пору свято,
Что детством называется у нас.
«Всегда стремилась быть лишь чемпионом,
Запретов не боялась и оков».
— Правильно! «Целься в Луну: даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд»:).
Строки о детстве…
Смотрю на незатейливое фото:
девчонка с бантом… кукла ей под стать…
Ушли на время хлопоты-заботы.
Легко, на фото глядя, вспоминать…
Вот будто слышу:«Ирка! Где ты, Ирка?
Идём играть в войну или лапту!»
И… яркий сарафан украшен дыркой,
синяк на локте видно за версту.
Играли дружно. Ссорились так редко!
С подругой верной — не разлей вода.
Она мячи бросала очень метко.
Я попадала только иногда.
Зато когда нешуточно сражались,
и шли «бойцы» в атаку в полный рост,
все лавры мне за храбрость доставались,
за мой походный медицинский пост.
Углы двора старательно облазив,
а сумка санитарная в руке,
в них «раненых» я находила сразу
и прятала от «немцев» в тайнике…
А в дворовом театре вечерами
играли роли, выучив слова.
Как взрослые довольны были нами…
Ах, детство — жизни первая глава.
… Душа воспоминанием согрета,
качается на временных волнах.
Девчонка с бантом, где теперь ты? Где ты?
В каких осталась добрых временах…
«И… яркий сарафан украшен дыркой, \\ синяк на локте видно за версту». Такое и у меня бывало!..
«Она мячи бросала очень метко.
Я попадала только иногда».
— И эти строки Вы прямо как про меня писали!..
"… Душа воспоминанием согрета,
качается на временных волнах.
Девчонка с бантом, где теперь ты? Где ты?
В каких осталась добрых временах…"
— А тут я невольно вспомнила про семейные слайды из диафильма. У меня такие еще были — до сих пор где-то хранятся… В первом классе делали школьные фото с любимой первой учительницей, Верой Васильевной. И я там с большим бантом, едва ли не больше меня ростом))).
Такие вот тематические пересечения. Благодарю Вас!
В детстве я экстаз познал-
в том сомнения не грызли,-
в чтеньи текстов допоздна
букв слиянье дарит мысли.
Разворот похож на птиц-
если вы раскрыли книгу.
Шелест праздничный страниц
радость дарит, что подпрыгнуть.
Погружения восторг
мне открыли все рассказы:
в них геройствовать я мог,
получал там всё и сразу
Авторы, как ни крути,
мир по-новому воздвигли:
стал приятен для руки
переплёт шершавый книги.
И, хотя я и обещала не раздавать в рамках марафона замечаний, позвольте высказать Вам одно маленькое — не по литературе, а по русскому языку: «как нИ крути».
Спасибо!
И корректуру так же.
Доброй ночи.
Каждая семья, будь она маленькая или большая, имеет какие-то общие дела, интересы, привычки, которые её объединяют, сплачивают, делают более дружной, даже в мелочах.А потом вдруг, спустя даже годы, оказывается, что эти мелочи тебе дороги, что ты их хранишь и в виде предметов, и в виде воспоминаний.Причём, если предметы ты можешь вытащить, заново осмотреть или потрогать, то воспоминания бережно «перелистываешь» и опять осторожно прячешь до поры до времени, как сейчас.
Утро только начиналось, а девочка уже с волнением думала, какой будет день, вглядывалась в горизонт – не надвигаются ли тучи, которые закроют солнце, принесут с собой дожди и всё испортят. Но бабушка успокаивала внучку – нет. дождя не будет, видишь, вьюн раскрылся. И вправду, вьюнок, сплошным ковром покрывший стену и забор, раскрыл навстречу солнышку свои разноцветные граммофончики. Семья была маленькая, как сейчас сказали бы –неполная, чисто женская – две мамы, две дочки да бабушка с внучкой. Бабушка шутила – вон нас сколько, а всё равно не дотягиваем до звена Даши Шелест из фильма «Кубанские казаки», тоже певуньи, как мы с тобой.
А что бабушка с внучкой певуньи, это точно. Каждый день, как только солнышко скрывалось за акациями, тени от которых становились гуще и длинней, начинало смеркаться, бабушка спрашивала – ну, сумерничать будем? Внучка согласно кивала и тащила две маленькие скамеечки. Под огромным абрикосом на них спинами к тёплому шершавому стволу усаживались бабушка с внучкой, и начинался негромкий неспешный разговор, бабушка рассказывала о временах, когда сама была девчонкой, а внучка – кем она станет, когда вырастет. Они смотрели сквозь листву на небо, где вспыхивали одна за другой звёзды, и обнаруживали, что короткие светло серые сумерки исчезли, их окутывала тьма. Сначала она казалась жидкой, почти прозрачной, а потом становилась густой, вязкой. И звёзды на чёрном фоне из горошин превращались в большие золотые шершавые шарики, напоминающие подсвеченные шары на новогодней ёлке. Звёзды-шары свободно лежали на крышах и верхушках деревьев и тонко позванивали от дыхания ветерка, который приносил с собой аромат поля, васильков и ромашек.
Бабушка и девочка плотнее прижимались друг к другу, и это было сигналом к главному моменту вечера – возникала мелодия! Тихая-тихая, без слов. Она как бы рассказывала о прошедшем дне и намекала, обещала что-то назавтра. Голос у бабушки был глубокий, грудной, «бархатный», от него замирало сердце. Голосок девочки ещё не окрепший, но чистый, верный переплетался с бабушкиным и эта песенная пряжа распускалась всё шире и летела к звёздам.
А вокруг стояла удивительная тишина, не слышно было ни лая собак, ни криков ночной птицы, ни стрекотания сверчков. Обе любили русские песни, особенно «Летят утки»,«Позарастали стёжки-дорожки»,«За окном черёмуха колышется», да много песен знали. Иногда вдруг из соседнего двора раздавался чей-нибудь голос с просьбой спеть ещё какую-то, бабушка усмехалась — по заказу, но спев две-три, замолкали, прислушиваясь к сонной тишине, и тогда бабушка начинала петь «Вечернюю», так её называла девочка.
Эту песню бабушка всегда пела одна, как и сегодня. Голос звучал тепло и проникновенно, иногда как бы вздрагивал, и в такие моменты на руку девочки, обнимавшую бабушку, капала капля, горячая-горячая. Девочка удивлённо поднимала лицо к небу, но оно было звёздным, без туч. Допев, бабушка говорила, вздохнув: ну, вот и проводили вечер, встретили ночь. И пока шли к дому, уже не пела, тихо шептала:
Слети к нам, тихий вечер, на мирные поля.
Тебе поём мы песню, вечерняя заря.
Темнеет уж в долине, и ночи близок час.
На маковке берёзы последний луч угас
Как тихо всюду стало, как воздух охладел,
И в сонной роще громко уж соловей запел.
И вечер слетал, тихий. тёплый, ласковый. А за ним наступала такая же ночь, дарящая отдых и сладкий, упоительный сон после бабушкиной песни-молитвы.
Девочке казалось, что это особая молитва, «Вечерняя» И только став уже взрослой, узнала, что автор удивительных, памятных с детства слов, Л. Модзалевский. А об авторе музыки споры ведутся до сих пор – А. Черткова и Н, Черепнин, А.Тома или Цезарь Кюи. Даже поминается имя Модеста Петровича Мусоргского… Пел Иван Семёнович Козловский. Но бабушкина «Вечерняя» до сих в моём сердце живёт и согревает его.
В Болгарию — это круто! В детстве, помню, мы впятером туда влезали!))
Я не помню детской игрушки
Той, с которой ложилась спать,
Говорила бы ей на ушко:
«Завтра будем играть опять!»
Да, наверное, были куклы,
Лоскутки, разноцветный мяч,
Пупсик был — голышонок пухлый,
И юла, что носилась вскачь.
Только главное — помню фото.
Я носила его с собой,
Завернувши в листок блокнота.
Мама там была молодой.
В завитушках. Её причёску
Растрепал ветерок слегка,
А морщинка — одна бороздка
Затуманилась у виска.
Как она на меня глядела!
Добрый, нежный, чуть грустный взгляд.
Будто что-то хотела сделать,
Все обиды мои забрать,
Защитить и закрыть собою…
Прижимала лицо к губам,
Тихо гладя его рукою,
Я шептала: " Мне плохо, мам!
Без тебя мне совсем так плохо!"
Вторил мне ночью тёмный сад.
Помню слёзы роняла кроха — Это я много лет назад.
А вот эти строки, про маму, сохраню себе на память:
«Как она на меня глядела!
Добрый, нежный, чуть грустный взгляд.
Будто что-то хотела сделать,
Все обиды мои забрать,
Защитить и закрыть собою…
Прижимала лицо к губам,
Тихо гладя его рукою,
Я шептала: » Мне плохо, мам!.."
Как же хочется иногда согреться у маминого плеча, и как хочется защитить своего ребенка от всех напастей мира!..
А еще Ваше стихотворение заставило меня вспомнить старый хороший фильм «Дочки-матери» с Тамарой Макаровой, Иннокентием Смоктуновским, Сергеем Герасимовым в главных ролях… Вот, может, и Вы захотите пересмотреть его и поностальгировать со мной вместе!.. )))
Наступил вечер. Часы мерно отсчитывали секунды- тик-так, тик-так, тик-так, иногда совпадая с ударами сердца. И вот уже часовая стрелка встала на цифре шесть, минутная её догнала. Шесть часов тридцать минут и в очередной раз подкралась беспричинная тревога. Я смотрю на часы с рассеянной надеждой, так же, как это делал в детстве. Именно в это время возвращался с работы отец- человек пунктуальный. В то застойное время, когда пели песню: «Будет людям счастье! Будет на века...» транспорт не всегда ходил регулярно и был временной люфт- пятнадцать минут. И если по истечении этого времени папа не приходил, то, гораздо позже, в наш дом врывался… зверь. Он шумно открывал входную дверь своим ключом, резко распахивал ту и уже войдя, громко хлопал ей за собой. Чистоплотный, но сильно пахнущий табаком и перегаром, с красными злыми глазами, со скривленным ртом, из которого сыпались нечеловеческие мерзости мата, сопровождаемые брызгами слюны. Злоба и ненависть заполняли это двуногое существо, которое было похоже на отца, но не отец. Ибо не может называться отцом тот, кто вместо защиты и заботы представлял опасность своей жене и детям. Аккуратно ставил на место свою обувь, вешал куртку и затем орудуя мощными кулаками рабочего выливал свою ярость на все, что попадалось под руку. Доставалось и мне, а в особо жестокие вечера вместе с мамой и старшим братом приходилось убегать из дома. Но если не убегали, то забивался в угол большой комнаты, где скулил, словно несчастный щенок. Я не чувствовал за собой вины и от этого становилось больней и обидней. А на камоде сидела мягкая игрушка: короткошерстный медведь черного цвета и не видел моих бедствий- у него были вырваны пластиковые глаза. Я никогда не брал его на руки, поскольку очень рано понял, что ни один предмет в мире- амулеты, мольбы, слёзы, игрушки в детских ручках,- не способны защитить жертву от насилия. Кроме оружия, но у меня его не было.
За что он бил меня, своего ребёнка? За то, что я был сыном своей матери- той женщины, которую он не любил.
Однажды я сказал ему, что он когда-нибудь умрёт от рака. Мне хотелось напугать его, чтобы он изменился, да и курить бросил. Он только усмехнулся и всё продолжалось по-прежнему. Мои слова оказались пророческими. Этот диагноз: рак лёгкого прозвучал в обычной городской больнице, куда он попал с жалобами на боли сердце. Умирал с сознанием того, что умирает- минута за минутой, час за часом, день за днём. Как будто сама природа мстила за те ненависть и разрушение, которые он принёс в этот мир, отбирая у него силы, соки и способность дышать. И ничего не осталось от зверя, а человек умер. И мы приходим с мамой на могилу к отцу — как и положено поступать людям по природе своей. Мне же из детства достались нелюбовь к точному времени и короткие моменты, уже беспричинной, тревоги.
Но Вы не одиноки, Маркус…
Винить уже некого и да незачем.
Дорогая Елена открыла тему с психотерапевтическим уклоном- вот и захотел… подлечиться.;) Решил поступить радикально, подобно хирургам: «где гной- там разрез». А то эта червоточина может привести к состоянию души, словно у Виктора Улина. И в столь доброжелательной обстановке раны заживают быстрее. Спасибо Вам, уважаемые целительницы человеческих душ!
Просто захотелось сделать дополнение, что это не просто голая правда, которой полным-полно в новостных сводках, это еще и художественная правда, что в контексте нашего марафона особенно важно. Настоящий художественный текст: по идее, по композиции, по закономерно скупым художественным средствам, по названию, наконец… Спасибо Вам! Я слезу пустила, честное слово… Сильно написано.
Отойдя от темы моего эссе могу констатировать:
Золотой возраст у Вашего ребенка- всё интересно!)
Есть любопытная книга по психологическим нюансам детского возраста- «На стороне ребёнка» Француазы Дольто.
С уважением.
О, почитаю обязательно, спасибо Вам за рекомендацию!
По поводу мадам Дольто- она ближе к реальной жизни. В отличие от приведенного Винникотта с его умопомрачительным перлом:
«Я бы предпочел использовать слово «фетишистский» для описания объекта, который присутствует в случае мании, связанной с материнским фаллосом. ...»
С уважением.
Философы, путём длительных рассуждений установили, что опыт- это источник надёжных знаний. И вдруг Винникотт утверждает:
«Переходные объекты и переходные явления относятся к области иллюзии, которая стоит у истоков опыта.»
Не говоря уже о том утверждении, что хорошей матерью для ребенка является тот «субъект», который удовлетворяет его потребности (т.е. готовит человека для «общества потребления» и звучит, как явная пропаганда).
Я уже не говорю о том, что либидо и фаллос вставляют куда только… нельзя. К примеру- в раннее детство. Но такой учёный- сексолог, как Альфред Кинси, благодаря своим исследованиям доказал, что формирование сексуальных воззрений начинается только с 6 лет. И длится этот асексуальный период до 12-13 лет. Именно в этот период формируются психо-сексуальный диморфизм и матрица сексуальности из эротических впечатлений. И все эти оральные и анальные фазы развития ребенка сквозят изрядной долей педофилии.
Не даром В.В.Набоков, измученный пристальным вниманием со стороны психоаналитиков к своему творчеству, писал, что психоанализ- это европейский шаманизм. И думаю, что он был недалёк от истины. Имхо: психоаналитические воззрения сродни религиозным- они основаны на единичных, статистически недостоверных случаях.
Дольто, в данном контексте, разительно отличается от всех прочих авторов, взрощенных на этой ниве. Она не пытается найти во всём сексуальные символы и маркеры. Её методика прозаична- наблюдая за игрой ребенка можно выявить психо- травмирующие ситуации и понять причины его внутреннего дискомфорта и социальной дезадаптации. И всё. Т.е. игрушки уже утратили свой изначальный- сакральный смысл. И служат прикладной задаче- развитию навыков ребенка. Взрослые, конечно, уже могут пофантазировать по поводу своих игрушек из детства.)
Я это к тому, что дети входят в мир человеческих иллюзий благодаря именно «переходным объектам и переходным явлениям». И каковы будут эти переходные объекты, таков и будет иллюзорный мир каждого конкретного человека. Вот к примеру тебя (ничего, что перешел на ТЫ?) в детстве бил отец, а Виктора Улина третировала мать, и вы вошли во взрослый мир через эти свои переходные объекты. А потому в ваших субъективных мирах неотделимой составной частью присутствует насилие. И вы до своего последнего вдоха будете смотреть на мир через призму насилия. Но это — исключительно ваша ИЛЛЮЗИЯ. Поскольку, на пример, у меня таковой иллюзии нет, меня, к счастью никогда отец не бил, и наоборот у меня было несказанно счастливое детство. И у меня переходные объекты и явления в подавляющей массе своей счастливые. Но это тоже иллюзия, в которой я живу. Скажем у Виктора несчастливая иллюзия, а у меня счастливая… И говорить о том, у кого она «реальнее» или, наоборот иллюзорнее — бессмысленно. Точно так же нельзя говорить кто из нас счастлив или несчастлив во взрослых иллюзиях. Виктор вполне бывает счастлив в своем тотальном несчастье, и даже бравирует этим. А я, наоборот, бываю несчастлив в своем счастье. Просто для него норма — несчастье, а для меня — счастье. Но эту норму в личности закладывают именно «переходные объекты и явления».
И что-то не припомню, чтоб я Вас называла глупым, не нужно вешать на меня свои проблемы.
И ещё, Георгий, уж не надо, думаю, так стараться опорочить моё имя, не красит это Вас, ой, не красит!
«Кстати, а вот Вы опять (тоже, наверное, в тысячный раз) нарушаете правила Клуба — переходите на личность. Если у Вас есть сказать что-либо по существу — скажите по существу». Мы здесь чтобы каждый попробовал разобраться в своих взглядах и представлениях, а не для того, чтобы чьи-то чужие взгляды подвергнуть критике. Для кого-то сплошная глупость и весь этот марафон. Мол, чем люди взрослые заняты? Ну, и ОК, пусть так.
А ругаться с Вами, повторяю, не буду никогда.
Но я совершенно не собираюсь отвлекать вас от доморощенных построений- каждый формирует свою картину мира. И если вам психоанализ нравится, то… о вкусах спорить не собираюсь.
А к психоанализу я отношусь как к некому культурному явлению. Но ни в теории, ни в практике им не руководствуюсь. Для меня авторитет — Павлов.
Знание о предмете может храниться где угодно- на любом информационном носителе. Что так же подтверждает реальность существования этих предметов. В голове хранятся субъективные впечатления о предмете.
Многие травмированные этого не хотят: им вполне комфортно живется с этими травмами.
Если бы люди ни пытались себя излечивать от детских травм, то не было бы той же Опры Уинфри!.. Не только как известнейшей телеведущей, но и, может, просто как живого человека:
www.cosmo.ru/stars/krupnim-planom/opra-uinfri-tragicheskaya-i-neveroyatnaya-istoriya-glavnoy-zhenshchiny-ameriki/.
Георгий, это не лично для Вас ссылка — просто для всех желающих ознакомиться, или вспомнить об ее очень драматичной истории жизни, полной трагедий и насилия.
Насчет сексуальных символов и маркеров — да, у психоаналитиков по этой части перебор. Но я в своем материале постаралась этого избегать. Она вообще не об этом.
Спасибо, что высказали свое мнение. С Дольто обязательно ознакомлюсь! С игротерапией некоторым образом знакома. С песочной терапией. Там тоже как раз про поиск травмирующих ситуаций по «картинке» ребенка.
«Взрослые, конечно, уже могут пофантазировать по поводу своих игрушек из детства». Ну, слава богу! Тем и заняты (в частности).
И тогда всё в мире ложно и нет никаких основ для существования человечества, то есть нас не должно быть. Но человечество существует и до пандемии неплохо себя чувствовало.
Т.е. полученное знание объективно помогает выживать в непростых условиях и сама жизнь опровергает подобную установку.
Что касается психоанализа- оказывается эта школа в СССР существовала до 30-х. Называлось это направление педология и практиковалось в школах и детских садах для руководителей того государства. А потом Сталин его ликвидировал- даже анекдот по данному поводу знаю.)
Но мой посыл в том: если хочешь максимально приблизиться к пониманию объективного знания, то обязательно сделай поправку на субъективность высказывающего (или руководствующего) это знание. А самый верный (объективно точный) индикатор субъективности высказывающего — это его переходные объекты и явления. Ну если не хочешь остаться в дураках, принимаю чужую иллюзию за «правду жизни».
Но я позволю себе устраниться от дальнейшего обсуждения, ибо мы используем разные варианты суждений. Я научное и философское, вы- образное (чувственное) и художественное. С учётом того, что эти подходы не имеют общей стандартизации, то любое обсуждение неминуемо скатится в пустую болтовню без каких-либо выводов. И потому- каждый остаётся при своём.)
Кстати, метамодерн призывает людей условно разбрестись по разным квартирам и кучковаться по сходству именно рефлекторного (инстинктивного) реагирования на окружающую среду, то бишь на совокупность раздражителей. А еще точнее — искать себе подобных по принципу реагирования. А это возможно только при совпадении переходных предметов и явлений. То есть — лучше меньше круг общения, но роднее...:)
Маркус, ну так и литературу (искусство) и вовсе никто наукой не считает. Ну так и религию тоже никто наукой не считает. А тем более суеверия (заговоры, шаманство) тем более никто наукой не считает. Но они же существуют наряду с наукой. Если вы сводите жизнь человеческую исключительно к науке, то лично я не хотел бы жить в таком мире. Это еще хуже ГУЛАГа и фашистских концлагерей: шаг вправо и шаг влево от научного знания — расстрел))) А людей не способных к восприячтию научных знаний (а таковых вообще огромнейшее количество) и вовсе придется расстреливать, не давая им выходить из дома.)))
Методология есть, это факт. И научные школы тоже. Но большинство литературоведческих «открытий» остаются «внутри» уже написанного кем-то текста, и в этом я вижу большое отличие от тех же естественнонаучных направлений. Что и вызывает вопросы о том, наука ли литературоведение.
К лингвистике у меня тоже вопросов хватает, кстати.
Вообще сегодня многие делают упор на междисциплинарных направлениях исследований. Они и мне лично кажутся более актуальными. Но свои проблемы и здесь есть, разумеется…
И потом, наши знания всегда конечны: сегодня «знаем» одно, завтра другое… поэтому здесь тоже такая не вполне устойчивая конструкция получается.
А в СССР чего только не практиковалось!.. Как-то раз писала статью по тайм-менеджменту, так оказалось, что и он — изобретение «советских ученых». Кстати, есть забавная книга Даниила Гранина в эту тему: psychosearch.ru/practice/prakticheskaya-psikhologiya/380-daniil-granin-o-tajm-menedzhment-a-a-lyubishcheva-v-knige-eta-strannaya-zhizn. :)
А вообще по большому счету вся мировая литература наполнена именно носителями знаний. Сами по себе знания (особенно «чистое знание») не являются предметом литературы по определению. Точно так же как и Религии не являются предметом науки.
Интересная инверсия- «творческий опыт». Спасибо, что озвучили- оказывается данной темой кибернетика занимается. И за творчество, как нелинейный процесс, активно взялась. Посмотрим, какие будут выводы. Смотришь и машины начнут творчеством заниматься, как в одном фантастическом рассказе (к сожалению, название не помню) компьютеры стали создавать… литературу.
«Но я думаю, сама психика человека — тоже особый мир, со своими «законами».» Этим успешно занимаются психология и психиатрия.
«И потом, наши знания всегда конечны: сегодня «знаем» одно, завтра другое…»
Я бы сказал- ограничены. И это прекрасно- ещё не дошли до границ совершенства, развиваемся.
И ещё, подумалось: раньше и в синхронные переводы «роботов» никто не верил. А сегодня google-переводчик стал уже почти сопоставим с человеческим. А начиналось все с таких «перлов»!.. Помню до сих пор: сидели лет 16 назад на паре, смеялись с приятелем над супер-переводом словосочетания Good Friday. Электронный переводчик перевел это как «Праздник Хорошо в пятницу!»
Жаль только, что такие рассказы горе-отцы как раз и не читают.
Мне было пять лет. Уже не маленькая, но ещё далеко до взрослой. Самые первые игрушки не оставили следа в памяти. А вот эта кукла, которую привезла мне крёстная из Москвы, сыграла в моей детской жизни свою роль. Кукла была в большой коробке. Голубоглазая белокурая красавица покорила моё детское сердце с первого взгляда. На ней была клетчатая юбочка, шёлковая кофточка и атласный жилет. На голове – берет с помпоном…
Счастью моему не было границ. Я назвала её Алина. С ней спала, ела и гуляла весь день. На следующий день я показала её подругам. Мы играли у нас на крыльце. У каждого был «свой дом» и свои игрушки. Только Рая, которая была старше нас на два года, была без игрушки. Но ей тоже хотелось играть, и она, покорённая красотой моей любимицы, взяла её сначала посмотреть, а потом просто заигралась и совсем забыла про меня. Я робко просила отдать куклу. Рая была у нас типа вожатой, и забрать сразу, вероятно, не приходило мне в голову. Но всё-таки я осмелилась и забрала. Это была с моей стороны неслыханная дерзость. И Рая прореагировала незамедлительно. Она приказала всем со мной не играть. Мне объявили бойкот.
Впервые в жизни у меня возникла такая ситуация. Я помню, что мне было обидно до слёз. Но я делала вид, что не обращаю внимания на их игры. У меня был знакомый по детскому саду мальчик, с которым мы дружили. Его звали Гена. Когда мне становилось скучно, я через всё поле на виду своих уличных подруг шла к нему. Мама сшила мне новую красную кофточку, и это не осталось незамеченным. Рая придумала мне «обзывалку» — «зипунок». И вот я «в зипунке», с бантом на хвостике, со своей Алиной иду через поле. А мне вдогонку кричат: «Зипунок! Зипунок!» Ноги хотят скорее пробежать этот промежуток, но я иду тем же шагом, не оборачиваясь и никак не реагируя. Не знаю, как долго это продолжалось. Помню, что сама я не подходила к детям, не просилась в игры. Но, наверное, впервые думала о конфликте, о поведении друзей и своём. И, как сейчас я уже понимаю, впервые проявилось чувство собственного достоинства и характера. Я ведь не была виноватой. А значит, надо ждать, когда дети сами это поймут.
А закончилась эта история так. Был тёплый летний дождь, который называют «цыганским». Он идёт в солнечных лучах. А после него на лугу оставались такие замечательные лужицы, что нельзя было удержаться, чтобы по ним не побегать. И я выскочила на поле и поскакала по тёплым лужам, брызгаясь и шлёпая босыми ногами. Мои товарищи присоединились ко мне, и мы долго плясали, играли в салки — со смехом и радостью от удовольствия и от того, что снова вместе. Мы не сказали друг другу ни слова, но с этого момента я стала заводилой в нашей компании. Так история с куклой помогла мне повзрослеть.
А Ваш характер, Надежда, действительно ковался в ту пору, потому Вы и запомнили эту историю в таких ярких красках.
По бухте, ссыльному закутку бывшей гавани Свободы, в мазутных водах которой растворяются хрустальной чистоты речки багульничьих сопок, – боны, такие плоты из лиственницы, скрепленные скобами в колышущийся и хлюпающий волной тротуар. На осклизлом бревне порезана в наживку мелкая рыбёшка, и вот она, за плечом у горделивого удачей рыбака – связка окуней и бычков…
Во дворе, в широких штанах и майках, значимо выпившие, заскорузлые статьями, но статные мужики играют в волейбол, среди них – бывший хуторянин, немногословный крепыш, шоферюга, – мой папка, даже теперь, через годы, пахнущий на охряных снимках портвейном и бензином…. Он жив, он приносит нам с сестрёнкой пряники и леденцы в газетных кульках… и мы верим его «это вам лисичка передала», хотя мне представляется, что лисицы не читают газет и только потому это выдумки.
В таинственном и страшном лесе, проросшем тут и там молодняком чрез замшелые валуны и безымянные кресты, полном беглых и автоматчиков, а также рыжиков, подберёзовиков и маслят, слышен отовсюду его родной голос, мы перекликаемся, чтобы не потеряться, но всё-таки однажды теряем друг друга – навсегда, хотя я всё ещё слышу его – эхом, из тех самых краёв, где много лет не был.…
В большом и уютном доме матери, где всё прониклось ожиданием путешественника во Времени, по-прежнему цветёт сад – пальмы и монстеры в кадках, в котором летают велеречивые канарейки и крадутся молчаливые кошки… В залитой солнцем комнате детства и юности – с гарнизонной кроватью и плакатными портретами кинозвёзд на выбеленных стенах, живёт мой маленький зелёный медвежонок. Он плюшевый, может немногое – ждать и разговаривать. Мама берёт его на руки, подносит к окну и он, иллюзорно надеющийся, плачется ей в платочек, поглядывая в сторону близкой станции…
Вот он, милый дом наш, на холме, – близнец среди прочих, чеканно врезанных в улицы маршевой поэтикой советской архитектуры; серый дождями и туманами, приморский городок без деления на дворы и районы – в нём всем возможным ветрам отданы закрытые пространства: от порта и моря – до тайги и зоны…
Зарубки на парте («Наташа + Х»), на двери (годичный вырост, от 80 до 180), на утёсе («Коля + море»), на памяти… В ней, моей шагреневой памяти, я всё ещё живу тут, в гранитных берегах, – в какие-то совершенные и не заканчивающиеся годы, – бегаю в прибрежных скалах среди багульника и брусники, купаюсь в штормовых бухточках и шустрых речках, учусь и влюбляюсь; и не тому ли, мне, убогому творцу, помечавшему череду свершений клинописью на древе жизни, кажется, – нет той беспечной бескрайности прочнее?
Прошлое… мерило всему, отсчёт и возврат. Оно изначально и навеки во мне, как бы не исчислялись годы; оно – оазис во Времени, и пусть даже миражом в действительности, но если действительное – ничто, то оно – Настоящее.…
Как бонами по бухте, иду по спирали Вечности и не важно – вверх или вниз; звёзды отображаются в зрачках улова, по дороге ждёт знакомая лисичка с подарками, а у дома встречают те, кто любил меня, и золотой песок до самого неба.
Да, Коля, это не просто воспоминания, это ТВОРЕНИЕ. Спасибо за откровенность.
Там, выше, я тебе ответил тоже.
Под «и пою, и танцую».
Наново выделывать душою — позже, ладно? И — спроста таки…
Рад тебе. Привет от медвежонка — лисичке…
Спасибо за передачу… мыслей на расстоянии.
))
там, внизу самом, ещё есть думание…
Я тоже тебе рада!)))
Про мишку отличная фраза, и соответствует детскому восприятию. Если спросить малыша, что умеет его игрушка, он примерно так и ответит: «Он плюшевый, может немногое – ждать и разговаривать»:).
Рад прочтению такому.
У этого ёлочного деда мороза сохранилась этикетка – 1959 год. Ему 61 год стукнет в этом году – настоящий дед. Он ровесник моей сестрёнки – она тоже с 1959 года. Он из папье-маше. Размер обычного деда мороза, которого ставят под ёлку. В ярком оранжевом кафтане, отороченном белым «мехом», в красной шапке со снежинкой, в белых валенках, с подарками. Качества очень хорошего. Лет 30 он «жил» в родительском доме, потом переехал к нам, а мы сменили шесть мест проживания. Тем не менее дедушка прекрасно сохранился – как новенький. Служит нам до сих пор и замены себе не требует. Ставлю его под ёлку и вспоминаю наши семейные праздники в новом, недавно отстроенном доме. Ёлка всегда была огромная. Папа из лесничества привозил для Дворца культуры ёлку и для нас тоже выбирал красавицу с шишками. Открывается дверь, и вместе с морозным воздухом, холодком плывёт в зал эта лесная красавица. Радостей у нас, послевоенных детей, было не так уж много. Среди них ёлка и всё, что с ней было связано, – самое яркое и радостное. Наряжаем всей семьёй, обсуждаем, куда что повесить. Стеклянные бусы, картонные флажки, грибы, шишки из папье-маше. А какие причудливые были фигурки: волк и медведь (почему-то) с гармошкой, царевна-лебедь, падчерица из сказки «Морозко», пучеглазый филин. А какие разные стеклянные шары: и однотонные, и с рисунками. Много старых игрушек мы сохранили и до сих пор вешаем на ёлку вместе с новыми. Вспоминаются подарки тех детских лет. Мама в наволочку собирала разные конфеты к празднику и прятала их. А я, сластёна, всё время их находила и потихоньку оттуда брала. Было и стыдно, конечно, но очень хотелось. Мама никогда не ругала, даже вида не показывала, что замечает, как убавляются конфеты в наволочке. Во Дворце культуры, в школе, в больнице, где работала мама, новогодние гостинцы были почти одинаковые. В плотном пакете из грубой серой бумаги, где зелёными буквами было написано «С Новым годом», лежали: яблоко сорта пипин, мандарин, печенье, конфеты «Буреветник», «Ласточка», «Весна», «Чио-чио-сан», «Осенний сад», батончики (не помню названия, а на рисунке Емеля из сказки «По щучьему велению»), ириски «Золотой ключик», «Кис-кис», «Ледокол», «Тянучка», карамель «Барбарис», «Взлётные», «Яблочные», «Лимонные». Мне до сих пор кажется, что от этого деда мороза пахнет хвоей, родным домом, детством.
«Мама никогда не ругала, даже вида не показывала, что замечает, как убавляются конфеты в наволочке». А вот здесь у меня, к сожалению, было наоборот. Как-то раз досталось от мамы по первое число по поводу даже не съеденных, а апробированных мною конфет к какому-то празднику!..
чтобы понять всю сложность внешних катаклизмов мрака дня сегодняшнего… Что же, верный и своевременный посыл!
Но… ежели герои мои (вместе с их автором) давно уже там, в шири безмятежного прошлого, прозорливо опередив
даже и будущее?
К тому идёт: человек (пока ещё человек!), спрятав себя (волею либо по принуждению обстоятельств) в катакомбах личности,
ныне принужденный бояться друга, соседа, собаку… даже к собственной маске относиться с презрительным недоверием…
будет ли прежним?
Всё смешалось в нашем Доме? нет, не смешалось, но сместилось, сдвинулось… и давно уж; куда? навсегда ли?
И как хорошо, что есть ещё на свете добро и люди добра — родные, друзья, соседи, и собаки их,
и тексты наши тоже есть, и хорошо, если в них буквы без масок, и добры к нам, и собою не отвратительны.
Спасибо всем.
Возможно, Вы говорите таки не про прозаические аптечные маски, а про нечто защитное в лицах и душах,
что с каждым годом, а теперь и с каждым мигом всё изощрённей закрывает нас от нас же…
Тексты, говорите… в откровенности нагой люд нынче пойдёт в глубины досель нетронутые совестью,
бесовски бестактные, и вперебой выставляемы будут донья илистые и муть поднимется до небес…
«Ничто не вечно под луной»… вот разве что спасает, «пройдёт и это», да станется ли, как прежде?
Вычитывать про Прошлое других — чувствуя при сём понимание, открывшуюся искренность и правду.
В той схожести и схождение наслаждения…
Рад общению.
Вроде успела...)) Хотелось вспомнить что-нибудь повеселей…
Старое озеро
Старое озеро… Запахи трав…
Ветер здесь шепчет слегка подустав…
Но не сидится в тиши детворе,
Смех раздаётся в той давней поре…
На берегу небольшой костерок…
Хлеба на нём уж нажарено впрок,
Хватит на всех, поскорей подходи…
Солнечный тёплый денёк впереди…
Ладит весь день меж собой ребятня,
Плещется в озере, с ними и я…
Ловят гальянов мальчишки гуртом * *
И угощают девчонок потом,
Сжарив рыбёшку на жарком костре.
Вкусное «блюдо» запомнилось мне…
Дальше — купанье, «не выгнать метлой», *
Вечером лишь доберёмся домой…
В воспоминаниях тихо пройдусь,
Детству ушедшему вновь улыбнусь…
Где-то послышится смех детворы,
Словно привет из далёкой поры…
* «Не выгнать метлой» — не заставить пойти.
* Голья; ны — род мелких рыб, размером не более 20 сантиметров (озёрный — до 15 см)
* Гуртом гурто; м, нареч. в значении — всем вместе
На фото — озеро...)
Я бегал, как дворовый мальчик.
Но вместо Жучки – пес Каштан.
Язык шершавый по щекам
моим елозил, а я пальчик
в собачью пасть совал, смеясь.
И скрежетал зубами князь
тьмы оттого, что был я счастлив,
что пес Каштан меня увел
туда, где дух игрою цвел,
и сотворил Сам Бог там ясли,
как филиал былого рая.
И я, с Каштаном, псом, играя,
жил в Богом созданном раю.
И до сих пор я благость пью
из детства, что любви источник…
Мой Пушкин сердцем ведал точно:
коль детство Словом проросло
во взрослый мир, быть вдохновенью
владычицей стихии слов…
Игра – как жизнью упоенье!
И счастлив тот, кто от рожденья
играть в яслях у Бога мог,
и в пушкинском стихотворенье
изысканный зреть Бога Слог.
Эссе про переходные объекты — тоже отличная идея. Если вдруг напишете постфактум, то добавьте в эту беседу текст или ссылку на него, пожалуйста! Думаю, многим будет интересно почитать.
Я могла бы вспомнить много историй о своем детстве: веселых и не очень. О том, как мама читала мне перед сном детские и взрослые книги, и заснуть до окончания очередной главы меня могла заставить только высокая температура. О том, как папа рассказывал мне сказки и, уставший после работы, сонно примешивал к ним свои будничные дела и личные вкусы, так что Иванушка-дурачок у него время от времени вступал в разногласия с начальством, а Соловей-разбойник внезапно запевал русский шансон. О том, как я любила смотреть книги с картинками, особенно – альбомы репродукций Ренуара и Моне. При своих нынешних, более чем скромных художественных познаниях, я и сегодня в любой галерее узнаю некоторые такие «картинки», оказавшиеся по факту большими Картинами. О том, как я любила гостить у бабушки, в уютной квартире которой всегда пахло духами «Красная Москва» и еще чем-то съестным, вкусным, томящемся в духовке: то ароматным рагу, то кулебяками с треской, то пирожками с мясом. О воскресных прогулках в парке и о семейных обедах, в которых было больше пользы (и существенно больше зеленого салата), чем вкуса. О том, как мама иногда целыми неделями молчала. И о том, как часто, несмотря на то, что семья у нас была полная, хотя и небольшая, я чувствовала себя обиженной и непонятой, а еще чаще – одинокой.
Но сегодня я хочу вспомнить о другом. О тех двух образах, которые запали мне в душу еще в детстве и с тех пор остаются для меня особенно значимыми. Это моя первая встреча с морем и освещенные вечерами окна домов.
Море, которое я впервые увидела в Болгарии, на Золотых песках, было умопомрачительной роскошью. Еще до того, как я посмотрела на него своими глазами, я долго гадала, сопоставляя чужие описания, как это, когда «без конца – без края», «как огромная река, и даже больше», «как выпуклое синее блюдце»? И, увидев его впервые, я была не просто рада или восхищена – меня поглотила эта совсем даже не синяя, а какая-то серо-бирюзовая вода, заворожил мерный ритм покачивающихся волн и стихийная сила, заключенная в них. Может быть, поэтому я особенно четко запомнила все, что с морем было так или иначе связано: длинную бетонную лестницу, по которой мы спускались к набережной; пестрого попугая из прибрежного кафе, с которым меня как-то сфотографировали; цветы в кадках и блинчики с сахарной пудрой, которые продавали в местных киосках.
Море не оканчивалось на пляже, где я готова была проводить по полсуток. Оно «продолжалось» на балконе гостиницы, откуда его было видно во всем его гордом великолепии. Оно прилетало к нам вместе с чайками, которые ели хлеб и фрукты прямо с рук, не боясь. Море шумело у меня в ушах по ночам, пока я ворочалась в кровати и никак не могла уснуть, продолжая покачиваться на воображаемых волнах…
Когда мы вернулись с отдыха домой, я пару недель пребывала в состоянии перманентной тоски. Помню, как лежала в маленькой жаркой ванне, которая была совершенно не похожа на прохладное огромное море, и мне было невероятно грустно от этого несоответствия, и хотелось назад: к песчаному берегу, к соленой воде. И сегодня я почти так же зачарована морской стихией. Это из детства… Тогда мы крайне редко ездили не то что за границу, но даже за город, поездка в Болгарию осталась единственной нашей общесемейной морской «вылазкой», поэтому, наверное, море воспринималось и продолжает восприниматься мною как редкий и особенно ценный подарок.
Второе мое воспоминание связано с окнами домов. В детстве, когда мы куда-то ехали на машине или на поезде, я частенько завороженно смотрела не на окружающие пейзажи, а на дома и на окна домов. Особенно любопытно было наблюдать за ними по вечерам, при зажженном свете. Спрашивала саму себя, кто там живет, какие люди, чем они отличаются от меня… Счастливее они или несчастнее? Какая у них работа, какая семья? Так я гадала и придумывала подчас целые «сериалы» про жителей всего единожды увиденных многоэтажек. Много лет спустя я посмотрела «Декалог» Кесьлевского, и поняла, что была не одинока в своем любопытстве к чужому обыденному миру. Режиссер сделал героями своего философского многосерийного фильма жителей одного дома, а окна этого дома стали сквозным образом всей кинокартины.
Спасибо, Елена, Ваши воспоминания очень красивы и близки моему сердцу, как и многие воспоминания, которые написаны другими нашими авторами…
Спасибо всем!
Про море я тогда ещё и знать не знала, но мама однажды взяла нас с братом на озеро. Чёрное – так оно называлось, на торфяных разработках, и вода в нём была будто подогрета и даже имела цвет чайного напитка. Находилось оно в черте города и, видимо, так меня потрясло, что я не стала дожидаться маму, которая развела большую стирку у колодца, и отправилась туда сама, вместе со своим братом. Я шагала по пыльной улице, держа его за руку, а он ещё не умел ходить, полз за мной следом. Наш дом стоял на перекрёстке, но, не обнаружив нас дома, мама верно угадала наш маршрут и догнала, когда мы свернули за поворот и достигли оживлённой улицы. Всю жизнь, до самой своей смерти, она рассказывала мне эту историю возмущённым голосом, как пример моего ужасного характера, но только в пятьдесят лет я осмелилась ей сказать, что никакой он не ужасный, и этот пример – свидетельство того, что в свои неполных два года я не бросила своего брата одного, а взяла с собой в это радостное путешествие на наше море, которое так и не состоялось. Настоящее море я увидела только в 37 лет, так мы с мужем отметили 17-ую годовщину со дня свадьбы. Наверное, это случилось бы раньше, ещё в багополучные 80-ые, но мы с ним были так воспитаны, что не привыкли тратить деньги на глупости и отложили эту поездку на 2000-ый год. Вернее, жизнь отложила и, слава богу, что позволила. Это было лучшее, что с нами случилось на тот момент. Никогда не забуду свои ощущения какого-то детского восторга, когда, едва открыв глаза, я бежала на балкон и могла часами любоваться красотой моря, слушать его взволнованный шёпот. По вечерам, нагулявшись по улочкам Лимассола, мы с мужем усаживались в кресла и за бокалом кипрского вина делились впечатлениями и наслаждались этими волшебными звуками. И только одно омрачало моё счастье: моя мама никогда не видела моря и уже не хотела, мой отец уже умер, так и не увидев его, моя подруга не могла себе этого позволить. Начав с них, я хотела, чтоб все люди обязательно побывали на море, чтоб не откладывали с этим знакомством, которое обязательно заканчивается любовью, любовью на всю жизнь, иначе бывает только с людьми без сердца. Как знать, может быть, всё было бы по-другому, если бы мои родители не жили ожиданием чёрного дня, а устроили себе праздник. С этими чувствами я писала своё стихотворение «Простуженный город», посвящая его людям, которые никогда не видели моря, и маленьким городам, в том числе и тому, что дал мне жизнь, познакомил с мужем, подарил друзей. Я многим обязана ему, но очень жаль, и самыми глубокими рубцами на сердце. Такими глубокими, что ещё в детстве пыталась заглянуть в чужие окна и угадать, есть ли за этими молчаливыми, задрапированными густым тюлем и плотными портьерами, люди, которые счастливы, которые не ссорятся и любят своих детей, всех детей, одинаково. Мне очень повезло: в нашем доме был огромный чердак, и там я мысленно разговаривала со своей погибшей сестрой, советовалась с ней и, что меня удивляет до сих пор, была уверена в том, что в этом огромном мире где-то обязательно есть девочка, точная моя копия во всём, включая все мои беды, и от этого мне становилось легче… А окно для меня, наверное, в какой-то степени тоже море, которое всегда со мной, и не важно, где я: у себя дома, на даче или еду куда-нибудь на машине или на поезде. В такие моменты я счастлива. Но даже в такие моменты детство неумолимо всплывает в моей памяти. И да, все мы родом оттуда.
Благодарю Вас! Навеяло. Откровенность за откровенность.
Одинокое окно
Ночь наступила. Спят все давно …
Только одно
Светит в тумане чьё-то окно.
Пятый этаж. Угловая квартира.
Штора подробности жизни закрыла.
Стылая в луже мерцает вода…
Может быть, «Скорая» мчится сюда?
Может быть, в этой квартире беда?
Пятый этаж. Угловая квартира…
Может быть, дочка не позвонила?
Дети, работа, муж ненадёжный …
Вот и не спится, вот и тревожно…
На страже тонометр, куча таблеток …
Мысли тревожные: что там у деток?
Стих «Одинокое окно» очень в тему! Да, так подчас и играет наше воображение, побуждая нас заглянуть в чьи-то чужие судьбы...))).
Это было небольшое лирическое отступление…
В детстве за меня отвечал старший брат.
Разница в возрасте была ощутима. Конечно, ему совсем не хотелось заниматься со мной, такой малявкой… Но приходилось. Когда я немного подросла, то стала его приложением.
Чтобы улизнуть из дома, поиграть с ребятами, он был вынужден всегда и всюду брать меня с собой. Его друзья вскоре к этому привыкли и принимали моё присутствие как само собой разумеющееся… На футбол? Да Бога ради. Я при них, как мальчик на побегушках, моя святая обязанность — принести улетевший к черту на кулички мяч. И так во всех их играх я на подхвате. Зато не помню, чтобы меня в детстве хоть кто-нибудь из ребят обидел. Никто. Никогда. Я долго была под защитой орлов, старше меня на 5лет.
В 6 лет у меня появилась подружка, её тоже звали Наташа. Однажды мама со своими отчётами задержалась на работе, мы играли у подруги дома. Было уже поздно, и родители Наташи предложили переночевать у них. Конечно, я согласилась. Утром, придя домой, я никого не застала и пошла к маме на работу.
Село небольшое, все друг друга знают. Иду себе и не могу понять, почему так на меня смотрят, а одна бабушка остановилась и давай ругаться:«Ты где была? Мать чуть с ума не сошла. Всю милицию на уши поставила. Всю ночь тебя разыскивали, все чердаки оползали… Даже по радио обьявляли несколько раз о твоей пропаже.». Из всего сказанного бабулей, я усвоила одно — про меня говорили по радио!!!
Что с меня взять? 6лет…
Прихожу к маме, стою у порога и радостно и звонко обьявляю:" А про меня сегодня по радио говорили!.. "
Мама в это время хотела звонить в милицию, что результатов никаких… Увидев меня, схватила, плакала, смеялась, потом
отзвонилась, что я нашлась, жива и здорова.
Оказывается, у подружки радио было выключено, чтобы не разбудить её младшего братика… К ним зайти и спросить, не видели ли они меня, как-то не догадались, я всегда спрашивала разрешения, а тут как-то получилось, что никого не предупредила.
Так в 6 лет я стала «героем» дня…
Веселенькое было времечко!..
СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА
Спасибо, что написали о проблеме, уважаемые Надежда и Наталья! Вот вроде бы работающая ссылка. У меня получается перейти по ней на воскресную страницу. Как у вас — ?
Мне исполнилось пять, отмечать день рожденья
У родителей вновь не имелось причин.
Только мама с утра, видно, под настроенье,
Дочку за руку взяв, повела в магазин.
В этом детском раю даже запах волнует,
А ещё откровение мамы – «люблю»-
— Выбирай, — мне сказала, — из кукол – любую,
Вот какую захочешь сегодня куплю!
Ошалев от широкого жеста, с восторгом
Я смотрела на полки, где до потолка
В разноцветных нарядах стандартов промторга
Кукол, мишек и зайцев толпились войска.
Осознав, что оставив вопрос без ответа,
Восхитительный шанс упустить я могла,
Я дрожащей рукой показала: «Вот эту!»,-
Ту, что самой красивой на полке была.
Златокудрое чудо стояло на кассе,
И ребёнка пленял красоты эталон–
Перламутровый блеск на вишнёвом атласе,
Складки кружев на белом шелку панталон.
Путь домой я не помню, но что интересно,
С самой лучшею куклой играла три дня–
Холодна и громоздка. Была, если честно,
Эта кукла лишь чуточку ниже меня.
Этикетка вещала, что имя – Анюта.
Мне шептал «Вероника» фантазий простор.
Но была заколдована кукла как будто,
И «по паспорту» имя её до сих пор.
«До сих пор» потому, что сидит, как и прежде,
В доме мамы Анютка – здорова, жива.
Пусть давно уже нет её старой одежды,
Но всё так же кудрява её голова.
Но для мамы Анютка была чужеродной,
Словно символ чего-то, что мне не понять.
Приезжая домой каждый раз, ежегодно,
Я её находила в сарае опять.
Доставала её, слоем пыли покрытой,
С паутиной седой в золотых волосах.
И горячей воды наливала в корыто,
Шила новый наряд со слезой на глазах.
Эту странную вольность я маме прощала,
Шила платье, а мама смеялась в ответ.
Сжечь, иль выбросить куклу она не решалась,
Но в сарай уносила её тридцать лет.
Что за боль не могла оправдать этим сроком?
Недовольство, что куклу оставила ей?
Или жест свой простить, невозможно широкий,
Что промторг оценил в пять советских рублей…
14.04.2020
Стихотворение очень понравилось! Плакать себе не разрешаю… Но держусь с трудом.
Отношения с куклой у меня не складывались, — 16 рублей душили меня чувством вины, а потом брат разрисовал ей лицо синей пастой…
Это, по-моему, один из столпов советского воспитания: надо обязательно быть гордым. Что-то вроде постулата, обязательного к исполнению с самого раннего детства. Неприлично просить. Неприлично показывать, что тебе чего-то хочется. Помню, как моя мама рассказывала мне — и как о знаке времени, и как о личном достижении отчасти, — что ни разу не попросила у своей матери коньки. Хотя ей очень хотелось кататься, учиться фигурному катанию, которое в то время было популярно…
С одной стороны, в подобной сдержанности есть свои плюсы. Это факт. Да и время было финансово сложное. С другой… иногда таким образом в людях воспитывали совсем не те прекрасные качества, какие собирались. Я имею в виду умение ценить деньги не как здоровую бережливость, а как, наоборот, нездоровую привязанность к финансам, своего рода зависимость от них.
***
Отчасти в ту же тему. Буквально на днях посмотрела фильм «Дневной поезд». Мне его давно советовали, поскольку я люблю диалоговые фильмы, где все действие держится на разговорах нескольких героев. Таких картин много и в европейском кино (например, у того же И. Бергмана), ну, и в советском кинематографе их хватает… Если честно — у меня ужасные ощущения от просмотра… Все пишут: «как это трогательно», «как это интеллигентно», а я смотрю и мне тошно от обоих персонажей! И как-то обидно за них. Вроде им уже немало лет обоим, а они все еще живут по подсказкам родителей, по чужой воле, ориентируясь на какие-то чужие внешние успехи. И потом — «взрыв» персонажа Гафта в гостях у его друга. По пустому, в общем-то, поводу. Он недоволен собой, а друг в этом «виноват» оказался.
Сама ситуация кажется абсурдной — взрослых людей хотят женить. Зачем? Они ведь к этому вовсе и не рвутся, судя по их поведению… А мама героини — просто бомба!.. Мол, «вот ты дочь неблагодарная, я тебе все ночи напролет шью платья, а ты не хочешь с женихами нормально общаться».?.. В итоге у дочери сплошной комплекс вины, что она ведет себя «не так» — не соответствует чужим ожиданиям.
Ну, как-то так. На такой поток сознания Вы меня «мотивировали» своими текстами...))).
Как отразилась на мне эта история с куклой, да никак! Мой хороший вкус, кстати, доставшийся мне от родителей, со мной, и я лучше приобрету одну достойную вещь, чем десять дрянных. Умею из ничего сделать шедевр, и это спасало меня в трудные времена. Бережливой я не стала и скрягой не стала. И мама у меня не была скрягой: если у неё появлялась достойная вещь, скажем, отрез на платье, тотчас возникало желание осчастливить кого-нибудь. Сама она легко обходилась…
Что касается фильма, я его не смотрела, но по собственному опыту знаю, как важно родителям пристроить своё чадо. Это такой пунктик у многих. Раньше, кроме всего прочего, было стыдно, если дочь никто замуж не взял. На семью ложилось несмываемое пятно.
Фильм мне не понравился, повторюсь, так что не знаю, стоит ли смотреть… Разве что если любите Терехову и Гафта. Вообще к актерам в этом фильме претензий нет. И некоторые цитаты мне понравились. В частности, касающиеся темы затронутого «пунктика» и «несмываемого пятна»:
«Я замечаю, что Вы вообще не можете жить с мыслью, что Ваша дочь не пристроена. Разве есть в этом что-то, оскорбляющее материнское достоинство?». И… «Нет ничего более жалкого, чем холостой мужчина. Не жениться до 42 лет — это все равно что перенести на ногах грипп. Бесследно это никогда не проходит»
Человек — это продукт и даже в какой-то степени жертва наследственности, побочных эффектов воспитательного процесса, влияния окружающей среды и работы над собой. Даже близнецы в одной семье вырастают разными. И выводы из тех или иных ситуаций мы делаем разные. Чаще всего, не решаемся предъявлять претензии родителям и даже оправдываем любые их действия полученным результатом, а потом, и это самое ужасное, применяем те же методы, от которых страдали сами, к собственным детям. И очень важно в этой связи освободиться от этих пут вовремя, не врать себе, не считать своих родителей богами, да и самих себя не обожествлять. Ангелов на Земле нет. Увы!.. Замечу также, что это обобщённый опыт. С кем ни приходилось говорить на эту тему, для всех она болезненна.
Фильм, наверное, припоминаю. Смотрела, но очень давно. У меня два сына, но как успела заметить, редкая женщина, имеющая дочь, не болеет мыслью, что той не найдётся пары. Достойной — это уже вопрос другой. Думаю, корни этой проблемы следует искать в древности. С мужчинами дело обстоит иначе. Лучше Франсуа Мориака в его романе «Матерь» об этом никто не писал. Конечно, это моё субъективное мнение. )
Про освобождение от пут — тоже в точку. Вообще богами своих родителей люди обычно до 14-16 лет считают. То есть в детстве. И это абсолютно нормальная история. Как и то, что потом идет естественный период сепарации. Когда такое разделение затягивается, по разным причинам, иногда в том числе и по вине самих родителей, то это и становится проблемой. Не только для членов одной семьи, к сожалению.
Да, наверное, что-то в этом есть: по поводу темы замужества как обязательной «галочки» в паспорте… Многие до сих пор этим «болеют». К счастью, чего не было — того не было! У моей мамы всегда были другие «пунктики» на мой счет
Не читала «Матерь»!.. Обязательно прочту — мне сейчас это особенно в тему, да и писатель замечательный.
Мне лично еще очень нравится про отношения мамы-сына роман другого француза, Ромена Гари — «Обещание на рассвете». Такой личный, теплый, ироничный текст.
Спасибо Вам за рекомендацию.
P.S. И, кстати, фильм с ругательным названием я посмотрела! Это я про «Дурака»:). Как-нибудь поделюсь, как будет повод, своими мыслями в его тему более подробно.
Обязательно почитаю «Обещание на рассвете». Спасибо Вам за рекомендацию. Мне эта тема интересна, а здесь, насколько я понимаю, и взгляд несколько другой.
Насчет Ромена Гари и разницы взгляда — не факт… Еще раз повторюсь, я пока не читала «Матерь». У Гари в книге мама гиперопекающая, этакий тип «еврейской матери», со всеми ее плюсами и минусами. Но он сам пишет о ней с огромной любовью, хотя местами и иронизирует))).
***
Вообще сам Гари — любопытный человек был. Помимо того, что литературный мистификатор. Даже в интернете полно баек о нем. Например, такая: «Гари всю жизнь был невероятным романтиком и авантюристом. Даже будучи „солидным“ дипломатом, Гари совершал поступки, которые шокировали его коллег. Так однажды, находясь в качестве советника французского посольства в Берне, он неожиданно прыгнул в зоопарке в ров к медведям и сидел там, пока не приехала пожарная машина. Медведи его не тронули. “А чего от них ждать? Это же швейцарские медведи. Они такие же скучные, как все в этом городе…”»
»Бизнес просто реагирует на вкусы потребителей, — говорит Джудит Шевалье, профессор финансов и экономики Йельского университета. — В некоторых вопросах компании успешно манипулируют обществом, но в чем-то виноваты и сами люди"".
Сейчас на смену культуре консюмеризма (потребительства) приходит культура минимализма. Но это пока только на уровне ростков… повсеместно ее еще не заметно. Так, в Америке снимают кое-что в эту тему, книги пишут, некоторые люди меняют большие бестолковые дома на дома поменьше, которые легче содержать. Ну, а у нашей страны, как всегда, «свой» путь.
Я думаю, если родитель сам привык слушаться, то он может и ребенка к этому приучать, чтобы тому легче жилось: ну, проще было вписаться в коллектив на работе и т.п. Как-то так, наверное (?). Я просто размышляю. Не утверждаю, конечно… Нельзя научить свободе, если сам не свободен. В этом-то и проблема.
А мама той девочки молодец! :)
.
Что до формы вообще, то она изначально появилась как знак социального равенства. Вроде бы благая мысль. Выделяться нужно прежде всего знанием, а не дорогим нарядом. Но… во всем можно дойти до идиотизма, что по итогу и произошло. Сейчас есть перегибы с другим: дети чуть не голые в школу приходят… мини, декольте… (((. Как итог — опять в ряде школ возвращаются к стандартизированной одежде. Вечные «качели».
Самое бредовое — насчет всеобязательных косичек!.. Мне, кстати, про такое никто не рассказывал из старших родственниц. Думаю, строгость соблюдения правил тоже варьировалась от школы к школе… Мне недавно моя сноха, родившаяся в небольшом украинском городе, сообщила, что ее в свое время не брали в детский сад без челки… пришлось ее маме вести ее в парикмахерскую стричься. А сноха моя ровесница! Вот это меня нехило удивило!.. Странные отголоски былых времен!..
У женщин все-таки разнообразие неплохое. Вроде бы формально рамки есть, но при этом выбор из… 18 причесок. Я лично столько причесок даже не назову, пожалуй!.. :)
Единственное — креативность сама по себе часть интеллектуальных способностей… поэтому я бы так не разделяла все же: или умный или креативный. Но, в целом, понятно, о чем Вы написали.
Есть такая фраза: из умных и активных побеждают активные. Из активных выигрывают наиболее умные. Вот она, наверное, во многом отражает сегодняшнюю ситуацию… а, впрочем, пожалуй, и не сегодняшнюю тоже…
А кого считать умным? Начитанных? Грамотных? Если ребёнок — медалист, то чаще тоже просто послушный, и реально учил то, что задают. Вот он и станет «терпилой».
Но есть другой тип умных — шустрых и сообразительных, логически мыслящих. Которые вообще не делают уроки, кроме письменных, но такие же отличники. Конечно, при условии, что преподаватели хоть что-то рассказывают на уроках, не перебарщивают с самостоятельной подготовкой. Такие чего-то добиваются в жизни.
А есть третий тип умных — которые всегда найдут у кого списать, и кого заставить сделать работу за них, присвоив себе все результаты.
Вот эти и становятся руководителями, организаторами, депутатами, и т.д.
«А кого считать умным? Начитанных? Грамотных? Если ребёнок — медалист, то чаще тоже просто послушный, и реально учил то, что задают. Вот он и станет «терпилой»». Так и есть — отличник чаще всего именно «терпила» и есть. Ну, увы… В этом есть и свои плюсы. Но и минусов полно. Чтобы выполнить всю домашку, надо нехило постараться, так что это как раз история о хорошо развитом терпении!..
Про разные типы ума согласна с Вами. Назвать эти «разные типы ума» можно и по-другому: активность, пронырливость, сообразительность. Но суть от этого изменится мало:).
.
Вообще же я не думаю, что это какое-то непременное свойство умного человека: работать за десятерых и ничего с этого не иметь. Вернее, такое может быть как с умным, так и с дураком, при наличии определенных психологических проблем. Закомплексованность и т.п. Поэтому напрямую к уму Ваш пример все же не относится.
Насчет истории с олигархом — здесь слишком мало конкретики. Может, он домашний абьюзер и бьет эту гуляку-двоечницу почем зря. Красивый фасад не всегда знак качества. К слову, и фильм «Большая маленькая ложь», в частности, об этом. Поэтому… сложно сказать наверняка. Со стороны — почти никогда нельзя сказать наверняка.
«Но вот мир до сих пор не определил, кто из них умнее…». Мир и не обязан определять. Людям бы самим для себя определиться, это было бы уже неплохо! )))
Чтобы семья настоящая была (то есть поддержка статуса)
Чтобы муж не ушёл
Муж просит, чтобы мужиком себя чувствовать, а не инвалидом бесплодным
Для себя (!)
Пора уже, а то пустоцветом обзовут
Чтобы было кому наследство оставить
Чтобы было кому в старости ухаживать
А теперь попробуйте назвать причину рождения в пользу ребёнка.
Всё самое настоящее в этой жизни абсолютно бессмысленно, если задуматься. Тем и приятно. Как стихи. Нет особого смысла их писать: их мало кто прочтет, их мало кто оценит, но… мы продолжаем заниматься их написанием, потому что есть что-то в нас самих, что не дает нам остановиться! И жизнь продолжается. Вопреки. Или благодаря. И когда людям реально хреново, — в больницу, например, они попадают, — они чаще всего читают именно далекие от рациональности, зато такие любимые стихи… А не бух.отчеты, например.
***
Напоследок процитирую Вам в эту же тему Андрея Курпатова. «Если рассуждать с точки зрения формальной логики и здравого смысла, нет ничего более бессмысленного, бестолкового и даже безрассудного, чем обзаводиться детьми». Далее уважаемый исследователь приводит целый ряд причин против. (С точки зрения формальной логики это реально контраргументы). Целых три листа минусов и неудобств, неизбежных родительских разочарований… И… та-дам! Всего одна строка в финале, поясняющая, зачем мы все-таки продолжаем «делать это» в мире, знакомом с контрацепцией: «Мы рожаем детей, чтобы понять, что такое настоящая любовь, чтобы пережить настоящую любовь, чтобы стать настоящей любовью». Что тут мне остается добавить? Приятно согласиться с умным человеком. (Кстати, умным во всех смыслах
Конечно же, в случае с «залетом» сложно говорить о какой-то рефлексии по поводу грядущего пополнения семейства… Хотя, кстати, инстинкты — великое дело, поэтому часто и в таких «кривых» семьях матери ооочень любят своих изначально не желанных детей. Отцы чаще нет. Ну, у них по-другому любовь к детям зарождается. Я думаю, она идет через женщину. Вряд ли по-настоящему любящий жену муж не полюбит своего ребенка от нее. И с другой стороны, верно и обратное: вряд ли муж полюбит детей от не особо любимой им женщины, даже если она и пыталась его таким образом удержать. Такие банальные истины… но вполне справедливые, на мой взгляд.
***
Вы, безусловно, правы в том, что проблема может начинаться еще до рождения ребенка… с того, что взрослый человек пытается просто заполнить некую пустую графу собственной жизни, вообще не думая о потребностях будущего малыша. Но, знаете, меня саму, наверное, просто больше интересует не вопрос о том, как изначально плохие, неумелые и не любящие родители портят воспитанием своего ребенка, (это, безусловно, печально, но закономерно), а другой вопрос — как так получается, что в хороших семьях, с сознательными и заботливыми родителями ребенок чувствует себя подчас лишним, ненужным, одиноким?.. А ведь и такое часто происходит. И здесь именно о психологии идет речь. О том, что взрослый не всегда может понять психологию ребенка, встать на его место…
Хорошо, что сейчас многие стали выкладывать видео с детьми, где 2-х летки порой бывают не то что логичны, но даже мудры. Родителям нужно научиться слушать и СЛЫШАТЬ своих детей. Можно уже лет с трёх считать их за пусть не взрослых, но за равноправных членов семьи, и помогать решать их проблемы тоже, а не отмахиваться как от пустяковых. Ведь маленькая проблема маленького человека настоль же пропорционально велика как большая для большого. Главное, не превратиться при этом в ЯЖЕМАТЬ…
Согласна с тем, что «маленькая проблема маленького человека настоль же пропорционально велика как большая для большого».
— Ну, а образ «яжематери» — это к разговору об очередных перегибах из лучших побуждений. Вчера их, по-моему, уже обсуждали с Вами))). Хотя и на примере другой тематики. Впрочем, тоже опосредованно связанной с детством.
Дом с высоким крыльцом.
Вечер спустился плавно.
За звездами шлёт гонцов.
С речки туман поднимается,
Дышит влажностью лес,
Всё в ожидании таинства,
В дымке растаял плёс.
Дом на горе на окраине,
Рад слушать леса оркестр,
Старенький пёс с завалинки,
В будку на ночь залез.
Туман к крыльцу подбирается,
В доме зажегся свет,
Месяца тонкого краешек
— Собольке – собаке — сосед.
Бабушка в доме хлопочет,
С внучкой осталась одна.
Девочка, что-то стрекочет,
А женщина занята.
На улицу б выскочить срочно,
Забыла в ограде ведро,
Но внучка – за бабушкой хочет,
А холодно и темно.
Скрипнула дверка дома,
Соболька глядит в темноту,
Кто нарушает дрёму?
Не спит. Всегда на посту.
Внучка в тоненьком платьице,
— За бабушкой — на крыльцо,
Веревочку невнимательно,
Дернула за кольцо.
Дверка со скрипом закрылась,
— Ой, бабуля, прости,
Очень я торопилась,
К Собольке с тобою пойти.
И вот перед запертой дверью,
Ночью у края леса,
Соболька сидит растерян,
И ветер шумит — повеса.
В будке нашлась фуфайка,
Любимая пёсья постелька,
— Ну, скорей, одевай – ка,
— Ах, хороша шинелька.
Внучка в собачьей подстилке,
Греется на крыльце,
Вся в шерсти, и опилках,
С тенью от звезд на лице.
Бабушка, проблему решила,
И успокоила внучку,
Позднее молоком напоила,
И не устроила взбучку.
Каждый холодный август,
Я вспоминаю тот вечер,
Бабушки взгляд уставший,
Холодный, холодный ветер.
Заботливый взгляд любимый,
Собачью фуфайку и ночь,
Если бы повторить всё,
Но бабушки нет — до слёз.
12.05.2020
С уважением.
За руку по полю, бабушка ведет.
Ком в горло закатился. Хочется реветь.
В небе белый парус. Самолета след.
Я иду по полю. Мне всего пять лет.
Как же оказалась от дома вдалеке?
Слезы закипают, я в немой тоске.
— Ну, смотри, скорее, кузнечик на траве.
Где живет бездельник? Он на стебельке?
Вот, заячьи ушки – глянь, в моей руке.
Я не понимаю, как же это так,
Заячие ушки – а в руках трава.
У Бабушки в деревне много волшебства,
Вот заячья капустка, а в небе — стрекоза.
Как здесь все красиво, высохла слеза.
С бабушкой дорога — лёгка и светла.
Столько трав красивых, гороховы поля.
Мы идем по полю. Бабушка и я.
Хорошо, что мама в деревню привезла.
Впереди все лето, счастье — на — года.
От аэродрома — до дома на горе,
Новый мир открылся, что не снился мне,
Запахом остался тот далекий день,
Зноя, солнца летнего. Он — мой тайный ген.
В небе белый парус. Самолета след.
Ком в горло закатился, хочется реветь.
Вспомню, запах детства, кукурузы тень.
Жалко нет бабули, не вернуть тот день.
***
Тема детства нас не отпускает!.. ))) И в марафоне (нет-нет, да и возвращается кто-то к этой, самой первой главе), и в жизни, конечно, тоже!..